Языковая личность и коммуникативная компетентность
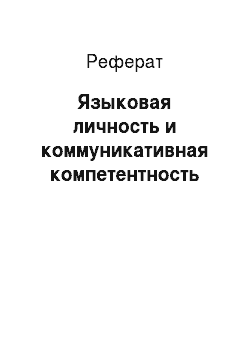
Как известно, подход к языку усилил интерес исследователей непосредственно к пользователю языка, ибо язык как комплексная система служит человеку и, не в последнюю очередь, сопровождает его жизнедеятельность в социуме. Поэтому не может казаться случайностью развитие антропоцентрической лингвистики, включающей языковую личность в лингвистическую парадигму. Не требует особых доказательств аксиома… Читать ещё >
Содержание
- 1. Языковая личность
- 2. Коммуникативная компетентность
- Заключение
- Список использованной литературы
Языковая личность и коммуникативная компетентность (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Опыты все более углубленного осмысления феномена языковой личности нашли свое отражение в ряде новых исследовательских направлений, а именно: в, психолингвистике,, когнитивной лингвистики,, социолингвистики,, коммуникативной лингвистики и др., что говорит об актуальности интереса к названной категории со стороны языковедов при описании многих проблем человеческой активности в социуме и особенно при исследовании всех свойств языка и речевого поведения индивида. К этому можно лишь добавить, что вопросы функционирования категории «языковая личность» широко обсуждались и обсуждаются в трудах, исследования эмоционально-прагматического компонента коммуникативного поведения участников профессионального общения в условиях ситуаций агрессивной языковая личность рассматривается в комплексном виде. Именно поэтому для решения поставленных в исследовании задач включаются различные, реализованные в интерактивных актах вербальной агрессии ипостаси языковой личности. В этом плане необходимо признать, что практически во многих исследованиях, которые посвящены закономерностям, связанным с реализацией в языке и потенций языковой личности, отмечается тем или иным образом эмоциональная составляющая того, что именуется коммуникативной компетенцией.
В целом, не возражая против предложенного определения компетенции, все же целесообразно обратить внимание на тот факт, что компетенция являет собой только часть компетенции эмоциональной, которая в свою очередь может также включать в себя знания о невербальных средствах выражения эмоций. В рамках предлагаемого исследования эмоционально — прагматического компонента коммуникативного поведения личности заслуживает особого внимания идея, который, анализируя предложенное определение языковой личности, подчеркивает, что, помимо прагматико-мировоззренческого, кумулятивно-репродуктивного и аспектов, способствующих выделению в языковой личности данного определения, необходимо выделить также и эмотивно-прагматический аспект или языковой личности. Выделяя особо эмотивно-прагматический аспект, он отмечает, что общем виде представляет собой из которых наиболее часто используемыми являются лексические языковые средства — экспликации, дескрипции и номинации психических переживаний человека, компетенция входит в когнитивную сферу познавательного процесса языковой личности, т. е. непосредственно в языковой личности.
Очевидно, сказанное излагает свернутую идею о том, что эмоции могут быть структурированы и что они способны обладать типовым конструктивным (вербальным) оформлением. Структура эмоции представлена многоуровневым образованием. Так, в первую очередь возникающее событие-стимул любого порядка требует от человека осуществления «эмоциональной кодировки» (термин Н. и Б. Квита), когда, человек, реагируя на предъявленный стимул, должен определить (понять,), что представляет собой встретившийся или предъявленный ему жизненным сценарием событийный стимул и как его воспринимает (и понимает, трактует, «прочитывает») человек: как опасность, как оскорбление, как радость, как печаль, как гнев, как раздражение и т. д. То есть, опираясь на отечественную психологическую традицию, такой событие-стимул требует от человека осуществления процесса как формы виде «грубой эмоциональной оценки».Другими словами, уже на уровне индивидуального акта восприятия необходимо «подобрать соответствующую категорию, однако, чтобы ее подобрать, следует знать к чему подбирать».
Поэтому вслед за этапом эмоциональной кодировки чередуется этап оценки. В действительности, после того, как человек понял (прочувствовал), что собой представляет событие-стимул (т.е. человек эмоционально оценил его по шкалам: хорошо / плохо это для него; как это к нему относится и т. д.) и оценил тем или иным образом, наступает этап физиологической реакции, когда человек вспыхивает от ярости плачет, и т. п., который именуется «готовность к действию». И тогда человек бросается с кулаками, ругается, бежит, нападает, вскидывает руки, кричит, свистит, бросается на шею (обниматься, целоваться, кусаться) и т. п.Совершенно очевидно, что процесс эмоций напоминает с (вертикальными) и синтагматическими (горизонтальными) связями, реализуемыми в коммуникативном взаимодействии. Перечисленные этапы этого процесса можно сопоставить с парадигматическими изменениями, как (вертикальным) набором эмоций, которым располагает человек, как некоторый репертуар. В качестве аналога синтагматических (горизонтальных) изменений можно принять фактор «личной вовлеченности», отражающий степень (насколько, как глубоко) отношения конкретного стимула-события лично к каждому из участников коммуникативной интеракции и порог (или это абстрактное что-то, или конкретное, нечто непосредственно эмоционально связано с происходящим). Иначе говоря, в комплексном виде процесс эмоции определяет все перечисленные стадии реакции с обязательным учетом оценки и самооценки (а также идентификации и самоидентификации) ее и степени: насколько это событие-стимул относится к тебе.
Становится понятным, что в человеке коммуникативном есть очень сильное и укорененное самоощущение, с которым человек живет, но в то же время он находится в противоречии с очевидными фактами. К таким очевидным фактам следует, в первую очередь, отнести положение (установку), что эмоция — феномен в высшей степени предсказуемый.
Но противоречие его знаний может проявиться уже на том этапе, когда возникает вопрос: разве человек коммуникативный не может удивить сам себя, например, полагая, что будет радоваться (на концерте, при чтении книги, при встрече со старым другом), а в действительности пришлось испытать огорчение (досаду, неловкость). Или наоборот, человек думал, что он будет огорчен, а сценарий коммуникативного взаимодействия вдруг повернул дело таким образом, что человек испытал облегчение. Ср., например, высказывание в одном сценарии Ну, что за меня окружают! расценивается как оскорбление, а в другом — Ах, ты мой бедный, бедный как утешение. Конечно, такие сценарии в жизнедеятельности человека могут быть. По всей вероятности, можно говорить о том, что тот стереотип, который у был и к которому они были даже готовы, не сработал, но зато сработал совершенно другой (подсказанный ситуацией коммуникативного взаимодействия) сценарий. Основная идея высказанных предположений может свестись к тому, что такой сценарий во время коммуникативного обмена у человека все же был: Человек коммуникативный (интерактивный) знал заранее (или был готов / подготовлен к тому), каким образом и в какой форме он будет на тот или иной типовой стимул-событие реагировать. Хотя, безусловно, такое знание, как это часто бывает с любым знанием, может оказаться или оказывается ошибочным (неверным), тем не менее, «идея предсказуемости», «идея предвидения», «идея», т. е. идея о том, что человек знает, как можно реагировать в эмоциональном плане, в нем существует и имеет экспериментальное подтверждение.
Как известно, подход к языку усилил интерес исследователей непосредственно к пользователю языка, ибо язык как комплексная система служит человеку и, не в последнюю очередь, сопровождает его жизнедеятельность в социуме. Поэтому не может казаться случайностью развитие антропоцентрической лингвистики, включающей языковую личность в лингвистическую парадигму. Не требует особых доказательств аксиома, которая утверждает, что практически невозможно адекватно изучать функциональную природу языка вне сферы его употребления человеком говорящим, человеком, использующим этот язык в виде естественных языковых (дискурсивных) практик в сценариях своей жизнедеятельности. Выше уже было показано, что для антропоцентрической лингвистики главным является тезис о том, что язык по своей природе насквозь психологичен, человечен, т.к. он всегда сопровождает человека, маркирует его поведение и выражает его внутреннюю природу. Как справедливо отмечает, «язык человека настолько глубоко и органически связан с выражением личностных свойств самого человека, что, если лишить язык подробной связи, он едва ли сможет функционировать и называться языком».Поэтому одним из конкретных проявлений антропоцентризма в лингвистике можно считать разработку такой категории, как языковая личность. Применение этой языковой способности и ее воздействие на личность говорящего субъекта проявляется далее в виде мышления и говорения, проходящих в языковой форме, а также структур действия на основе языкового размышления. В отечественных лингвистических разработках категориальные свойства языковой способности приобрели особое звучание и наполнились особым теоретическим содержанием, в частности, благодаря трудам, который предложил иное прочтение идеи языковой системы.
Опыты все более углубленного осмысления феномена языковой личности нашли свое отражение в ряде новых исследовательских направлений, а именно: в, психолингвистике,, когнитивной лингвистики,, социолингвистики,, коммуникативной лингвистики и др., что говорит об актуальности интереса к названной категории со стороны языковедов при описании многих проблем человеческой активности в социуме и особенно при исследовании всех свойств языка и речевого поведения индивида. К этому можно лишь добавить, что вопросы функционирования категории «языковая личность» широко обсуждались и обсуждаются в трудах, исследования эмоционально-прагматического компонента коммуникативного поведения участников профессионального общения в условиях ситуаций агрессивной языковая личность рассматривается в комплексном виде. Именно поэтому для решения поставленных в исследовании задач включаются различные, реализованные в интерактивных актах вербальной агрессии ипостаси языковой личности. В этом плане необходимо признать, что практически во многих исследованиях, которые посвящены закономерностям, связанным с реализацией в языке и потенций языковой личности, отмечается тем или иным образом эмоциональная составляющая того, что именуется коммуникативной компетенцией.
В целом, не возражая против предложенного определения компетенции, все же целесообразно обратить внимание на тот факт, что компетенция являет собой только часть компетенции эмоциональной, которая в свою очередь может также включать в себя знания о невербальных средствах выражения эмоций. В рамках предлагаемого исследования эмоционально — прагматического компонента коммуникативного поведения личности заслуживает особого внимания идея, который, анализируя предложенное определение языковой личности, подчеркивает, что, помимо прагматико-мировоззренческого, кумулятивно-репродуктивного и аспектов, способствующих выделению в языковой личности данного определения, необходимо выделить также и эмотивно-прагматический аспект или языковой личности. Выделяя особо эмотивно-прагматический аспект, он отмечает, что общем виде представляет собой из которых наиболее часто используемыми являются лексические языковые средства — экспликации, дескрипции и номинации психических переживаний человека, компетенция входит в когнитивную сферу познавательного процесса языковой личности, т. е. непосредственно в языковой личности.
Очевидно, сказанное излагает свернутую идею о том, что эмоции могут быть структурированы и что они способны обладать типовым конструктивным (вербальным) оформлением. Структура эмоции представлена многоуровневым образованием. Так, в первую очередь возникающее событие-стимул любого порядка требует от человека осуществления «эмоциональной кодировки» (термин Н. и Б. Квита), когда, человек, реагируя на предъявленный стимул, должен определить (понять,), что представляет собой встретившийся или предъявленный ему жизненным сценарием событийный стимул и как его воспринимает (и понимает, трактует, «прочитывает») человек: как опасность, как оскорбление, как радость, как печаль, как гнев, как раздражение и т. д. То есть, опираясь на отечественную психологическую традицию, такой событие-стимул требует от человека осуществления процесса как формы виде «грубой эмоциональной оценки».Другими словами, уже на уровне индивидуального акта восприятия необходимо «подобрать соответствующую категорию, однако, чтобы ее подобрать, следует знать к чему подбирать».
Поэтому вслед за этапом эмоциональной кодировки чередуется этап оценки. В действительности, после того, как человек понял (прочувствовал), что собой представляет событие-стимул (т.е. человек эмоционально оценил его по шкалам: хорошо / плохо это для него; как это к нему относится и т. д.) и оценил тем или иным образом, наступает этап физиологической реакции, когда человек вспыхивает от ярости плачет, и т. п., который именуется «готовность к действию». И тогда человек бросается с кулаками, ругается, бежит, нападает, вскидывает руки, кричит, свистит, бросается на шею (обниматься, целоваться, кусаться) и т. п.Совершенно очевидно, что процесс эмоций напоминает с (вертикальными) и синтагматическими (горизонтальными) связями, реализуемыми в коммуникативном взаимодействии. Перечисленные этапы этого процесса можно сопоставить с парадигматическими изменениями, как (вертикальным) набором эмоций, которым располагает человек, как некоторый репертуар. В качестве аналога синтагматических (горизонтальных) изменений можно принять фактор «личной вовлеченности», отражающий степень (насколько, как глубоко) отношения конкретного стимула-события лично к каждому из участников коммуникативной интеракции и порог (или это абстрактное что-то, или конкретное, нечто непосредственно эмоционально связано с происходящим). Иначе говоря, в комплексном виде процесс эмоции определяет все перечисленные стадии реакции с обязательным учетом оценки и самооценки (а также идентификации и самоидентификации) ее и степени: насколько это событие-стимул относится к тебе.
Становится понятным, что в человеке коммуникативном есть очень сильное и укорененное самоощущение, с которым человек живет, но в то же время он находится в противоречии с очевидными фактами. К таким очевидным фактам следует, в первую очередь, отнести положение (установку), что эмоция — феномен в высшей степени предсказуемый.
Но противоречие его знаний может проявиться уже на том этапе, когда возникает вопрос: разве человек коммуникативный не может удивить сам себя, например, полагая, что будет радоваться (на концерте, при чтении книги, при встрече со старым другом), а в действительности пришлось испытать огорчение (досаду, неловкость). Или наоборот, человек думал, что он будет огорчен, а сценарий коммуникативного взаимодействия вдруг повернул дело таким образом, что человек испытал облегчение. Ср., например, высказывание в одном сценарии Ну, что за меня окружают! расценивается как оскорбление, а в другом — Ах, ты мой бедный, бедный как утешение. Конечно, такие сценарии в жизнедеятельности человека могут быть. По всей вероятности, можно говорить о том, что тот стереотип, который у был и к которому они были даже готовы, не сработал, но зато сработал совершенно другой (подсказанный ситуацией коммуникативного взаимодействия) сценарий. Основная идея высказанных предположений может свестись к тому, что такой сценарий во время коммуникативного обмена у человека все же был: Человек коммуникативный (интерактивный) знал заранее (или был готов / подготовлен к тому), каким образом и в какой форме он будет на тот или иной типовой стимул-событие реагировать. Хотя, безусловно, такое знание, как это часто бывает с любым знанием, может оказаться или оказывается ошибочным (неверным), тем не менее, «идея предсказуемости», «идея предвидения», «идея», т. е. идея о том, что человек знает, как можно реагировать в эмоциональном плане, в нем существует и имеет экспериментальное подтверждение.
Как известно, подход к языку усилил интерес исследователей непосредственно к пользователю языка, ибо язык как комплексная система служит человеку и, не в последнюю очередь, сопровождает его жизнедеятельность в социуме. Поэтому не может казаться случайностью развитие антропоцентрической лингвистики, включающей языковую личность в лингвистическую парадигму. Не требует особых доказательств аксиома, которая утверждает, что практически невозможно адекватно изучать функциональную природу языка вне сферы его употребления человеком говорящим, человеком, использующим этот язык в виде естественных языковых (дискурсивных) практик в сценариях своей жизнедеятельности. Выше уже было показано, что для антропоцентрической лингвистики главным является тезис о том, что язык по своей природе насквозь психологичен, человечен, т.к. он всегда сопровождает человека, маркирует его поведение и выражает его внутреннюю природу. Как справедливо отмечает, «язык человека настолько глубоко и органически связан с выражением личностных свойств самого человека, что, если лишить язык подробной связи, он едва ли сможет функционировать и называться языком».Поэтому одним из конкретных проявлений антропоцентризма в лингвистике можно считать разработку такой категории, как языковая личность. Применение этой языковой способности и ее воздействие на личность говорящего субъекта проявляется далее в виде мышления и говорения, проходящих в языковой форме, а также структур действия на основе языкового размышления. В отечественных лингвистических разработках категориальные свойства языковой способности приобрели особое звучание и наполнились особым теоретическим содержанием, в частности, благодаря трудам, который предложил иное прочтение идеи языковой системы.
Опыты все более углубленного осмысления феномена языковой личности нашли свое отражение в ряде новых исследовательских направлений, а именно: в, психолингвистике,, когнитивной лингвистики,, социолингвистики,, коммуникативной лингвистики и др., что говорит об актуальности интереса к названной категории со стороны языковедов при описании многих проблем человеческой активности в социуме и особенно при исследовании всех свойств языка и речевого поведения индивида. К этому можно лишь добавить, что вопросы функционирования категории «языковая личность» широко обсуждались и обсуждаются в трудах, исследования эмоционально-прагматического компонента коммуникативного поведения участников профессионального общения в условиях ситуаций агрессивной языковая личность рассматривается в комплексном виде. Именно поэтому для решения поставленных в исследовании задач включаются различные, реализованные в интерактивных актах вербальной агрессии ипостаси языковой личности. В этом плане необходимо признать, что практически во многих исследованиях, которые посвящены закономерностям, связанным с реализацией в языке и потенций языковой личности, отмечается тем или иным образом эмоциональная составляющая того, что именуется коммуникативной компетенцией.
В целом, не возражая против предложенного определения компетенции, все же целесообразно обратить внимание на тот факт, что компетенция являет собой только часть компетенции эмоциональной, которая в свою очередь может также включать в себя знания о невербальных средствах выражения эмоций. В рамках предлагаемого исследования эмоционально — прагматического компонента коммуникативного поведения личности заслуживает особого внимания идея, который, анализируя предложенное определение языковой личности, подчеркивает, что, помимо прагматико-мировоззренческого, кумулятивно-репродуктивного и аспектов, способствующих выделению в языковой личности данного определения, необходимо выделить также и эмотивно-прагматический аспект или языковой личности. Выделяя особо эмотивно-прагматический аспект, он отмечает, что общем виде представляет собой из которых наиболее часто используемыми являются лексические языковые средства — экспликации, дескрипции и номинации психических переживаний человека, компетенция входит в когнитивную сферу познавательного процесса языковой личности, т. е. непосредственно в языковой личности.
Очевидно, сказанное излагает свернутую идею о том, что эмоции могут быть структурированы и что они способны обладать типовым конструктивным (вербальным) оформлением. Структура эмоции представлена многоуровневым образованием. Так, в первую очередь возникающее событие-стимул любого порядка требует от человека осуществления «эмоциональной кодировки» (термин Н. и Б. Квита), когда, человек, реагируя на предъявленный стимул, должен определить (понять,), что представляет собой встретившийся или предъявленный ему жизненным сценарием событийный стимул и как его воспринимает (и понимает, трактует, «прочитывает») человек: как опасность, как оскорбление, как радость, как печаль, как гнев, как раздражение и т. д. То есть, опираясь на отечественную психологическую традицию, такой событие-стимул требует от человека осуществления процесса как формы виде «грубой эмоциональной оценки».Другими словами, уже на уровне индивидуального акта восприятия необходимо «подобрать соответствующую категорию, однако, чтобы ее подобрать, следует знать к чему подбирать».
Поэтому вслед за этапом эмоциональной кодировки чередуется этап оценки. В действительности, после того, как человек понял (прочувствовал), что собой представляет событие-стимул (т.е. человек эмоционально оценил его по шкалам: хорошо / плохо это для него; как это к нему относится и т. д.) и оценил тем или иным образом, наступает этап физиологической реакции, когда человек вспыхивает от ярости плачет, и т. п., который именуется «готовность к действию». И тогда человек бросается с кулаками, ругается, бежит, нападает, вскидывает руки, кричит, свистит, бросается на шею (обниматься, целоваться, кусаться) и т. п.Совершенно очевидно, что процесс эмоций напоминает с (вертикальными) и синтагматическими (горизонтальными) связями, реализуемыми в коммуникативном взаимодействии. Перечисленные этапы этого процесса можно сопоставить с парадигматическими изменениями, как (вертикальным) набором эмоций, которым располагает человек, как некоторый репертуар. В качестве аналога синтагматических (горизонтальных) изменений можно принять фактор «личной вовлеченности», отражающий степень (насколько, как глубоко) отношения конкретного стимула-события лично к каждому из участников коммуникативной интеракции и порог (или это абстрактное что-то, или конкретное, нечто непосредственно эмоционально связано с происходящим). Иначе говоря, в комплексном виде процесс эмоции определяет все перечисленные стадии реакции с обязательным учетом оценки и самооценки (а также идентификации и самоидентификации) ее и степени: насколько это событие-стимул относится к тебе.
Становится понятным, что в человеке коммуникативном есть очень сильное и укорененное самоощущение, с которым человек живет, но в то же время он находится в противоречии с очевидными фактами. К таким очевидным фактам следует, в первую очередь, отнести положение (установку), что эмоция — феномен в высшей степени предсказуемый.
Но противоречие его знаний может проявиться уже на том этапе, когда возникает вопрос: разве человек коммуникативный не может удивить сам себя, например, полагая, что будет радоваться (на концерте, при чтении книги, при встрече со старым другом), а в действительности пришлось испытать огорчение (досаду, неловкость). Или наоборот, человек думал, что он будет огорчен, а сценарий коммуникативного взаимодействия вдруг повернул дело таким образом, что человек испытал облегчение. Ср., например, высказывание в одном сценарии Ну, что за меня окружают! расценивается как оскорбление, а в другом — Ах, ты мой бедный, бедный как утешение. Конечно, такие сценарии в жизнедеятельности человека могут быть. По всей вероятности, можно говорить о том, что тот стереотип, который у был и к которому они были даже готовы, не сработал, но зато сработал совершенно другой (подсказанный ситуацией коммуникативного взаимодействия) сценарий. Основная идея высказанных предположений может свестись к тому, что такой сценарий во время коммуникативного обмена у человека все же был: Человек коммуникативный (интерактивный) знал заранее (или был готов / подготовлен к тому), каким образом и в какой форме он будет на тот или иной типовой стимул-событие реагировать. Хотя, безусловно, такое знание, как это часто бывает с любым знанием, может оказаться или оказывается ошибочным (неверным), тем не менее, «идея предсказуемости», «идея предвидения», «идея», т. е. идея о том, что человек знает, как можно реагировать в эмоциональном плане, в нем существует и имеет экспериментальное подтверждение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, языковая личность:
Носитель языка, который охарактеризован на основе анализа сделанных им текстов с точки зрения применения в этих текстах системных средств этого языка, чтобы представить его видение окружающей действительности и возможно для достижения каких-то его целей;
Название способа описания языковой способности человека, получение знания о личности на основе его письменного текста.
Выделяют 3 уровня рассмотрения языковой личности:
вербально — семантический;
когнитивный;
мотивационный.
Языковая личность является видом полноценного представления личности, вмещающим в себя и психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс. Компетентность коммуникативная [лат. competens — надлежащий, способный] — способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. В состав компетентности включают некоторую совокупность знаний, умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса.
Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного воздействия. Коммуникативный акт включает в себя анализ и оценку ситуации, формирование цели и операционального состава действия, реализацию плана или его коррекцию, оценку эффективности.
Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность в общении имеет несомненно инвариантные общечеловеческие характеристики и в тоже время характеристики, исторически и культурно обусловленные.
Коммуникативная компетентность складывается из способностей:
— Давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться;
— Социально — психологически программировать процесс общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации;
— Осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в коммуникативной ситуации.
Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. — М.: Наука, 1999. — 350 с.
Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопросы психологии. — 1991, № 1. — С. 33 — 44.
Буянова Л.Ю., Рыбникова В. А. Языковая личность как текст: про-блема образов сознания // Языковое сознание: Содержание и функционирова-ние. — М.: ИЯ РАН, 2000. — С. 42 — 43.
Вежбицкая А. Толкование эмоциональных концептов // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. -
М.: Русские словари, 1997. — С. 326 — 376.
Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001, № 1. — С. 64 — 72.
Изард К. Э. Эмоции человека. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 552 с.
Карасик В. И. Язык социального статуса. — М.: ИЯ РАН, 1992. 330 с.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. — 263 с.
Караулов Ю. Н. Что же такое «языковая личность»? // Этническое и языковое самосознание. — М.: Ин — т языкознания РАН, 1995. — С. 63 — 65.
Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. — Волгоград: Перемена, 2001. — 495 с.
Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). — М.: Диалог, 1998. — 352 с.
Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969. — 307 с.
Павлючко И. П. Эмотивная компетенция автора художественного текста (на материале произведений Г. Гессе). Дис. … канд. филол. н. — Волгоград: ВГПУ, 1999. — 205 с.
Тхостов А. Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с.
Шахнарович А. М. Онтогенез языкового сознания: развитие познания и коммуникации // Текст как структура. — М.: Наука, 1992. — С. 19−25.
Шахнарович А. М. Экспериментальное исследование реализации эмотивности в речевой деятельности // Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. — М.: Наука, 1991. — С. 99 — 113.
Шаховский В. И. Эмоции — мотивационная основа человеческого сознания // Языковое бытие человека и этноса. Вып.
6. — М. — Барнаул, 2003. — С. 215 — 222.
Шаховский В. И. Эмоциональный дейксис речевого жанра // Языковая личность: жанровая речевая деятельность. Тез. докладов научной конференции. — Волгоград: ВГПУ, 1998. — С. 104 — 105.
Шаховский В. И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. — Волгоград: Перемена, 1997. — С. 3 — 10.
Яковлева Е. Л. Эмоциональные механизмы личностного и творчес-кого развития // Вопросы психологии. — 1997, № 4. — С. 20 — 27.
Hymes D. Competence and Performance in Linguistic Theory // Language Acquisition: Models and Methods. — L.: Longman, 1971. — P. 3 — 24.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. — 263 с.
Шаховский В. И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. — Волгоград: Перемена, 1997. — С. 3 — 10
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. — 263 с.
Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001, № 1. — С. 64 — 72
Караулов Ю. Н. Что же такое «языковая личность»? // Этническое и языковое самосознание. — М.: Ин — т языкознания РАН, 1995. — С. 63 — 65.
Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001, № 1. — С. 64 — 72
Буянова Л.Ю., Рыбникова В. А. Языковая личность как текст: про-блема образов сознания // Языковое сознание: Содержание и функционирова-ние. — М.: ИЯ РАН, 2000. — С. 42 — 43
Шаховский В. И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. — Волгоград: Перемена, 1997. — С. 3 — 10
См.: Там же, стр. 100
Изард К. Э. Эмоции человека. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 552 с
Шаховский В. И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. — Волгоград: Перемена, 1997. — С. 3 — 10
Шахнарович А. М. Онтогенез языкового сознания: развитие познания и коммуникации // Текст как структура. — М.: Наука, 1992. — С. 19−25
Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). — М.: Диалог, 1998. — 352 с
См.: Там же
Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопросы психологии. — 1991, № 1. — С. 33 — 44
Hymes D. Competence and Performance in Linguistic Theory // Language Acquisition: Models and Methods. — L.: Longman, 1971. — P. 3 — 24
Шахнарович А. М. Онтогенез языкового сознания: развитие познания и коммуникации // Текст как структура. — М.: Наука, 1992. — С. 19−25
Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969. — 307 с
Карасик В. И. Язык социального статуса. — М.: ИЯ РАН, 1992. 330 с
Яковлева Е. Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития // Вопросы психологии. — 1997, № 4. — С. 20 — 27
См.: Там же, стр. 43
Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. — М.: Наука, 1999. — 350 с
Тхостов А. Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с
Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. — М.: Наука, 1999. — 350 с
Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. — М.: Наука, 1999. — 350 с
Тхостов А. Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с
Тхостов А. Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с
См.: Там же
Список литературы
- Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. — М.: Наука, 1999. — 350 с.
- Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы // Вопросы психологии. — 1991, № 1. — С. 33 — 44.
- Буянова Л.Ю., Рыбникова В. А. Языковая личность как текст: про-блема образов сознания // Языковое сознание: Содержание и функционирова-ние. — М.: ИЯ РАН, 2000. — С. 42 — 43.
- Вежбицкая А. Толкование эмоциональных концептов // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1997. — С. 326 — 376.
- Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001, № 1. — С. 64 — 72.
- Изард К. Э. Эмоции человека. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 552 с.
- Карасик В.И. Язык социального статуса. — М.: ИЯ РАН, 1992.- 330 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. — 263 с.
- Караулов Ю.Н. Что же такое «языковая личность»? // Этническое и языковое самосознание. — М.: Ин — т языкознания РАН, 1995. — С. 63 — 65.
- Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. — Волгоград: Перемена, 2001. — 495 с.
- Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). — М.: Диалог, 1998. — 352 с.
- Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969. — 307 с.
- Павлючко И.П. Эмотивная компетенция автора художественного текста (на материале произведений Г. Гессе). Дис. … канд. филол. н. — Волгоград: ВГПУ, 1999. — 205 с.
- Тхостов А.Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с.
- Шахнарович А.М. Онтогенез языкового сознания: развитие познания и коммуникации // Текст как структура. — М.: Наука, 1992. — С. 19−25.
- Шахнарович А.М. Экспериментальное исследование реализации эмотивности в речевой деятельности // Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. — М.: Наука, 1991. — С. 99 — 113.
- Шаховский В.И. Эмоции — мотивационная основа человеческого сознания // Языковое бытие человека и этноса. Вып.6. — М. — Барнаул, 2003. — С. 215 — 222.
- Шаховский В.И. Эмоциональный дейксис речевого жанра // Языковая личность: жанровая речевая деятельность. Тез. докладов научной конференции. — Волгоград: ВГПУ, 1998. — С. 104 — 105.
- Шаховский В.И. Языковая личность в лингвистике эмоций // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. — Волгоград: Перемена, 1997. — С. 3 — 10.
- Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творчес-кого развития // Вопросы психологии. — 1997, № 4. — С. 20 — 27.
- Hymes D. Competence and Performance in Linguistic Theory // Language Acquisition: Models and Methods. — L.: Longman, 1971. — P. 3 — 24.