Речевые ошибки в мотивационном аспекте
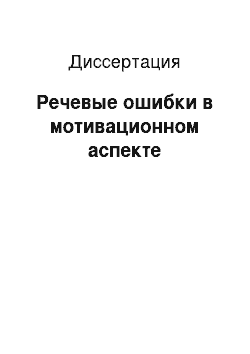
Работы в области лингвистики и психолингвистики ошибок касались, в основном, лингвистических и когнитивно-психологических сторон продуцирования высказывания, ограничиваясь косвенным допущением возможности влияния мотивационных факторов на возникновение оговорок со ссылкой на модель психического конфликта предложенную Фрейдом (1911) для объяснения некоторых типов ошибочных действий. В лингвистике… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. ПСИХОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА ОШИБОК УСТНОЙ РЕЧИ: МОТИВАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ (критический обзор литературы)
- 1. Когнитивные и мотивационные детерминанты речевых
- 2. Звучание,
- 3. Типы значение речевых личностныи
- 4. Психологические модели разных типов речевых ошибок смысл ошибок Ъ1 ошибок
- Глава 2. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ И
- МОТИВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ
- 1. Зрелые
- 2. Детское и незрелые словотворчество: мотивационные мотивационные механизмы аспекты
- 3. Развитие речи у ребенка: познание, мотивация и познавательная мотивация
- 'О
- 4. Речевые ошибки как явление переноса ранних мотивационных механизмов в актуальную ситуацию
- Л — ?
- 5. Исследование мотивационной обусловленности речи в психоаналитической ситуации
- Глава 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ И
- СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ УСТНОЙ РЕЧИ
- 1. Метод исследования: психоаналитическая ситуация как «естественный» психолингвистический эксперимент
- 2. Встречаемость речевых ошибок в терапевтическом диалоге 64 ??
- 3. Психологическая классификация речевых погрешностей с точки зрения переноса прошлого мотивационно-личностного опыта в актуальную ситуацию 70 7*
- 4. Грамматическая характеристика речевых погрешностей в свете данных о когнитивно-мотивационном развитии ребенка 85 №
- 5. Человеческая идентичность и ее выражение в речи
Речевые ошибки в мотивационном аспекте (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
.
Спонтанные речевые ошибки представляют собой четкий фактический материал, позволяющий делать заключения о функционировании речевого механизма, причем не только на уровне конечной речевой продукции, но и на глубинных уровнях речепорождения. Грамматика и стилистика высказывания и закономерности их непроизвольного нарушения, речевые интенции говорящего, их осуществление или неосуществление в конкретном высказывании и лежащая за ними мотивация личности, которая не только определяет первоначальный замысел, но и влияет на процесс его воплощения на разных стадиях — вот круг.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Психологическая классификация речевых погрешностей.
ВВЕДЕНИЕ
проблем психолингвистики и психологии речи, к которым может адресоваться исследование речевых погрешностей.
До настоящего времени мотивационные аспекты речевых ошибкок и стилистических погрешностей специально исследовались только в клинических работах психоаналитического направления (см. обзор Isay, 1976). Эти работы характеризовались отчетливой клинической направленностью — ориентацией на описание отдельных психотерапевтических случаев, подчинение выявленного лингвистического материала задачам понимания динамики лечения, недостаточным использованием современных лингвистических данных при анализе высказываний пациентов. Сбор речевых примеров носил случайный эпизодический характер.
Работы в области лингвистики и психолингвистики ошибок касались, в основном, лингвистических и когнитивно-психологических сторон продуцирования высказывания, ограничиваясь косвенным допущением возможности влияния мотивационных факторов на возникновение оговорок со ссылкой на модель психического конфликта предложенную Фрейдом (1911) для объяснения некоторых типов ошибочных действий. В лингвистике эта исходно психологическая модель трансформировалась в гипотезу Баарса (Baars, 1980; Fromkin, 1980, 1988) о соперничающих планах преартикуляции. Во многих случаях обсуждение мотивационных аспектов речевых ошибок считалось излишним, не нужным для их объяснения (Ellis, 1980). Недостаток психологического контекста в материале, анализируемом лингвистами, ограничивал возможности изучения мотивационных факторов, в частности препятствовал разработке других мотивационных моделей для объяснения погрешностей речи.
Таким образом, актуальной научной задачей представляется систематическое психологическое исследование речевых ошибок в мотивационном аспекте. Такое исследование позволит расширить наши представления о речевых механизмах вплоть до самых глубоких, начальных уровней формирования высказывания.
Цель и задачи исследования
.
Целью работы является систематическое изучение грамматических и стилистических речевых погрешностей в контексте, допускающем интерпретацию их мотивационнои обусловленности.
В задачи работы входит.
1) обзор лингвистической, клинической литературы и исследований речевого развития детей под углом зрения психологии мотивации;
2) проведение эмпирического исследования спонтанных речевых погрешностей;
3) анализ полученного материала с привлечением данных психологии речевого развития и с учетом общетеоретических разработок психологии речи.
Метод исследования.
Организовать специальную экспериментальную ситуацию для изучения спонтанных речевых ошибок невозможно. Поэтому для исследования была выбрана ситуация своего рода «естественного» (т.е. не имевшего специальных экспериментальных целей) эксперимента — ситуация длительной психодинамической психотерапии. Психотерапевтическая ситуация предоставляет богатый личностный контекст для анализа влияния мотивационных факторов на особенности речи и, кроме того, создает условия, ослабляющие контроль говорящего за своей речевой продукцией, что провоцирует возникновение оговорок. Мотивационное исследование проводилось на речевом материале людей без речевых нарушений и без психической патологии психиатрического уровня.
Фиксация речевых погрешностей проводилась психотерепевтом. Если возникали сомнения в точности записи, речевая ошибка исключалась из исследования. Фиксировались те ошибки, на которые обращал внимание терапевт, т. е. критерий выделения ошибки был не лингвистическим, а психологическим — записывались слова и фразы, казавшиеся слушающему неадекватными, понятными лишь из контекста или «странными» по форме. Грамматический и стилистический анализ дословно запротоколированных примеров проводился позднее.
Научная новизна.
Впервые произведен систематический сбор материала по речевым погрешностям в условиях богатого личностного и ситуационного контекста.
Проведен психологический анализ этих высказываний с привлечением теоретических разработок и фактического материала психолингвистики и психологии речи, психологии детского речевого развития и клинической психологии.
Положения, выносимые на защиту.
1) Систематическое исследование речевых ошибок, впервые проведенное с учетом широкого мотивационно-личностного контекста анализируемых высказываний, демонстрирует значимость мотивационных факторов в происхождении грамматических и стилистических погрешностей речи.
2). Мотивационное влияние на возникновение погрешностей речи не может быть полностью понято в рамках модели психического конфликта, предложенной Фрейдом. Во многих случаях действуют онтогенетически более ранние, мотивационные механизмы, на что указывает сходство речевых погрешностей взрослых с детским «словотворчеством».
3) Выделение трех последовательных уровней речевых погрешностей, которые возникают при участии мотивационных процессов, отвечающих разным стадиям личностного развития, позволяет выявить психолингвистические элементы, играющие важную роль при построении высказывания. Эти необходимые элементы включают грамматически четкое формулирование причинности, грамматически и стилистически адекватное описание неодушевленных, одушевленных и человеческих объектов, а также лингвистически развернутое выражение противоречивости отношения субъекта к действительности.
Результаты исследования — протокольно зафиксированные грамматические и стилистические погрешности речи пациентов приведены в приложениях. Всего записано более 300 высказываний на терапевтических сессиях и небольшое количество примеров речи детей разных возрастов для сравнения.
Для удобства рассмотрения и обсуждения результатов приложения состоят из двух разделов. «Приложение А» составлено для удобства более детального клинического мотивационно-личностного разбора грамматических и стилистических особенностей каждого высказывания и приблизительной количественной оценки. С этой целью все зафиксированные высказывания некоторых пациентов приводятся в хронологическом порядке. В разделе «Приложение Б» все запротоколированные высказывания даны в соответствии с их психологической классификацией. Каждый пример сопровождается шифром, позволяющим идентифицировать пациента, которому принадлежит данное высказывание. Из соображений этики инициалы пациентов, а также лиц, упоминающихся в их высказываниях, зашифрованы, при обсуждении примеров клинический контекст дается в сжатом, обобщенном или измененном в деталях виде. Об этических проблемах при представлении клинического материала в научных исследованиях см. Томэ и Кэхеле (1997, т.2).
2. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ.
Как видно из усредненных данных, приведенных в конце каждой таблицы в «Приложении А», некоторые пациенты делают много оговорок, некоторые почти их не делают. Для группы пациентов, как правило, делающих ошибки в речи (см. табл.1) количественные результаты оценки колеблются от 0.55 до 2.3 на каждый сеанс.
Исходя из предположения, что количество речевых ошибок может зависеть от тематики и уровня референции, а значит может быть распределено по тексту неравномерно, я подсчитала также отношение общего числа ошибок к числу терапевтических сеансов, на которых ошибки допускались. Это отношение колеблется от 1.2 до 2.7. Таким образом, предположение о неравномерной встречаемости оговорок подтверждается. Данные о встречаемости оговорок у некоторых пациентов, имеющих тенденцию к речевым погрешностям, сведены в таблицу 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Обсуждение результатов проведенного эмпирического исследования спонтанных речевых ошибок в ситуации, ослабляющей контроль над речевой продукцией и предоставляющий богатый контекст для мотивационного анализа речевых проявлений, представляется интересным делать по трем направлениям.
1) Речевая погрешность и мотивационные процессы.
Почему можно считать, что выделенные грамматические и стилистические погрешности имеют мотивационную основу? На это указывает прежде всего эпизодичность возникновения таких ошибок у людей, умеющих, в целом, говорить правильно. Кроме того, общая количественно-контекстуальная оценка полученного материала при лингвистическом разделении текста на повествование, комментирование и толкование взаимосвязей (Уеп12-е1,1986) показала, что распределение речевых ошибкок неравномерно, погрешности встречаются в основном на уровнях комментирования и интерпретации взаимосвязей, т. е. когда пациенты говорят о своем отношении описываемому, об эмоционально значимых людях. На уровне «чистого» повествования, пересказа увиденного или услышанного ошибки встречаются гораздо реже, на что указывает их практически полное отсутствие в отчетах о сновидениях.
Таким образом, грамматические и стилистические погрешности в устной речи возникают с большей вероятностью тогда, когда говорящий затрагивает свою систему отношений к окружающему миру и к самому себе в этом мире. Следовательно, мотивационные процессы оказывают влияние на происхождение многих речевых погрешностей.
2) Что представляет собой «ошибка»?
Содержательный анализ ошибочных высказываний убеждает нас в том, что на их происхождение может влиять не только мотивационный конфликт, но и мотивационная незрелость личности или ее преходящая «инфантилизация» Клинические представления о мотивационной зрелости личности и ее отражении в разговорных видах психотерапии адресуют нас к общепсихологическим представлениям о мотивационном развитии ребенка в связи с речевой функцией. Т. Н. Ушакова (1998) подразделяет речевые интенции на первичные (выведение вовне интенционального состояния) и вторичные (коммуникативные).
Полагая, что за интенцией стоит мотив или структура мотивов, т. е. речевая интенция является некоторым «промежуточным» психологическим образованием между мотивом и воплощением его в речевом действии, и определяя мотив, вслед за А. Н. Леонтьевым (1975), как опредмеченную потребность мы можем соотнести первичные, согласно Ушаковой, речевые интенции с потребностями, направленным на субъекта, а вторичные — с потребностями, направленными на внешние объекты. Если мы имеем дело с речевой функцией, то внешними объектами (объектами реципрокной коммуникации) могут быть только люди или живые существа, с которыми можно так или иначе общаться.
С нашей точки зрения, в реальности два уровня интенций, которые выделяет Ушакова, могут быть переплетены даже на самых ранних стадиях развития ребенка. Вообще говоря, коммуникативность взаимодействия (и речевого взаимодействия в том числе) получает возможность развития в тот момент, когда взрослый начинает отвечать на психологические проявления ребенка. Однако удельный вес этих типов интенций в каждом речевом акте может меняться. В такой парадигме степень инфантилизации речи, или ее «примитивизации» по выражению Х. Кохута (Kohut, 1992) можно понимать как увеличение доли первичных речевых интенций в речевой продукции.
В нашем исследовании наибольшую степень незрелости, инфантилизации демонстрируют погрешности уровня 1. Коммуникативность таких высказываний снижена, они представляют собой своего рода отражение внутренних состояний при неудачной передаче субъект-объектных и причинно-следственных взаимосвязей. Такая характеристика высказываний, в которых первичные речевые интенции преобладают, перекликается с теоретическими исследованиями И. Фаст (Fast, 1985, 1998), сопоставившей клинические данные с работами Ж. Пиаже, младенец воспринимает лишь одномоментное событие, вернее, свое состояние по поводу некоторого события, характеристики которого (участники, причины, последствия, повторяемость и т. п.) ему еще неведомы. Лишь постепенно событие, например кормление, начинает переживаться младенцем как взаимодействие с внешним миром. Очевидно, что до развернутого представления о субъект-объектном взаимодействии внутри этого простого события остается еще большой путь психологического развития.
Высказывания уровня 1 можно рассматривать как контаминацию двух возможных, «правильных» способов описания события, в которых субъект и объект находятся в противоположных позициях. Например, фраза.
Наша мама стала изучать нас русскому языку могла бы быть «исправлена» двумя способами: «Наша мама стала обучать нас русскому языку» или «Мы стали изучать русский язык с нашей мамой». Такая грамматическая контаминация сводит развернутое описание субъект-объектного взаимодействия до свернутого обозначения события.
Рассмотрим другой пример, в котором контаминация не столь четко проявилась, но тем не менее присутствует в скрытом виде: Последствия моей несказанности себя проявили.
Способы «исправления» фразы: а) «Моя (субъекта) скрытность возымела последствия.» и б) Меня (как объект) восприняли несказанным, т. е. таинственным, непонятным, и это имело какие-то последствия." Коммуникативность, понятность обоих высказываний, особенно, второго из них снижена из-за грамматической нерасчлененности субъектов и объектов.
Именно коммуникативность, ясное представление о том, как будет восприниматься планируемое высказывание, характеризует правильную речь. Если потребность в самовыражении берет верх над потребностью быть понятым, речь воспринимается как неправильная, инфантильная. Сквозь призму клинических наблюдений о том, когда, в каких состояниях взрослые люди начинают делать речевые ошибки, в новом свете предстают некоторые результаты исследования детского словотворчества.
Так, по мнению Т. Н. Ушаковой (1979), которая изучает детское словотворчество как явление психологии речи, не занимаясь изменениями состояний говорящего, ребенок подчиняет создаваемый им неологизм задуманной синтаксической структуре фразы. Эта синтаксическая структура отражает некий имеющийся у него и удобный ему стереотип. Ребенок, таким образом, строит фразу, подгоняя под нее слова и не ориентируясь на те внешние условия и ограничения, которые ставит ему речевая традиция. Эту речевую традицию он еще не освоил и, изобретая неологизмы, он тем самым сопротивляется изучению этой традиции.
Подобное «словотворчество» наблюдают клиницисты у детей (de Hirsch, 1975) и взрослых (Kohut, 1977, 1992), однако если это не намеренная стилизация, то в устах взрослого оно воспринимается как грамматическая или стилистическая погрешность. Недостаточная освоенность (на бытовом уровне) речевой традиции или неумение воспользоваться ею для самовыражения указывает на незрелость личностной идентичности или на ситуационную инфантилизацию. Речевые погрешности уровня 2 представляются отражением таких особых «инфантильных» состояний взрослого, в которых, если использовать модель Ушаковой, первичная речевая интенция (самовыражение) обретает силу, а вторичная (коммуникативная) ослабевает. Это происходит потому, что жесткое следование заранее заданному синтаксическому стереотипу оказывается своего рода самовыражением «во что бы то ни стало», без учета «внешних условий», т. е. языковой традиции.
Погрешности уровня 2 тоже можно рассмотреть как контаминацию речевых интенций. В одних случаях это очевидно:
Мне было так красиво.
Фраза начинается как описание субъективного ощущения, ее естественно было бы продолжить как, например: «Мне было так приятно».
Заканчивается фраза характеристикой объекта: «Это было так красиво» (Казанская, 1996). Субъективный взгляд «изнутри» и взгляд «со стороны» как бы сливаются в одно целое. Нарушая языковые нормы репрезентации второго порядка (по Fonagy, 1991), говорящий выражает свое субъективное состояние, лингвистически и психологически смешивая его с оцениваемым им состоянием объекта, отчего вместо развернутого описания взаимосвязи субъекта и объекта получается отражение события (Fast, 1985).
Контаминацией, хотя и неявной, двух способов описания действительности можно считать и высказывание:
Со мной стали происходить сексуальные отношения.
Говорящий хочет выразить свои переживания как субъекта, однако у него получается нечто похожее по стилю на описание взаимодействия внешних — и скорее всего неодушевленных — объектов. «Коммуникативная сила» рассматриваемого высказывания тоже снижена: причинно-следственные взаимосвязи описаны нечетко, остается неясным, в какой мере собственная активность говорящего повлияла на описываемое событие.
Таким образом, речевые погрешности уровней 1 и 2 представляют собой высказывания, в которых смешаны различные способы описания происходящего. На уровне 1 ошибка проистекает от грамматической контаминации субъектов и объектов в предложении и, вследствие этого, неправильной передачи причинности. На уровне 2 ошибка заключается в грамматической или стилистической путанице приемов описания своих переживаний по поводу происходящего в силу чего субъект высказывания и другие люди предстают похожими на неодушевленные объекты, «овеществляются» средствами речи.
Оговорки уровня 3, согласно лингвистической модели конкурирующих интенций и психологической модели мотивационного конфликта, представляют собой явные контаминации двух интенций — осознаваемой и неосознаваемой, причем скрытая, находившаяся вне сознания интенция неожиданно «выскакивает наружу»:
Мое отношение к этой квартине.
Говорящий намеревался рассуждать о картине, висящей на стене, однако неожиданно для себя обнаруживает, о чем он действительно хочет говорить: по-настоящему ему интересна квартира, в которой он находится, люди, которые в ней живут, в частности, психотерапевт как личность.
Оговорки уровня 3, отражающие, мотивационный конфликт, имеют форму явной контаминации осознаваемой и неосознаваемой интенций. Обе этих в большой степени коммуникативны, смысл их сразу понятен, каждая из них представляет собой правильное, четкое описание субъектов и объектов взаимодейстивия. Ошибка проистекает не от в смешения разных способов описания действительности, а от неспособности говорящего ясно осознать и развернуто описать свое противоречивое отношение к описываемому.
3) Что такое «правильная» речь?
Анализируя высказывания, зафиксированные исследователем как ошибочные, неадекватные, странные, можно заключить, что речь, воспринимаемая как «правильная», строится в соответствии с некоторой «психологической грамматикой». Какие же условия должны быть для этого соблюдены?
Во-первых, в высказывании должна быть правильно передана каузальность — т. е. причины и следствия, субъект-объектные отношения, активность-пассивность. На первый взгляд может показаться, выполнение этой задачи связано только с интеллектуальными функциями и не имеет отношения к мотивационной и личностной зрелости говорящего. Однако сопоставление исследований детского развития с клиническими работами (см., напр., Lichtenberg, 1983) демонстрирует, что развитие ясных представлений о каузальности в отношении себя как субъекта во взаимодействии с другими людьми возможно лишь при достаточной гармонии (гарантирующей ребенку безопасность, но допускающей свободу) в диаде мать-дитя, способствующей нормальному созреванию мотивационных структур. Интересно, что для детей около трех лет характерны речевые ошибки по типу, неправильной передачи каузальности (Clark and Clark, 1975). Опираясь на психологические исследования детского словотворчества (Ушакова, 1979), речевые погрешности такого типа можно определить как контаминацию двух возможных способов описания действительности, в силу которой субъект-объектная отнесенность в высказывании оказывается неясной. Сопоставляя это с клиническими данными и их метапсихологическим анализом (Kohut 1992; Fonagy 1995), можно сделать вывод, что на мотивационном уровне происхождение речевой ошибки можно связать с переносом ранних симбиотических отношений мать-дитя в актуальную ситуацию.
Во-вторых, «психологическая грамматика» имеет специальные средства для выражения сопровождающего зрелую личность переживания уникальности, неповторимости, «одноразовости» человеческой жизни. Эти особые приемы позволяют избежать речевого овеществления мыслящего и чувствующего субъекта. Освоение конструкций языка, передающих душевные состояния говорящего и других людей происходит, начиная с трех с половиной лет (Fonagy, 1991, 1995). Параллельно этому развиваются и утверждаются мотивационные структуры, дающие личности возможность перерабатывать конфликты мотивов. Полноценное когнитивно-мотивационное развитие ребенка на этой стадии возможно лишь при условии благополучного прохождения им предыдущей.
Наконец, в-третьих, «правильная» речь должна отражать в переработанном виде мотивационные конфликты. Недаром люди с выраженными личностными нарушениями реже, чем в норме, употребляют синтаксические конструкции с союзами однако, несмотря на, хотя и T.n.(Wentzel, 1986). Речевые оговорки по типу конкурирующих интенций указывают на непереработанные сознанием мотивационные конфликты. Высказывание выглядит как контаминация разных речевых интенций, но в отличие от ошибок уровня 1, смешанными оказываются не способы описания действительности, а противоречивые чувства говорящего субъекта по отношению к описываемым объектам.
Сознание зрелой личности, ее представление о себе и человеке вообще одновременно стабильно и изменчиво. Это текущее осознавание окружающего мира и себя в нем, своей уникальности и своего подобия другим людям, своей принадлежности человеческому роду, это процесс то более, то менее полного осознавания своих мотивов во всей их сложности и противоречивости. «Сухая» грамматика, «строгая» стилистика языка в своих формах и образах отражают эту «текучесть», образуя для нее «русло» исторически сложившихся способов вмещения, сохранения, продолжения этого неостановимого движения. Правильная речь — это живая речь, это бесконечно возобновляющаяся попытка описать, воспроизвести, передать потомкам не просто существование, но именно человеческую жизнь.
Список литературы
- С. (1896) От переводчика. В кн. Ж. Лапланш, Ж.-Б.Понталис. Словарь по психоанализу. М., Высшая школа.
- Выготский Л.С. (1960) Развитие высших психических функций. М.
- Гаспаров М.Л. (1995) Избранные статьи. М., НЛО.
- Гринсон P.P. (1994) Техника и практика психоанализа. Изд-во НПО «МОДЭК», Воронеж.
- Зайдлер Г. (1997) Клинические аспекты нарциссизма. Московский психотерапевтический журнал, N2, стр.25−37.
- Казанская A.B. (1996а) Психоанализ на русском языке. Моск. психотерапевтический журнал, N1, стр. 143.
- Казанская A.B. (19 966) в кн. Томэ и Кэхеле «Современный психоанализ» т. 1. Отредактора русского перевода, стр. 20.
- Казанская A.B. (1996в) О чем говорит речь? Моск. психотерапевтический журнал, N2, стр. 166.
- Казанская A.B. (1998) Поговорим о себе. Московский психотерапевтический журнал, N2, стр.67−84.
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. (1996) Словарь по психоанализу. М., Высшая школа.
- Лурия А.Р. (1973) Основы нейропсихологии. М., Изд-во МГУ.
- Лурия А.Р. (1979) Язык и сознание. М., Изд-во МГУ.
- Павсаний. Описание Эллады. М., Ладомир, 1994.
- Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории (1997) (под. ред. А.В.Брушлинского). Изд-во «Институт психологии РАН.
- Леонтьев А.Н. (1975) Деятельность. Сознание. Личность. М. Политиздат.
- Рубинштейн С.Л. (1940/1973) Проблемы общей психологии, М., Педагогика.
- Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. (1993) Пациент и аналитик. Основы психоаналитического процесса. Воронеж.
- Томэ X., Кэхеле X. (1996) Современный психоанализ, тт. 1,2, М., «Прогресс».
- Ушакова Т.Н. (1979) Функциональные структуры второй сигнальной системы. М., «Наука».
- Фрейд 3. (1923) Методика и техника психоанализа. Государственное издательство, Москва-Петербург.
- Фрейд 3. (1900/1913/1992) Толкование сновидений, Обнинск, «Титул».
- Фрейд 3. (1901/1990) Психопатология обыденной жизни. В сб.: Психология бессознательного. М., «Просвещение».
- Фрейд 3. (1905/1997) Остроумие и его отношение к бессознательному, Университетская книга ACT, С-Петербург-Москва.
- Хекхаузен X. (1986) Мотивация и деятельность, М. «Педагогика», тт. 1,2.
- Чешир Н., Томэ X. (1996) Реабилитация Я. Московский психотерапевтический журнал, N4, стр. 23−47.
- Чуковский К.И. (1955) От двух до пяти. М., «Советский писатель».
- Якобсон, А (1985) Избранные работы. М., «Прогресс».
- Ярошевский М.Г., Анциферова Л. И. (1974) Развитие и современное состояние зарубежной психологии., М.
- Ярошевский М.Г. (1985) История психологии., М.
- Andree U. (1995) Entwicklung und Anwendung eines Kodirschemas zur erfassung von borderline-typischen Sprachverhalten. VAS-Verlag fuer Akademische Schriften, Frankfurt/Main.
- Baars B.J., Motley M.T. (1976) Spoonerisms as sequencer conflicts. Evidence from artificially elicited spoonerisms. American Journal of Psychology, 83,467−484.
- Bayley H. (1912/1952) The Lost Language of Symbolism. Williams and norgate. London.
- Benjamin J. (1995) Like subjects, love objects. Yale university Press, New Haven and London.
- Bierwisch M. (1982) Linguistics and Language Error. In: Slips of the Tongue and Language Production. Ed By Cutler. NY.
- Blass R.B., Blatt S.J. (1992) Attachment and separateness. A theoretical context for the integration of object relations theory with self psychology. 189−203.
- Blatt S.J. (1998) Contributions of psychoanalysis to the undrstanding and treatment of depression. Journal of the American Psychoanalytic Association, 46, 723−752.
- Bordi S. (1995) II significato delle ricerca infantile per la clinica psicoanalitica. In: I seminari milanesi di Sergio Bordi, Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti.
- Chesire N., Thomae H. (1987) New ways in the object-relations of the self. In: Self, Symptoms and Psychotherapy, John Wiley and sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore.
- Clark H., Clark E. (1977) Psychology and Language. Introduction to Psycholinguistics. Harcourt Brace Iovanovich Inc. NY.
- Corradi Fuimara G. (1995) The metaphoric process. Connections between language and life., Routledge, London, New York.
- Cutler, Fay (1978) Introduction In: R. Mehringer, C. Mayer, Versprechen und Verlesen, Amsterdam, Benjamins.
- Edelson M. (1972) The interpretation of dreams revisited. The Psychoanalytic Study of the Child, vol. 27, pp. 203−282.
- Ellis A.W. (1980) On the Freudian Theory of Speech Errors. In: Errors in Linguistic Performance. V. Fromkin ed., NY.
- Erikson E. (1956) The problem of ego identity, Journal of American Psychoan. Assoc. 6: 56−121.
- Erikson E. (1959) Identity and the life cycle, Selected Papers, Psychological Issues vol. 1, N1, International University Press, NY.
- Dahl H., Teller V., Moss D., Trujillo M. (1978) Countertransference Examples of Syntactic Expression of the Warded-off Contents.Psychoan. QWuaterly, July 1978.
- Ellis A.W. (1980) On the Freudian Theory of Speech Errors. In: Errors in Linguistic Performance. V. Fromkin ed., NY.
- Fast I. (1984) Gender Identity. A Differentiation Model. Analytic Press, Hillsdale, New Jersey, London.
- Fast I. (1985) Event Theory: A Piaget-Freud Integration. Laurence Erlbaum Ass., Publishers, Hillsdale, New Jersey, London.
- Fast I. (1998) Selving. A Relational Theory ofself Organization, Analytic Press, Hilldale, New Jersey, London.
- Flugel J.C. (1945) Man, Morals and Society. Duckworth, London.
- Fonagy P.(1991) Thinking About Thinking: Some Clinical and Theoretical Considerations. Int.J.Psychoan. 72,639.
- Fonagy P. (1995) Psychoanalytic and empirical Approaches to Developmental Psychopathology: an Object Relations Perspectives. In: Research in Psychoanalysis: Process, development, Outcome, ed. T. Shapiro, R.M.Emde, Int.Univ.Press, Madison Connecticut.
- Freedman D.A. (1972) On hearing, Oral Language and Psychic Structure. In: Psychoanalysis and Contemporary Science. The Macmillan Company, New York, Collier-Macmillan Limited, London.
- Freud A. (1936) Ego and Mechanisms of Defense. London: Hogarth Press.
- Freud S. (1901/1905/1977) Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria ('Dora'), Pengiun Books.
- Freud S. (1910) Five Lectures on Psycho-analysis SE vol/ XI pp 1−55.
- Fromkin Y. (1980) Errors in Linguistic Performance: Slips of the Tongue, Pen, Ear and Hand. Acad. Press NY.
- Fromkin V. (1988) Grammatical Aspects of Speech Errors. In: Linguistics: the Cambridge Study, vol.2, ed.F.J.Newmeyer.
- Hautmann G. (1998) II sogno tra clinica e teoria nel modello bioniano. Una linea di lettura del sogno dell’uomo dei lupi. Rivista di Psicoanalisi, vol. XLIV 1, pp. 105−166.
- Hirsch, de K. (1975) Language Deficits in Children with Developmental Lags. In: Psychoanalytic Study of the Child, vol. 30. Yalr Univ. Press.
- Isay (1977) Ambiguity in Speech. J.Amer.Psychoan. Assoc. XXV, 427.
- Kafka J.S. (1995) Resistance, Regression and Change. East European Seminar on Psychoanalysis, Konstanza, Roumania.
- Kazanskaia (1997) Speech errors in Free association and Primitive Defense Mechanisms. Paper presented at the Spring Meeting of the Division of Psychoanalysis (39) of the American Psychological Association. Denver, Co., February.
- Kernberg O. (1975) Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson.
- Kernberg O. (1989) Psychodynamic psychotherapy of borderline patients, NY, Basic Books.
- Klann-Delius G., Hofimeister K. (1996) The development of communicative competence of securely and insecurely attached children in interaction with their mothers
- Kohut H. (1968) The Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders, The Psychoanalytic Study of the Child, 23: 86−113.
- Kohut H. (1972) Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage. The Psychoanalytic Study of the Child, 27: 360−400.
- Kohut H. (1971/1992) The Analysis of the Self. Int. Univ. Press. Madison Connecticut.
- Kohut H. (1977) The Restoration of the Self. Int. Univ. Press, NY.
- Kohut H. (1984) How Does Analysis Cure? Univ. of Chicago Press, Chicago and London.
- Kris E. (1975) Selected Papers. Foreword by Anna Freud. Yale Univ. Press, New Haven and London.
- Laferriere D. (1978) Sign and Subject. Semiotic and Psychoanalytic Investigations into Poetry. Lisse. The Peter de Rider Press.
- Lichtenberg J.D. (1983) Psychoanalysis and Infant research, Laurense Erlbaum Assoc. Pubs., Hillsdale, NJ, London.
- Luborsky L., Mintz J. (1974) What Setts off Momentary Forgetting during a Psychoanalysis. Psychoan. and Contemporary science, v. III, 223.
- Mahler M. S., McDevitt J.B. (1976) The separation-individuation process and identity formation. 19−35.
- Mahoney P.J., Singh R. (1975) The interpretation of dreams, semiology, and Chomskian linguistics: a radical critique. The Psychoanalytic Study of the Child, vol. 30, pp. 221 242.
- Mahoney P.J. (1987) Freud as a writer. Yale University Press, New Haven and London.
- McKay D. (1980) Speech Errors: retrospect and prospect. In: Errors in Linguistic Performance, Academic Press.
- Mehringer, Mayer (1895/1978)Versprechen und Verlesen, Amsterdam, Benjamin.
- Mehringer (1908) Aus dem Leben der Sprache. Berlin, Behrs Verlag.
- Menninger K. (1938) Man Against Himself. Rupert Hart-Davis, London.
- Muehlleitner E. (1992) Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Edition Discord, Tuebingen.
- Muller J.P. (1996) Beyond the psychoanalytic dyad. Developmental semiotics in Freud, Pierce and Lacan. Routledge, New York and London.
- Piaget J. (1954/1981) The Construction of Reality in Child, In: Intelligence ans Affectivity. Annual Reviews Monograph, Palo Alto CA.
- Presch G., (1980)Ueber Schwerigkeiten zu bestimmen, was als Fehler gelten soll. In: Fehlerlinguistik. Beitrage zum Problem der sprachlichen Abweichung, Max Niemeyer Verlag, Tuebingen.
- Rousey C.L. (1974) Psychiatric Assessment by Speech and Hearing Behaviour. Charles T. Thomas Publisher. Springfield, Illinois.
- Roth A., Fonagy P. eds. (1996) What Works for Whom? A critical Review of Psychotherapy Research. Guilford Press, NY.
- Sandler J., Dare C., Holder A. (1992) The Patient and the Analyst, London, Karnac Books.
- Schafer R. (1976) A New Language for Psychoanalysis. Yale Univ. Press, New Haven and London.
- Schafer R. (1997) Conformity and Individualism. In: The Inner World in the Outer World (Ed. E. Shapiro) Yale Univ. Press, Newhaven, London.
- Schimel J.L. (1974) Dialogic analysis of the obsessional. In: Contemporary psychoanalysis, Academic Press, New York, 10:1, 87−101.
- Schossberger J.A. (1963) Deanimation. Psychoan. Quaterly, v. XXXII, 479.
- Searles (1962/65) The Differentiation between Concrete and Metaphorical Thinking in the Recovering Schizophrenic Patient. In: Collected Papers On Schizophrenia and related Subjects. Int.Univ.Press, NY.
- Shands H.C. (1971) The War with Words. Structure and Transcendence. Mouton, The Hague. Paris.
- Shapiro E.R. (1991) Lost in familiar places. Creating new connections between the individual and society. Yale university Press, New Haven, London.
- Shapiro E. R. (1997) The Boundaries Are shifting. In: The Inner World in the Outer World. (Shapiro E. Ed.) Yale Univ. Press, New Haven, London.
- Shapiro T. (1979) Clinical psycholinguistics. Plenum Press, New York.
- Stone L. (1961) The Psychoanalytic Situation, NY Universities Press.
- Stone L. (1967) The Psychoanalytic Situation and Transference: postscript to an earlier communication, J. of the American Psychoanalytic Association, 15: 3−58.
- Thass-Thienemann T. (1956) Oedipus and the Sphinx. The linguistic approach to unconscious fantasies.
- Thass-Thienemann T. (1960) The talking teapot. Comprehensive psychiatry, vol.1, 199−200.
- Tolpin M., Kohut H. (1989) The Disorders of the Self: The Psychopathology of the First Years of Life, vol.2, Early Childhood. Ed. S.I.Queenspan and G.H.Pollock, Int.Uni.Press. Madison, Connecticut., Revised and expanded Version.
- Wallerstein R.S. (1975) Psychotherapy and Psychoanalysis. Theory, Practice, Research. Int. Univ. Press. NY.
- Winnicott D. (1971) Playing and Reality, Tavistock Publications Ltd., London.
- Waelder R. (1976) Psychoanalysis: Observation, Theory, Application. Int.Univ.Press, NY.
- Wentzel A. (1986) Gibt es sprachliche Besonderheiten bei Borderline-Stoerunge? (Manuscript).
- Werner H., Kaplan B. (1963) Symbol formation. An Organismic Developmental Approach to Language and the Expression of Thought John Wiley and Sons Inc. New York, London, Sydney.
- Wiese R. (1987) Versprecher als Fenster zur Sprachstruktur, Studium Linguistik 21, 45−55.