Языковые средства выражения трагического в пьесах Шекспира и их переводах (на материале трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта»)
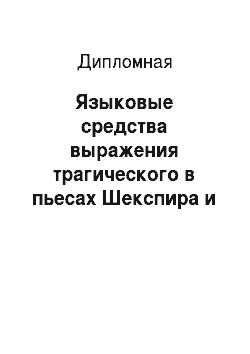
В данном примере проявляется сема «величие»: в возвышенном описании маленьких убитых принцев присутствуют нотки патетичности. В переводе Донского: О сыновья! О милые малютки! О не успевшие расцвесть цветы! В переводе Лейтина: О принцы бедные! Мои малютки! Расцвета не узнавшие цветы! В переводе Радловой: О дети нежные мои! О принцы! О бедные, нецветшие цветы! Также в переводах противопоставление… Читать ещё >
Языковые средства выражения трагического в пьесах Шекспира и их переводах (на материале трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта») (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Дипломная работа
Языковые средства выражения трагического в пьесах Шекспира и их переводах (на материале трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта»)
Уильям Шекспир является величайшим поэтом, внесшим огромный вклад в мировую литературу, следовательно, его произведения уже очень хорошо исследованы авторитетными учеными. Тем не менее, в шекспироведении все еще остаются «белые пятна», не изученные полностью.
Трагедия «Ричард III» завершает первую тетралогию Шекспира. Споры о том, был ли Ричард на самом деле таким чудовищным злодеем, не утихают до сих пор. По мнению В. Г. Белинского, «трагическое лицо непременно должно возбуждать к себе участие. Сам Ричард III — это чудовище злодейства, возбуждает к себе участие исполинскою мощью духа» [Белинский, 1955: Т. 2, с. 534].
«…Richard III is Shakespeare’s most exuberantly self-promoting villain. The charm and skill with which he perpetrates his atrocities has made the story of his rise and fall one of Shakespeare’s biggest successes on page, stage and screen» [Maslen, 1994: 743].
Трагедия «Ромео и Джульетта»? одна из известнейших историй в мире о несчастных влюбленных. Ее античной предшественницей является история Пирама и Фисбы, рассказанная Овидием в «Метаморфозах».
Шекспир представил совершенно новую модель трагического взаимодействия героя и мира, в корне отличающуюся от античной. Идее рока, одерживающего верх над героем, поэт противопоставил трагизм, обусловленный противоречивой, двойственной природой человека. Поэтому трагический конфликт в творчестве Шекспира — чрезвычайно интересная тема, которую, несомненно, еще предстоит глубоко исследовать.
«Трагическое имеет у Шекспира один источник — земную жизнь человека и, главное, столкновение интересов людей, преследующих цели, которые соответствуют личному характеру и желаниям каждого» [Аникст, 1963: 342].
Данная дипломная работа посвящена изучению языковых средств выражения трагического в пьесах Шекспира и их переводах (на материале трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта»).
Целью дипломной работы является анализ языковых средств, используемых Шекспиром и переводчиками его пьес на русский язык для выражения трагического.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) на основании проанализированных словарных определений понятия трагическое выделить ключевые семы, выражающие трагическое;
2) рассмотреть, как данные ключевые семы находят свое выражение в языковых средствах, используемых Шекспиром;
3) проанализировать способ проявления ключевых сем в переводах трагедий Шекспира.
Новизна дипломной работы состоит в том, что, несмотря на огромное количество известных авторитетных научных трудов и исследований в шекспироведении, данная работа позволяет рассмотреть произведения великого драматурга и оценить их переводы с новой стороны. В работе установлено, что конфликт составляет одну из центральных и наиболее ярко вербализируемых сем трагического у Шекспира. Учитывая, что конфликтное начало всегда в той или иной степени присутствует в нашей жизни и современная жизнь насыщена конфликтами разного рода, подробное изучение данной стороны творчества Шекспира представляет сегодня несомненный интерес и отличается актуальностью.
Объект исследования в данной работе — трагическое как эстетическая категория.
Предмет исследования — языковые способы и приемы выражения трагического в пьесах Шекспира «Ричард III» и «Ромео и Джульетта» и переводах М. Донского, Б. Лейтина, А. Радловой, Б. Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник, Ап. Григорьева.
Научная гипотеза: трагическое как эстетическая категория проявляется с помощью ядерных сем, находящих свое выражение в художественных языковых средствах.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в результате проведенной работы в оригиналах и переводах трагедий Шекспира выявлены ключевые семы, конституирующие понятие трагического, что позволяет в дальнейшем производить углубленное изучение данной тематики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты дипломной работы могут быть использованы в практике преподавания ряда дисциплин: стилистики английского языка, теории и практики перевода, зарубежной литературы, домашнего чтения.
Работа проводилась с использованием совокупности методов исследования, включающих анализ научной литературы по проблеме исследования, лингвостилистический анализ текста, сравнение, классификацию, интерпретацию.
Материалом для исследования послужили пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III» и «Ромео и Джульетта», а также переводы М. Донского, Б. Лейтина, А. Радловой, Б. Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник, Аполлона Григорьева. Данные переводы были выбраны, так как являются наиболее известными в литературной среде.
Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Во введении обозначены цель и задачи исследования, а также научная гипотеза, теоретическая и практическая значимость исследования. В первой, теоретической главе рассматривается трагическое как эстетическая категория и выделяются ядерные семы, входящие в состав трагического. Во второй главе рассматриваются способы и приемы выражения трагического и на основе проанализированных пьес выделены следующие языковые средства выражения трагического: метафоры, эпитеты, сравнения, антитезы, оксюмороны, параллелизмы, градация, гиперболы и ирония. В третьей главе с оригиналом сопоставляются переводы пьес «Ричард III» и «Ромео и Джульетта», из лексики переводов производится выделение ядерных сем, составляющих суть понятия трагическое, и делаются соответствующие выводы.
Данная дипломная работа представляет интерес для профессиональных лингвистов, переводчиков, а также для широкого круга лиц, интересующихся творчеством Уильяма Шекспира.
1. Понятия трагедии и трагического в философии и литературоведении
1.1 Исторические интерпретации понятия трагическое
трагическое сема ядерный Античная трагедия возникла в Греции в эпоху гибели и разложения родового строя, освобождения мелких свободных производителей — крестьян и ремесленников — от власти родовой общины и образования античных городов-государств в форме демократических республик. Величайшие трагики древнего мира — Эсхил, Софокл и Еврипид. В античности трагическое опиралось на понятия рока, фатума; человек ощущал себя игрушкой судьбы.
Термин «трагедия» использовался в Древней Греции для обозначения религиозного обряда — традиционных мимических игр и хоровых песен (дифирамбов), связанных с аграрными празднествами в честь бога Диониса. Ритуальной основой этих празднеств было жертвоприношение козла (по-гречески tragos, откуда и возникло название «трагедия» (tragoidia), «козлиная песнь», «песнь в честь козла»), сопровождавшееся исполнением сказания о Дионисе.
Аристотель первым представил философскую трактовку теории трагического.
«Итак, трагедия есть воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем, речью украшенной, различными ее видами отдельно в различных частях, — воспроизведение действием, а не рассказом, совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных чувств» [Аристотель, 1998: 28]. По его мнению, можно выделить следующие составные части трагедии: склад действия, характеризующийся внезапным поворотом к худшему (перипетия), переживание крайнего несчастья и страдания (пафос), очищение (катарсис). «Катарсис — „очищение“, в греческом религиозном врачевании — освобождение тела от какой-нибудь вредной материи, а „души“ от „скверны“ и болезненных аффектов» [Литературная энциклопедия, 1929:59]. Другими словами, читатели трагедии испытывают духовный подъем, наблюдая за развязкой. Также, по мнению Аристотеля, герои трагедии «…должны быть благородны». Здесь мы впервые сталкиваемся с понятием «возвышенного». Даже испытывая страдания и боль, герои трагедии проявляют величие своего духа.
В эпоху Просвещения трагедия продолжала занимать умы великих философов. По мнению Дидро, «в трагедии изображаются индивидуумы» [Дидро, 1980:216]. По мнению Лессинга, главной целью трагедии является возбуждение сострадания и страха. Так, Лессинг переосмысляет учение Аристотеля о «катарсисе», т. е. об «очищении страстей», которое совершает трагедия.
В понимании Шиллера трагическое? это противопоставление недостижимого идеала и реального мира. В статье «О трагическом в искусстве» Фридрих Шиллер пишет: «Предмет нашего сострадания должен быть родственным нам в полном смысле этого слова, а действие, которому предстоит вызывать сочувствие, должно быть нравственным, т. е. свободным» [Шиллер, 2000:17]. В этом определении подчеркнута роль свободного выбора человека. В эпоху Просвещения акцент сместился с судьбы на действия самого героя трагедии.
Гегель считал основной чертой трагедии примирение, а не страх и сострадание. «Последним словом трагедии лишь в том случае является не несчастье и страдание, а удовлетворенность духа, когда в таком конце трагедии необходимость того, что происходит с индивидуумами, может представиться абсолютной разумностью, и душа зрителя обретает истинно нравственное успокоение лишь в том случае, когда она потрясена судьбою героя, а по сути примирена» [Гегель, 2000: 59].
Шеллинг считал, что трагический герой «изнемогает под силами природы и в то же время побеждает через свой душевный строй» [Шеллинг, 1966:399]. Свободная воля сталкивается с реальностью и «свобода оспаривается в ее собственной сфере» [Шеллинг, 1966:403].
Фридрих Ницше говорит о «высшей радости, к которой борющийся и полный предчувствий герой приуготовляется своей гибелью, а не своими победами»" [Ницше, 1966:403]. Далее он пишет, что «трагедия…опирается на благородный обман» [Ницше, 1966:403]. Трагический миф для Ницше — «выражение дионисической способности народа» [Ницше, 1966:404]. Он противоположен аполлоническому инстинкту красоты, то есть фактически трагедия как выражение высшей степени хаоса противопоставляется гармоническому идеалу.
По Шопенгауэру, человеческое существование уже само по себе является неотвратимой трагедией, коренящейся в общем характере бытия мира и общества. «А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, как в аду все пахнет серой: все на свете несовершенно и обманчиво, все приятное перемешано с неприятным, каждое удовольствие? удовольствие только наполовину, всякое наслаждение разрушает само себя, всякое облегчение ведет к новым тягостям» [Шопенгауэр, 1999:389]. Иными словами, Шопенгауэр изображает жизнь как трагический фарс.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: понятие трагического интерпретировалось различными исследователями в ходе истории по-разному, но всегда его глубинной сутью являлись понятия «конфликта», «противостояния» реальности обыденной жизни и высокого идеального начала, «пафоса». Далее необходимо выявить языковые средства, которые наилучшим образом иллюстрируют данное утверждение.
1.2 Анализ определений трагического в словарях и энциклопедиях
В данной работе сделана попытка провести анализ трагического как эстетической категории, выраженной в трагедиях Шекспира определенными языковыми средствами, а также выявить ключевые стилистические позиции, которые делают язык Уильяма Шекспира неповторимым.
Понятие эстетической категории важно для данной работы, поэтому надо подробно его рассмотреть.
Согласно определению из словаря Webster,
«Aesthetic ;
1: of, relating to, or dealing with aesthetics or the beautiful;
2: appreciative of, responsive to, or zealous about the beautiful; responsive to or appreciative of what is pleasurable to the senses."
Также известно, что «к основным категориям эстетики относят: эстетическое, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, искусство, игру» [Бычков, 2004:4].
В данной работе необходимо подробнее рассмотреть категорию трагического. Обратимся к основным определениям понятия трагическое.
«…Трагическое — это философская и эстетическая категория, характеризующая неразрешимый общественно-исторический конфликт, развертывающийся в процессе свободного действия человека и сопровождающийся человеческим страданием и гибелью важных для жизни ценностей. В отличие от печального или ужасного, трагическое, как вид грозящего или свершающегося уничтожения, вызывается не случайными внешними силами, а проистекает из внутренней природы самого гибнущего явления, его неразрешимого самораздвоения в процессе его реализации. Противоречие, лежащее в основе трагического, заключается в том, что именно свободное действие человека реализует губящую его неотвратимую необходимость, которая настигает человека именно там, где он пытался преодолеть ее или уйти от нее» [БСЭ, 1970:251].
Следующее определение взято из Литературной энциклопедии:
«Трагическое — эстетическая категория, обязанная своим названием жанру трагедии, но относящаяся не только к нему, возникает как выражение позитивно неразрешимого конфликта, влекущего за собой гибель либо тяжелые страдания достойных, заслуживающих глубокого сочувствия людей» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2003:1087].
Далее приведем определения из словарей:
«Трагическое родственно возвышенному в том, что оно неотделимо от идеи достоинства и величия человека, проявляющихся в самом его страдании» [Новейший философский словарь, 1999:392].
«Трагедия принадлежит к системе „высоких“ жанров, поскольку актуализирует причастность человека к подлинному бытию» [Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий, 2008:95].
«Трагическое предполагает свободное действие человека, самоопределение действующего лица, так что хотя его крушение и является закономерным и необходимым следствием этого действия, но само действие представляет собой свободный акт человеческой личности. Противоречие, лежащее в основе трагического, заключается в том, что именно свободное действие человека реализует губящую его неотвратимую необходимость, которая настигает человека именно там, где он пытался преодолеть её или уйти от неё (т. н. трагическая ирония). Ужас и страдание, составляющие существенный для трагического патетический элемент, трагичны не как результат вмешательства каких-либо случайных внешних сил, но как последствия действий самого человека» [Новая философская энциклопедия, 2000:599].
«Трагическое — философско-эстетическая категория, характеризующая губительные и невыносимые стороны жизни, неразрешимые противоречия действительности, представленные в искусстве в виде неразрешимого конфликта. Столкновение между человеком и миром, личностью и обществом, героем и роком выражается в борьбе сильных страстей и великих характеров» [Новая философская энциклопедия, 2000:603].
В определениях часто встречается упоминание модуса возвышенного.
«Возвышенное»? одна из главных категорий эстетики, характеризующаяся тем, что герой испытывает чувства восхищения, восторга, ликования, благоговения и, одновременно, страха, ужаса, священного трепета перед объектом, превосходящим все возможности его восприятия и понимания" [Бычков, 2004:119]. То есть мы вновь сталкиваемся с некоторой двойственностью определений понятия трагического, из чего можно сделать вывод, что противоречие заключается в самой природе трагического так же, как и в природе человека.
Шиллер заметил в статье «О возвышенном»: «Возвышенным мы называем объект, при представлении которого наша чувственная природа ощущает свою ограниченность, разумная же природа — свое превосходство, свою свободу от всяких ограничений: объект перед лицом которого мы, таким образом, оказываемся в невыгодном физически положении, но морально, то есть через посредство идей, над ним возвышаемся» [Шиллер, 1801:127].
Приведем соответствующие определения из английских и американских словарей:
«Tragedy:
1. A drama or literary work in which the main character is brought to ruin or suffers extreme sorrow, especially as a consequence of a tragic flaw, moral weakness, or inability to cope with unfavorable circumstances.
2. A play, film, television program, or other narrative work that portrays or depicts calamitous events and has an unhappy but meaningful ending.
3. A disastrous event, especially one involving distressing loss or injury to life: an expedition that ended in tragedy, with all hands lost at sea.
4. A tragic aspect or element"
[The American Heritage Dictionary of the English Language, 2009:392].
«Tragedy:
1. (esp. in classical and Renaissance drama) a play in which the protagonist, usually a man of importance and outstanding personal qualities, falls to disaster through the combination of a personal failing and circumstances with which he cannot deal;
2. (in later drama, such as that of Ibsen) a play in which the protagonist is overcome by a combination of social and psychological circumstances;
3. any dramatic or literary composition dealing with serious or sombre themes and ending with disaster;
4. (in medieval literature) a literary work in which a great person falls from prosperity to disaster, often through no fault of his own;
5. the branch of drama dealing with such themes;
6. the unfortunate aspect of something;
7. a shocking or sad event; disaster"
[Collins English Dictionary: Complete and Unabridged, 2003:482].
«Tragedy:
1. disaster, catastrophe, misfortune, adversity, calamity, affliction, whammy
(informal, chiefly U.S.), bummer (slang), grievous blow:
They have suffered an enormous personal tragedy.
2. Quotations
«Tragedy is clean, it is restful, it is flawless» [Jean Anouilh, Antigone]
«Tragedy ought to be a great kick at misery» [D.H. Lawrence]
«All tragedies are finish’d by a death,
All comedies are ended by a marriage" [Lord Byron, Don Juan]
«The world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel [Horace Walpole, Fourth Earl of Orford]
[Collins Thesaurus of the English Language, 2002:543].
Также возможен ряд синонимов к слову «tragedy», таких как: calamity, catastrophe, disaster, cataclysm, misfortune, bad luck, act of God, force majeure, inevitable accident, unavoidable casualty, vis major, apocalypse, kiss of death, meltdown, plague. Все они выразительно подчеркивают напряженность и конфликт.
«Tragedy:
1. a. a medieval narrative poem or tale typically describing the downfall of a great man
b. a serious drama typically describing a conflict between the protagonist and a superior force (as destiny) and having a sorrowful or disastrous conclusion that elicits pity or terror
2. a. a disastrous event; calamity
b. misfortune". [Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 2005:385]
Заметим, что в самом определении вновь ощущается раздвоение: the downfall of a great man — герой обладает величием духа, возвышающего его над обывателями, и в конце низвергается в бездну. Возвышенность героя вновь противопоставляется моральному падению.
«Tragedy — a drama, usually in verse, portraying the struggle of a strong-willed protagonist against fate as predestined by mysterious, divine, social, or psychological, forces, culminating in disaster and death, caused by a flaw, as envy or ambition, in the protagonist’s character, usually resolved by the protagonist’s belated recognition and acceptance of fate, and in classical tragedy, according to Aristotle’s dictum, arousing terror and pity; any disaster, misfortune, death or sequence of interrelated disastrous events» [Webster, 2003:592].
Определение из словаря Webster опирается на исходное утверждение Аристотеля. Приведем его: «…трагическое переживание зрителя или читателя разрешается катарсисом — очищением, что способствует воспитанию высоких гражданских и человеческих чувств» [Аристотель, 1998:1064].
Катарсис как опыт возвышенного духовного переживания является одним из ключевых понятий трагедии.
«Значимой эстетической категорией, имеющей непосредственное отношение к сущности эстетического, эстетического опыта, его предельной реализацией является понятие катарсиса. Так в эстетике обозначается высший, или оптимальный, духовно-эмоциональный результат эстетического отношения, эстетического восприятия в целом, эстетического воздействия искусства на человека» [Бычков, 2004:100].
По мнению Аристотеля, «трагический герой принадлежит к числу не лучших и не худших людей. Но в веках утвердилось представление о нем как о высоком герое» [Аристотель, 1998:1060].
Но, несмотря на высокие моральные качества, героя чаще всего ждет трагический конец.
«Катастрофа (от греч. katastrophe — развязка) — последняя из четырех частей греческой античной трагедии. Это понятие в драматургии обозначает момент, когда действие приближается к своему концу, герой гибнет, расплачиваясь за свою вину или трагическую ошибку, принося свою жизнь в жертву и признавая содеянное. Катастрофа не обязательно связана с идеей рокового конца, но часто становится логическим завершением действия» [Пави, 1991:140].
Очень важно, что это спровоцировано именно внутренним душевным состоянием героя.
«…Трагическое — один из модусов художественности, эстетическая модальность смыслопорождения, при которой внутренняя граница личностного самоопределения оказывается шире внешней границы ролевого присутствия „я“ в мире, что ведет к неразрешимому противоречию» [Шеллинг, 1966:403] По Шеллингу, столкновение исторической необходимости с субъективными устремлениями героя составляет основу трагической коллизии.
По мнению Гете, «трагедия…изображает ограниченные личностью страдания»; а также «человека, устремленного в глубь своей внутренней жизни, а потому события подлинной трагедии требуют лишь небольшого пространства» [Гете, 1827:278]. Самый мощный конфликт — внутренний; он только лишь отражается вовне.
«Тягостная борьба противоположных влечений или обязанностей, являющаяся для того, кто ее переносит, источником мучений, доставляет нам удовольствие, когда мы остаемся ее зрителями; с неизменно возрастающим наслаждением следим мы за развитием страсти вплоть до бездны, в которую она увлекает свою злосчастную жертву» [Шиллер, 2000: 42]. Вновь мы сталкиваемся с противопоставлением и с понятием борьбы.
«Что же нового приносит трагический герой? Совершенно очевидно, что он объединяет в каждый данный момент оба эти плана и что он является высшим и постоянно данным единством того противоречия, которое заложено в трагедии» [Выготский, 1925: 245].
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать следующие выводы: трагическое предполагает не пассивное страдание человека под тяжестью враждебных ему сил, а его свободную, активную деятельность, восстание против рока, судьбы, обстоятельств и борьбу с ними. В трагическом человек раскрывается в переломный, напряженный момент своего существования. Сфера трагического находится в той области действительности, где человек в своей деятельности сталкивается с явлениями, которые пока еще не познаны им и не подвластны его воле. Но трагическое часто проявляется и в виде гибели идеала, совершенства, абсолюта человеческой нравственности в реальном мире.
Таким образом, в определениях можно наблюдать четкий контраст между «идеальным» и «реальным», что в итоге создает напряженный внутренний, духовный, моральный конфликт, который впоследствии достигает такой силы и накала, что проявляется на физическом уровне и становится предметом наблюдения зрителей трагедии.
1.3 Ядерные семы концепта трагическое
Трагическое можно анализировать не только как определенную эстетическую категорию, но и как концепт.
По мнению Ю. С. Степанова, «концепт — явление того же порядка, что и понятие. По своей внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие одинаковы: концепт является калькой с латинского conceptus «понятие» [Степанов, 2007: 29]. Также он считает, что «концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека» [Степанов, 2007:30].
З.Д. Попова и И. А. Стернин считают, что концепт? это «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [Попова, Стернин, 1999: 332].
С.А. Аскольдов пишет в статье «Концепт и слово», что «концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов, 1997:35].
В данной работе сделана попытка выделить концепт «трагическое» и проанализировать ядерные семы, входящие в его состав, с тем чтобы впоследствии практически осмыслить их отражение в языковых средствах, используемых Шекспиром.
Компонентный анализ концепта основывается на идее о выделяемости в значении слова минимальных семантических признаков — сем.
«Сема — предельная единица плана содержания. Семы представляют собой элементарные отражения различных сторон и свойств обозначаемых предметов и явлений действительности» [ЛЭС, 1990: 437].
Итак, проанализировав вышеприведенные русские и английские определения понятия трагическое, можно прийти к выводу, что они содержат в себе следующие ядерные семы: «конфликт» («conflict») с репрезентантами "борьба", «struggle», «гибель», «catastrophe»; а также семы «величие», «рок», «fate», «sorrow», «misfortune».
2. Отображение ядерных структур концепта трагическое в трагедиях «Ричард III» и «Ромео и Джульетта»
2.1 Метафора и сравнение как носители сем «величие», «гибель» и «конфликт»
«Как и всякий гениальный поэт, Шекспир обладал чудотворною властью над звукописью, над инструментовкой стиха, над всеми средствами языковой выразительности… Вообще то была эпоха недосягаемо высокой словесной культуры» [Чуковский, 2011:238]. Количество языковых средств, используемых в пьесах Шекспира, огромно, и поэтому «…литературовед, рассматривая особенности индивидуального стиля автора… не может пройти мимо анализа языковых средств, если он стремится проникнуть в суть вопроса. В противном случае он будет скользить по поверхности» [Рецкер, 2010: 130].
Одним из традиционных литературных приемов, используемых Шекспиром, является метафора.
«Метафора -
1. Вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому, а также вообще образное сравнение в разных видах искусств.
2. В лингвистике: переносное употребление слова, образование такого значения" [Ожегов, Шведова, 2006:392].
«О метафоре как явлении стиля следует говорить в тех случаях, когда в слове или в сочетании слов сознается или ощущается и прямое и переносное значение» [Петровский, 1925:82].
По мнению Кольриджа, «если в сравнительном обороте опустить предмет, к которому подобрано сравнение, то тогда получится метафора» [Кольридж, 1981:62].
Рассмотрим метафоры, использованные в «Ромео и Джульетте»:
1) Love is a smoke raised with the fume of sighs;
Being purged, a fire sparkling in lovers' eyes;
Being vex’d, a sea nourish’d with lovers' tears:
What is it else? a madness most discreet,
A choking gall and a preserving sweet.
Любовь здесь сравнивается с метафорически обыгранными образами «дыма», «огня», «моря». Все это — природные явления, пугающие своей непредсказуемостью; они не поддаются контролю человека. Ромео ощущает себя игрушкой, заложником своей трагической любви.
2) Romeo
But, soft! What light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Ромео сравнивает Джульетту с солнцем, прекрасным и недостижимым. Мы сталкиваемся с проявлением ключевой семы «величие».
3) Juliet
Do not swear at all;
Or, if thou wilt, swear by thy gracious self,
Which is the god of my idolatry,
And I’ll believe thee.
В данной метафоре Джульетта сравнивает Ромео с богом, кумиром.
4) Juliet
This bud of love, by summer’s ripening breath,
May prove a beauteous flower when next we meet.
Любовь метафорически сравнивается с бутоном, а потом, в результате развития чувств,? с цветком. Подчеркивается величие и красота любви, которая, как и настоящие цветы, должна погибнуть в реальном мире.
5) Paris
Sweet flower, with flowers thy bridal bed I strew, ?
O woe! thy canopy is dust and stones.
Парис сравнивает Джульетту с прекрасным распустившимся цветком.
Во всех вышеперечисленных метафорах можно наблюдать проявление общей семы «величие». Шекспир делает акцент на возвышенности своих героев, с тем чтобы в дальнейшем проявить контраст между ними и миром.
Далее рассмотрим метафоры, в которых лидирующей является выделенная выше сема «гибель».
6) Juliet
O, break, my heart! poor bankrupt, break at once!
Джульетта иносказательно называет свое сердце «банкротом», подчеркивая этим невозможность достижения счастья. Ее жизнь разрушена, она на краю гибели.
7) Paris
…to stop the inundation of her tears.
Парис сравнивает поток слез Джульетты с «наводнением». Здесь мы видим, что метафора символически связывается с образом стихии, которая всегда была гибельной для человека и не поддавалась контролю. Таким образом, видно, что человек бессилен перед трагическим в своей жизни так же, как и перед стихийным бедствием.
8) Romeo
Thou detestable maw, thou womb of death,
Gorged with the dearest morsel of the earth.
Ромео сравнивает склеп, где погребена Джульетта, с прожорливой глоткой, смертельной утробой, которая поглотила невинное создание. Фамильная гробница является источником смерти. Здесь можно наблюдать противопоставление двух метафор, столкновение двух выделенных ранее сем — «гибель» и «величие», на основании чего становится заметным конфликт.
9) Friar Laurence
Lady, come from that nest
Of death, contagion, and unnatural sleep.
Отец Лоренцо просит Джульетту покинуть мрачный фамильный склеп, метафорически сравнивая его с «гнездом смерти». Здесь актуализируется значение семы «гибель».
Рассмотрим также метафоры, использованные в «Ричарде III»:
10) Pale ashes of the house of Lancaster!
Thou bloodless remnant of that royal blood!
Наследники династии Ланкастеров сравниваются с «бледным прахом»; они бескровны, безжизненны. Некогда могущественная королевская семья теперь стоит на краю гибели.
11) Avaunt, thou dreadful minister of hell!
Ричард III сравнивается с посланником ада, то есть демоном, несущим уничтожение всем окружающим.
12) Queen Margaret
And then hurl down their indignation
On thee, the troubler of the poor world’s peace!
The worm of conscience still be-gnaw thy soul!
Королева Маргарита проклинает Ричарда, желая, чтобы его совесть стала подобна червю, постоянно грызущему человека, что в итоге должно привести его к моральной и нравственной гибели.
13) Duchess
Alas, I am the mother of these griefs!
…I am your sorrow’s nurse.
Герцогиня сравнивает себя с матерью, нянькой горя и бед. Она произвела на свет человека, который обрек на гибель и несчастья множество своих подданных.
14) Duchess
O my accursed womb, the bed of death!
A cockatrice hast thou hatch’d to the world,
Whose unavoided eye is murderous.
Герцогиня сравнивает свое чрево со смертным ложем, породившим «василиска», чей взгляд смертоносен и убивает всех, кто имел несчастье встретиться с ним.
15) Queen Margaret
From forth the kennel of thy womb hath crept
A hell-hound that doth hunt us all to death.
Иносказание, использованное королевой Маргаритой, говорит нам, что Ричард — «гончий пес ада», цель которого — затравить всех до смерти.
16) Richard
Out on you, owls! Nothing but songs of death?
В данной метафоре Ричард сравнивает гонцов с «совами», несущими дурные вести; обычно подобные птицы рассматривались в традиционном творчестве разных стран как предвестники гибели, грядущей катастрофы.
17) Richard
Your eyes drop millstones when fools' eyes fall tears.
В данном случае мы видим противопоставление двух метафорически обыгранных образов: дураки плачут обычными слезами, а слезы Ричарда скорее напоминают тяжелые жернова. Здесь можно выявить сему «конфликт», так как можно наблюдать контраст между поведением Глостера и поведением обычных людей, своего рода противопоставление.
18) Queen Elizabeth
The tiger now hath seiz’d the gentle hind.
Королева Елизавета сравнивает Ричарда III с тигром, который набросился на беззащитную лань. Мы наблюдаем сему «конфликт», которая проявляется в очевидном противопоставлении злобного, безжалостного хищника и невинных наследников.
19) Queen Margaret
Thou elvish-mark'd, abortive, rooting hog,
Thou that wast seal’d in thy nativity
The slave of nature and the son of hell,
Thou slander of thy heavy mother’s womb,
Thou loathed issue of thy father’s loins,
Thou rag of honour, thou detested ;
Королева Маргарита дает Ричарду меткие метафорические определения; в них выделяется общая сема «гибель».
20) `O, thus' quoth Dighton `lay the gentle babes';
`Thus, thus, 'quoth Forrest `girdling one another
Within their alabaster innocent arms.
Their lips were four red roses on a stalk,
And in their summer beauty kiss’d each other.
В данном случае мы видим проявления семы «величие». Даже циничные убийцы потрясены содеянным.
21) Queen Margaret
That dog, that had his teeth before his eyes
To worry lambs and lap their gentle blood,
That foul defacer of God’s handiwork,
That excellent grand tyrant of the earth
That reigns in galled eyes of weeping souls;
Королева Маргарита, описывая Ричарда, прибегает к однородным метафорам, выражающим сему «гибель».
Обратимся теперь к рассмотрению шекспировских сравнений.
«Сравнение — образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета» [Квятковский, 1966:289]. Также «в сравнении — истоки поэтического образа» [Квятковский, 1966:291].
«Два понятия, обычно относящиеся к разным классам явлений, сравниваются между собой по какой-либо одной из черт, причем это сравнение получает формальное выражение в виде таких слов, как as, such as, as if, like, seem» [Гальперин, 2011:139], например:
22) Romeo
O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
Like a rich jewel in an Ethiope’s ear.
Красота Джульетты сравнивается с жемчужной серьгой в ухе мавра. В данном случае подчеркивается величие образа Джульетты, что в дальнейшем углубляет раскол между ее возвышенностью и низменностью реального мира.
23) Romeo
So shows a snowy dove trooping with crows,
As yonder lady o’er her fellows shows.
Джульетта в окружении присутствующих сопоставляется с белоснежной голубкой среди ворон. Здесь актуализируется сема «конфликт», так как противопоставление — очевидно.
24) Romeo
O, speak again, bright angel! for thou art
As glorious to this night, being o’er my head
As is a winged messenger of heaven
Unto the white-upturned wondering eyes
Of mortals that fall back to gaze on him
When he bestrides the lazy-pacing clouds
And sails upon the bosom of the air.
Здесь мы видим метафору, в которой Джульетта уподобляется ангелу; также здесь присутствует сложное развернутое сравнение, усиленное эпитетами. На возвышенности и величии Джульетты вновь делается акцент.
25) Juliet
My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.
Любовь Джульетты сравнивается с морем, подчеркивается общий признак — безграничность и глубина. Эффект усиливается синтаксическими повторами. Здесь вновь можно выделить ключевую сему «величие». Шекспир в очередной раз сравнивает чувства трагического героя с природными стихиями.
26) Juliet
Come, night; come, Romeo; come, thou day in night;
For thou wilt lie upon the wings of night
Whiter than new snow on a raven’s back.
Джульетта метафорически сопоставляет Ромео с днем, подчеркивая его красоту в сопоставлении с ночью; выделяются семы «белый-черный», «снег-крыло ворона»; следовательно, мы можем наблюдать здесь лексический контраст, проявление семы «конфликт».
27) Juliet
So tedious is this day
As is the night before some festival
To an impatient child that hath new robes
And may not wear them.
Джульетта не находит себе места, она настолько взвинчена и напряжена, что сравнивает медлительно тянущийся день с томительной ночью перед праздником. Здесь можно увидеть проявление ключевой семы «страсть».
28) Juliet
Hath Romeo slain himself? say thou but `I',
And that bare vowel `I' shall poison more
Than the death-darting eye of cockatrice.
Ответ «да» для Джульетты хуже, чем резкий смертоносный взгляд василиска. Вновь проявляются ключевые семы «страсть», «гибель».
29) Friar Laurence
But, like a misbehaved and sullen wench,
Thou pout’st upon thy fortune and thy love.
Отец Лоренцо сравнивает Ромео с надувшейся капризной девчонкой. В данном случае присутствует определенная доля иронии, которая затем лишь сильнее усиливает контраст, выступает как фон для реализации конфликта.
30) Capulet
Evermore showering? In one little body
Thou counterfeit’st a bark, a sea, a wind;
For still thy eyes, which I may call the sea,
Do ebb and flow with tears; the bark the body is,
Sailing in this salt flood; the winds, thy sighs;
Who, raging with thy tears, and they with them,
Without a sudden calm, will overset
Thy tempest-tossed body.
Здесь мы вновь видим элементы иронии — Капулетти, описывая состояние Джульетты, сравнивает ее глаза с морем, тело с лодкой, плывущей по бурному морю, а вздохи — с завыванием ветра.
31) Friar Laurence
The roses in thy lips and cheeks shall fade
To wanny ashes, thy eyes' windows fall,
Like death, when he shuts up the day of life.
Здесь находит свое выражение сема «гибель». Сколь бы прекрасна ни была Джульетта, ее ожидает трагический исход.
32) Capulet
Death lies on her like an untimely frost
Upon the sweetest flower of all the field.
Тень смерти лежит на Джульетте подобно тому, как преждевременный мороз настигает самый прекрасный цветок. Посредством данного сравнения актуализируется и находит сове выражение сема «гибель».
33) Romeo
The time and my intents are savage-wild,
More fierce and more inexorable far
Than empty tigers or the roaring sea.
Намерения Ромео безумны; они страшнее бушующего моря и хищников. С помощью данных сравнений проявляется ключевая сема «страсть».
34) Lady Capulet
O me! this sight of death is as a bell,
That warns my old age to a sepulchre.
Зрелище смерти сопоставляется с колоколом, который призывает жену Капулетти сойти в гробницу. Данное сравнение выявляет сему «гибель».
35) Romeo
Alack, there lies more peril in thine eye
Than twenty of their swords.
В глазах Джульетты — больше опасности, чем в двадцати мечах; в данном сравнении ключевым элементом вновь является сема «гибель». Несмотря на хрупкость Джульетты, она все же несет гибель.
Также множество сравнений мы находим в «Ричарде III», например, интересна перепалка Ричарда и Анны:
36) Richard
Fairer than tongue can name thee, let me have
Some patient leisure to excuse myself.
Lady Anne
Fouler than heart can think thee, thou canst make
No excuse current but to hang thyself.
Автор использует однородные сравнения; также видно противопоставление оценок, которые Ричард и Анна дают друг другу. Ричард называет Анну прекрасным созданием; Анна парирует, что Ричард — омерзительнейшее существо. С помощью сравнений высвечивается сема «конфликт».
37) Richard
Look how I am bewitch'd; behold, mine arm
Is like a blasted sapling wither’d up.
Ричард III cравнивает свою руку с высохшей веткой, намекая, что это результат наведенных на него злых чар.
Таким образом, на основании примеров, приведенных выше, можно сделать следующие выводы: ядерные семы «величие», «гибель», «страсть», «конфликт» широко представлены в используемых Шекспиром метафорах и сравнениях и являются основными сигнификаторами понятия трагическое. Происходит постоянное столкновение, противопоставление возвышенного и низменного, результатом чего является возникновение трагического конфликта, влекущего за собой страдания и смерть героев. Их переживания оказываются настолько сильными, что иного выхода у них не остается.
2.2 Эпитет как выражение мрачного и гибельного начала
Как известно, эпитеты играют очень важную роль в художественном тексте. Они придают произведению яркость, выразительность, усиливают эмоционально-оценочный компонент в тексте и делают поэтическую лексику красочнее.
«Эпитет (греч. ?рЯиефпн — приложение) — в собственном смысле, образная характеристика какого-либо лица, явления или предмета посредством выразительного метафорического прилагательного» [Квятковский, 1966:338].
Еще одно определение эпитета: «Эпитет? это форма образного выражения, образное средство языка, основанное на переносном употреблении любой языковой единицы, обозначающей качество (свойство) предмета или действия» [Мезенин, 2002:84]. И далее: «Эпитет, глубинная структура которого нацелена на нагнетание мрачности,? непременный атрибут языка шекспировской трагедии. Модель „абстрактное понятие“? окраска мрачности — одна из самых распространенных» [Мезенин, 2002:92].
Данное утверждение известного специалиста по языку Шекспира полностью согласуется с частью выделенных основных сем трагического; возможно, это объясняется трагическим настроем пьес «Ричард III» и «Ромео и Джульетта».
Мы наблюдаем большое количество эпитетов в «Ромео и Джульетте», в основном это эпитеты, выраженные одним прилагательным:
fatal loins, fearful passage, rebellious subjects, pernicious rage, canker’d hate, brawling love, loving hate, heavy lightness, serious vanity, assailing eyes, holy shrine, blushing pilgrims, tempering extremities, mad blood, wretched boy, piercing steel, envious thrust, black strife, vile earth, deadly sin, rude unthankfulness, woful sympathy, piteous predicament, ancient damnation, pensive daughter, treacherous revolt, lamentable day, woful time, vile Montague, condemned villain, foul murder.
В основном все вышеуказанные эпитеты передают ярко выраженное угнетенное состояние; они мрачны и безысходны.
Есть также и эпитеты, выраженные прилагательным в превосходной степени: unworthiest hand, most wicked fiend. Здесь мы вновь видим определенную мрачность.
Среди них встречаются и сложные, многосоставные эпитеты:
death-marked love, neighbour-stained steel, saint-seducing gold, ill-beseeming semblance, love-devouring death, fire-eyed fury, peevish self-will'd harlotry, unreasonable fury, banish’d haughty Montague, black and portentous humour. Данные сложные эпитеты выполняют ту же самую стилистическую задачу — усиливают общий модус напряженности.
Рассмотрим примеры эпитетов в «Ромео и Джульетте»:
1) Romeo
I fear, too early: for my mind misgives
Some consequence yet hanging in the stars
Shall bitterly begin this fearful date
With this night’s revels and expire the term
Of a despised life closed in my breast
By some vile forfeit of untimely death.
Данные эпитеты создают у читателя мрачное, тяжелое, гнетущее впечатление. Ромео предчувствует, что его ждет трагическая развязка, катастрофа. Здесь можно наблюдать проявление в тексте выделенной ранее семы «гибель».
2) Benvolio
O noble Prince, I can discover all
The unlucky manage of this fatal brawl.
Мы видим, что в основе указанных эпитетов лежит сема «misfortune». Несмотря на все усилия, которые предпринимает герцог, правитель Вероны, конфликт двух семей оборачивается трагедией.
Подобное проявляется и в словах Джульетты и монаха Лоренцо:
3) Juliet
Then, dreadful trumpet, sound the general doom!
4) Friar Laurence
Ah, what an unkind hour
Is guilty of this lamentable chance!
Следующий эпитет придает мрачность словам герцога и подчеркивает его отношение к междоусобице, творящейся в городе:
5) Prince
Where are the vile beginners of this fray?
В следующем примере использованы как эпитеты, так и противопоставление:
6) Chorus
And she steals love’s sweet bait from fearful hooks.
Следовательно, здесь актуализируется сема «конфликт».
Далее рассмотрим эпитеты, появляющиеся в «Ричарде III»:
glorious summer, foul devil, remorseful tear, piteous moan, warlike father, revengeful heart, deadly stroke, repentant tears, woeful bed, dissentious rumours, rancorous enemy, shameful injury, vile suspects, blunt upbraidings, bitter scoffs, murd’rous villain, wrangling pirates, gentle villain, faultless blood, bloody deed, dread curse, peevish brat, bitter names, bottled spider, deadly web, frantic curse, eternal darkness, erroneous vassals, bloody minister, grudging hate, brutish wrath, black despair, rude impatience, tragic violence, fatherless distress, plenteous tears, desperate sorrow, a boist’rous storm, false friends, jealous arms, perilous boy, bloody Richard, miserable England, deep suspicion, ghastly looks, despiteful tidings, unpleasing news, deadly venom, timorous dreams, bloody dog, deep disgrace, untimely fall, virtuous Lancaster.
В основном все они вновь создают мрачную, тяжелую атмосферу. Они являются мощным выразительным средством, которое позволяет оказать влияние на зрителя. Также здесь получает свое проявление сема «гибель».
Обратим внимание на сложные эпитеты, появляющиеся в «Ричарде III»: grim-visag'd war; the jealous o’er-worn widow; black-fac'd Clifford; sharp-pointed sword; false-boding woman; God’s dreadful law; ne’er-changing night; damned blood-suckers; dead-killing news. Мы видим, что данные эпитеты усиливают трагическое мироощущение. Можно сказать, что основной семой здесь является «гибель».
«В языке Шекспира очень часто встречаются «множественные эпитеты, т. е. те случаи, когда при ведущем слове употребляется от двух до пяти эпитетов» [Мезенин, 2002:86], например, foul wrinkled witch; hardy stout resolved mates; poisonous bunch-back'd toad; deep, hollow, treacherous, sickly heart. Этот прием используется для усиления мрачной окраски.
7) Richard
As I am subtle, false, and treacherous.
Множественные эпитеты подчеркивают тяжелый характер Ричарда, актуализируется сема «гибель». Глостер несет в себе гибельное начало.
8) Duchess
Accursed and unquiet wrangling days,
How many of you have mine eyes beheld!
За свою долгую жизнь герцогиня успела увидеть много бед, но рождение Ричарда лишь усугубило их.
9) Duchess
So many miseries have craz’d my voice
That my woe-wearied tongue is still and mute.
Здесь проявляется сема «misfortune», с помощью которой усиливается мрачность происходящего.
10) Queen Elizabeth
Insulting tyranny begins to jet
Upon the innocent and aweless throne.
Использованные эпитеты противоположны по значению; в данном случае вновь можно увидеть проявление такой семы, как «конфликт».
11) Lady Anne
Poor key-cold figure of a holy king!
Подчеркивается святость и возвышенность короля; с помощью вышеуказанных эпитетов проявляется сема «величие», которая входит в концепт трагического.
12) Lady Anne
What black magician conjures up this fiend
To stop devoted charitable deeds?
Данные эпитеты противопоставляются друг другу, и мы вновь видим проявление в данном примере семы «конфликт». Жестокий Ричард противостоит величественному английскому трону, всей могущественной династии Ланкастеров. Фактически, данный конфликт уходит своими корнями вглубь, составляя суть войны Алой и Белой Роз. Шекспир выразил его, используя свой творческий гений.
13) Lady Anne
Then say they were not slain.
But dead they are, and, devilish slave, by thee.
Здесь Анна называет Ричарда приспешником дьявола. Обыгрывается сема «гибель», так как те, кто столкнулся с Глостером, уже мертвы.
14) Richard
Why dost thou spit at me?
Lady Anne
Would it were mortal poison, for thy sake!
Гибельные мотивы прослеживаются и в этом пожелании. Анна считает, что после смерти Ричарда мир вздохнет свободнее, и проклинает его.
15) Richard
If thy revengeful heart cannot forgive,
Lo here I lend thee this sharp-pointed sword.
Использованные эпитеты вновь достаточно мрачные, они усиливают эмоциональное впечатление от прочитанного.
16) Richard
Have done thy charm, thou hateful wither’d hag.
Ричард сравнивает королеву Маргариту со злобной ведьмой. Данный эпитет, несомненно, тоже обладает мрачной окраской.
17) Clarence
O, I have pass’d a miserable night,
So full of fearful dreams, of ugly sights,
That, as I am a Christian faithful man,
I would not spend another such a night
Though `twere to buy a world of happy days ;
So full of dismal terror was the time!
В речи Кларенса используются эпитеты, подчеркивающие модус «величие», и, наоборот, «гибель». Следовательно, вновь ярко проявляется столь типичный для поэтической речи Шекспира контраст.
18) Richard
I pray you all, tell me what they deserve
That do conspire my death with devilish plots
Of damned witchcraft, and that have prevail’d
Upon my body with their hellish charms?
Данные эпитеты подчеркивают инфернальность Ричарда, он вновь сравнивается с посланником ада. Здесь находит свое выражение выделенная ранее сема «гибель».
19) Queen Elizabeth
Ah, my poor princes! ah, my tender babes!
My unblown flowers, new-appearing sweets!
Здесь королева Елизавета метафорически сравнивает детей с нераспустившимися цветами. Использованные эпитеты служат в качестве фона, который лишь подчеркивает трагичность происходящего: юные наследники королевского трона были безжалостно убиты, став игрушкой в династической борьбе.
20) Richard
O coward conscience, how dost thou afflict me!
The lights burn blue. It is now dead midnight.
Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
В данном случае эпитеты усиливают эмоциональное воздействие на читателя, психологическое напряжение нарастает. Создается эффект ожидания неотвратимого конца, предчувствия грозной развязки. Это осуществляется с помощью мрачной окраски эпитетов.
На основании анализа вышеуказанных примеров, можно сделать следующие выводы: мы вновь видим проявление сем «гибель», «конфликт», «misfortune», которые, находя свое выражение в простых, сложных и множественных эпитетах, являются ключевым фактором, выражающим трагическое, мрачное, гибельное начало. Хотя герои трагедии действуют в соответствии со своей свободной волей, они не в силах повлиять на происходящее. Здесь можно узреть противостояние фатума, рока, судьбы и личности главного героя. В этом пульсирующем конфликте и находится сама суть понятия трагического.
2.3 Антитеза как средство для выражения контраста
Согласно словарю Квятковского, «антитеза? (греч. ?нфЯиеуйт — противоположение) — стилистическая фигура контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, состояний и т. п. в художественной или ораторской речи. Антитеза была широко распространена в западноевропейской литературе эпохи Возрождения и в поэзии позднейших времен» [Квятковский, 1966:98].
Рассмотрим примеры антитезы в «Ромео и Джульетте»:
1) Romeo
Ay, mine own fortune in my misery.
Здесь обыгрывается сочетание противоположных по значению слов fortune и misery; Ромео, отвечая на вопрос слуги, иронизирует над своей тяжелой судьбой. С помощью данного языкового средства находит свое выражение сема «конфликт».
2) And I will make thee think thy swan a crow.
Друзья Ромео, пытаясь отвлечь его от мыслей о Джульетте, противопоставляют ее другим девушкам; здесь вновь проявляется контраст.
3) Mercutio
Ay, gentle Romeo, we must have you dance.
Romeo
Not I, believe me: you have dancing shoes
With nimble soles: I have a soul of lead
So stakes me to the ground I cannot move.
Здесь можно наблюдать использование приема антитезы, а также интересную игру слов. Подчеркивается противопоставление Ромео и его друзей; вновь очевиден явный контраст.
4) Tybalt
I will withdraw; but this intrusion shall
Now seeming sweet convert to bitter gall.
Противопоставление диаметральных по значению слов sweet и gall подчеркивается с помощью эпитетов.
5) Juliet
A thousand times good night!
Exit, above
Romeo
A thousand times the worse, to want thy light.
Love goes toward love, as schoolboys from their books,
But love from love, toward school with heavy looks.
Использованная антитеза иронична; вновь можно выявить контраст.
6) Romeo
Amen, amen! but come what sorrow can,
It cannot countervail the exchange of joy
That one short minute gives me in her sight.
Антитеза — противопоставление cуществительных sorrow и joy. Несмотря на то, что отношения с Джульеттой опасны для Ромео, они приносят ему духовную радость, которую ничто не может затмить.
7) Juliet
O serpent heart, hid with a flowering face!
Did ever dragon keep so fair a cave?
Beautiful tyrant! fiend angelical!
Dove-feathere'd raven! wolvish — ravening lamb!
Despised substance of divines show!
Just opposite to what thou justly seem’st,
A damned saint, an honourable villain!
O nature, what hadst thou to do in hell,
When thou didst bower the spirit of a fiend
In moral paradise of such sweet flesh?
Was ever book containing such vile matter
So fairly bound? O that deceit should dwell
In such a gorgeous palace!
Здесь мы видим множество антитез, выраженных в основном с помощью эпитетов. Ярко выявлен контраст. Подобное очень характерно для стиля Шекспира. Противопоставляются paradise и flesh, то есть мы опять видим столкновение земного с идеальным. Также противопоставление осуществляется с помощью сложных стилистических приемов, таких, например, как оксюморон.
8) Juliet
Take up those cords: poor ropes, you are beguiled,
Both you and I; for Romeo is exiled:
He made you for a highway to my bed;
But I, a maid, die maiden-widowed.
Come, cords, come, nurse; I’ll to my wedding-bed;
And death, not Romeo, take my maidenhead!
Противопоставление существительных death и Romeo подчеркивается фразовым ритмом; противопоставлены также a maid и maiden-widowed.
9) Romeo
`Tis torture, and not mercy: heaven is here,
Where Juliet lives; and every cat and dog
And little mouse, every unworthy thing,
Live here in heaven and may look on her;
But Romeo may not: more validity,
More honourable state, more courtship lives
In carrion-flies than Romeo: they may seize
On the white wonder of dear Juliet’s hand
And steal immortal blessing from her lips,
Who even in pure and vestal modesty,
Still blush, as thinking their own kisses sin;
But Romeo may not; he is banished.
Противопоставляются torture и mercy; Ромео ощущает себя недостойным, так как он не может видеть Джульетту; он противопоставляет себя трупным мухам, которые могут воспользоваться возможностью, которую он потерял. Вновь становится очевидным выраженный контраст.
10) Juliet
Wilt thou be gone? it is not yet near day:
It was the nightingale, and not the lark,
That pierced the fearful hollow of thine ear.
Соловей, как птица, поющая ночью, противопоставляется жаворонку, как предвестнику утра.
11) Romeo
O my love! my wife!
Death, that hath suck’d the honey of thy breath,
Hath had no power yet upon thy beauty:
Thou art not conquer’d; beauty’s ensign yet
Is crimson in thy lips and in thy cheeks,
And death’s pale flag is not advanced there.
Противопоставляется живая красота Джульетты (яркие губы, румянец щек) и бледная тень смерти; здесь также используются метафоры и эпитеты, которые позволяют точнее раскрыть эмоциональный диапазон. Вновь становится очевидным ярко выраженный контраст.
12) Juliet
My only love sprung from my only hate!
Too early seen unknown, and known too late!
Prodigious birth of love it is to me,
That I must love a loathed enemy.
Love противопоставляется hate; Джульетта любит врага, которого ненавидит ее семья. Здесь ярко ощущается трагизм, в основе которого находится выделенная ранее сема «конфликт».
13) Romeo
Ah me! how sweet is love itself possess’d,
When but love’s shadows are so rich in joy!
Любовь расширяет эмоционально-чувственный диапазон человека: она может как вознести на вершины блаженства, так и низвергнуть в адскую бездну. Вновь можно выделить основную сему «конфликт», которая служит сигнификатором трагического.
14) Romeo
A grave? O no! a lantern, slaughter’d youth,
For here lies Juliet, and her beauty makes
This vault a feasting presence full of light.
Могила по контрасту противопоставляется светильнику, так как красота Джульетты сияет и освещает темноту склепа.
Далее рассмотрим примеры использования антитезы в «Ричарде III»:
15) Richard
And therefore, since I cannot prove a lover
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined to prove a villain
And hate the idle pleasures of these days.
Здесь можно увидеть морально-этическое объяснение поступков Ричарда: истоки трагического находятся внутри его самого; в его душе кроется неразрешенный глубокий конфликт.
16) Hastings
More pity that the eagles should be mew’d
Whiles kites and buzzards prey at liberty.
Противопоставляются крупные, величественные и благородные хищные птицы? орлы и более мелкие хищные птицы — коршуны, канюки. По мнению Гастингса, благородных людей запирают в тюрьму, а недостойные продолжают наслаждаться свободой.
17) Lady Anne
For thou hast made the happy earth thy hell.
Ричард превратил мир в ад; здесь мы можем наблюдать лексическое противопоставление.
18) Richard
I was provoked by her sland’rous tongue
That laid their guilt upon my guiltless shoulders.
«Вина» противопоставляется «невинности»; данная антитеза лишь усиливает контраст между поведением Глостера и его внутренним миром, то есть мы вновь сталкиваемся с подтверждением того, что истоки трагического конфликта — внутри самого героя.
19) Richard
Never came poison from so sweet a place.
Lady Anne
Never hung poison on a fouler toad.
Данная антитеза вновь ярко проявляет существующий разлом, впоследствии приведший к трагическому исходу: вновь видно, что поведение Ричарда III лицемерно, эгоистично и преследует только собственную выгоду.
20) Richard
Teach not thy lip such scorn; for it was made
For kissing, lady, not for such contempt.
Губы — для поцелуев, а не для презрения; антитеза подчеркивает несопоставимость слов и облика Анны.
21) Queen Margaret
Thy friends suspect for traitors while thou liv’st,
And take deep traitors for thy dearest friends!
В данном примере антитеза усиливается таким приемом, как хиазм. Противопоставляются друзья и предатели, что вновь усиливает контраст. Королева Маргарита проклинает Ричарда, желая ему путать врагов с друзьями.
22) Richard
And thus I clothe my naked villainy
With odd old ends stol’n forth of holy wit,
And seem a saint when most I play the devil.
Ричард лицемерен; он великолепный актер и играет для окружающих роль, которая сильно контрастирует с его внутренним состоянием, в чем и находятся истоки его напряженного внутреннего конфликта.
23) Queen Elizabeth
Stay, yet look back with me unto the Tower.
Pity, you ancient stones, those tender babes
Whom envy hath immur’d within your walls,
Rough cradle for such little pretty ones.
Rude ragged nurse, old sullen playfellow
For tender princes, use my babies well.
Здесь можно увидеть противопоставление Тауэра и невинно убиенных наследников трона — замок предстает перед нами как rough cradle, rude ragged nurse; то есть он слишком жестокий и холодный дом для младенцев; вновь подчеркивается разрыв между возвышенным и мрачным, давящим, низменным; с течением времени существующий раскол лишь углубляется, что и ложится в основу трагической коллизии.
24) Queen Elizabeth
Wilt thou, o God, fly from such gentle lambs
And throw them in the entrails of the wolf?
When didst thou sleep when such a deed was done?
Вновь противопоставляются невинные младенцы? lambs и Ричард? wolf.
25) Lady Anne
Avaunt, thou dreadful minister of hell!
Thou hadst but power over his mortal body,
His soul thou canst not have; therefore be gone.
Richard
Sweet saint, for charity, be not so curst.
В словах леди Анны виден контраст. Также здесь можно наблюдать интересное противопоставление в словах Ричарда, своеобразную игру слов, вновь подчеркивающую контраст.
Проанализировав данные примеры, можно сделать следующие выводы: контраст очень ярко проявлен в поэтическом языке Шекспира. Языковые приемы, базирующиеся на контрасте, такие, как антитеза, позволяют сделать акцент на разломе, разрыве между возвышенным и обыденным, что и составляет саму сущность трагического конфликта.
2.4 Параллелизм как средство для усиления эффекта трагического
По мнению К. И. Чуковского, «…шекспировской дикции свойственно широкое, вольное, раздольное течение речи» [Чуковский, 2011:230]. Данная особенность построения текста подчеркивается использованием такого языкового средства, как параллелизм. Приведем определения параллелизма:
«Параллелизм ;
1) сбалансированная повторяемость структурных элементов;
2) серии повторений. Это может быть повторение звуков, конструкций, смыслов; обычно несколько повторяющихся сегментов имеют примерно один объем или длину" [Словарь литературных терминов, 1925:230].
«Параллелизм — расстановка частей целого так, чтобы равные элементы (части) оказались уравновешенными внутри одинаковых конструкций. Такое распределение применимо к словам, выражениям, предложениям, абзацам и целым отрывкам произведения. Параллелизм, от греческого слова, означающего „один за другим“, риторический механизм, использующийся в любых жанрах во всех известных видах литературы» [Новый словарь литературных терминов, 2005:275].
Приведем примеры синтаксических и ритмических параллелизмов:
1) Romeo
She will not stay the siege of loving terms,
Nor bide the encounter of assailing eyes,
Nor ope her lap to saint-seducing gold.
В данном случае мы можем наблюдать повторение синтаксических конструкций, образующих параллелизм. Можно выделить сему «величие», которая, как мы выяснили ранее, входит в состав концепта трагическое.
2) Lady Anne
O God, which this blood mad’st, revenge his death!
O earth, which this blood drink’st, revenge his death!
Здесь можно увидеть повторение смысловых сегментов, создающее эффект схожести; противопоставление God и earth сильнее выделяет контраст, составляющий суть понятия трагическое.
3) Richard
Vouchsafe, divine perfection of a woman,
Of these supposed crimes to give me leave
By circumstance but to acquit myself.
Lady Anne
Vouchsafe, diffus’d infection of a man,
Of these known evils but to give me leave
By circumstance to accuse thy cursed self.
В репликах Ричарда и леди Анны присутствуют повторяющиеся синтаксические и лексические сегменты, при этом определения, которые они дают друг другу, сильно контрастируют.
4) Romeo
Is love a tender thing? It is too rough,
Too rude, too boisterous, and it pricks like thorn.
В этом примере можно увидеть повторение аналогичных конструкций с эпитетами. Также здесь явно очевидны антонимичные характеристики любви, которые дает Ромео. Он противопоставляет такому определению любви, как «нежная», следующее описание: «колется, как шип». Здесь можно увидеть проявление ранее рассмотренной выше семы «конфликт». Традиционные представления о любви, воспетые многими поэтами, заменяются в сознании Ромео на мрачные предчувствия. Это заранее подготавливает читателя к переживаниям.
5) Romeo
Beauty too rich for use, for earth too dear!
Параллельные синтаксические конструкции, подчеркивающие возвышенность, неземную красоту Джульетты, ее оторванность от мира. Здесь обыгрывается сема «величие».
6) Nurse
There’s no thrust,
No faith, no honesty in men; all perjured,
All forsworn, all naught, all dissemblers.
Смысловой параллелизм, в котором обыгрывается сема «конфликт». Также становится очевидным контраст между faith, honesty и perjured, forsworn, naught, dissemblers. Очевидно также, что контраст проявляется и в синтаксическом оформлении.
7) Capulet
Ha! let me see her: out, alas! she’s cold:
Her blood is settled, and her joints are stiff.
Параллельная конструкция — сложносочиненное предложение, создающее трагическую атмосферу.
«В целях эмоционально-художественного воздействия на читателя… часто применяется прием нарастания… Лексические средства располагаются одно за другим по возрастающей силе значений» [Гальперин, 2011:194]. По мнению Гальперина, прием нарастания условно можно поделить на три категории: логическое, эмоциональное и количественное нарастание.
Например:
8) Lady Capulet
Accursed, unhappy, wretched, hateful day!
Most miserable hour that e’er time saw
In lasting labour of his pilgrimage!
But one, poor one, one poor and loving child,
But one thing to rejoice and solace in,
And cruel death hath catch’d it from my sight!
Мы видим множественные эпитеты, главной семой в которых можно назвать «misfortune», а уже следующее определяемое слово, эпитет к которому — в превосходной степени, позволяет говорить об использовании приема нарастания, оказывающего угнетающее воздействие на читателя. В данном случае параллелизм усиливает общую мрачность повествования.
9) Paris
Beguiled, divorced, wronged, spited, slain!
Most detestable death, by thee beguiled,
By cruel thee quite overthrown!
Мы вновь наблюдаем использование такого приема, как параллелизм.
10) Capulet
Despised, distressed, hated, martyr’d, kill’d!
Uncomfortable time, why camest thou now
To murder, murder our solemnity?
«Эмоциональное нарастание обычно реализуется синонимами» [Гальперин, 2011: 194]. В данном случае мы видим использование приема синонимической конденсации.
11) Romeo
Eyes, look your last!
Arms, take your last embrace! and lips, o you
The doors of breath, seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing death!
Come, bitter conduct, come, unsavoury guide!
Обращения Ромео образуют параллельные конструкции, в которых подчеркивается сема «гибель». Трагические переживания Ромео приводят его к смерти.
12) Juliet
O, bid me leap, rather than marry Paris,
From off the battlements of yonder tower;
Or walk in thievish ways; or bid me lurk
Where serpents are; chain me with roaring bears;
Or shut me nightly in a charnel-house,
O’er-covered quite with dead men’s rattling bones,
With reeky shanks and yellow chapless skulls;
Or bid me go into a new-made grave
And hide me with a dead man in his shroud;
Things that, to hear them told, have made me tremble;
And I will do it without fear of doubt,
To live an unstaine’d wife to my sweet love.
В данном случае можно наблюдать использование синтаксических параллелизмов, усиленных противопоставлением; Джульетта согласна на все, лишь бы не выходить замуж за Париса.
Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, градация толкуется так: «последовательность, постепенность в расположении чего-нибудь при переходе от одного к другому» [Ожегов, Шведова, 2006:49].
Словарь-справочник лингвистических терминов Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой дает следующее толкование градации: «стилистическая фигура, состоящая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нарастание производимого ими впечатления» [Розенталь, Теленкова, 1985:57].
13) Juliet
O, if I wake, shall I not be distraught,
Environed with all these hideous fears?
And madly play with my forefather’s joints?
And pluck the mangled Tybalt from his shroud?
And, in this rage, with some great kinsman’s bone,
As with a club, dash out my desperate brains?
Джульетта боится сойти с ума, оказавшись в фамильном склепе, но идет на это ради любви; для выражения этого используется параллельная конструкция, состоящая из однородных сказуемых.
Рассмотрим примеры употребления параллельных конструкций в «Ричарде III»:
14) Lady Anne
O, cursed be the hand that made these holes!
Cursed the heart that had the heart to do it!
Cursed the blood that let this blood from hence!
More direful hap betide that hated wretch
That makes us wretched by the death of thee
That I can wish to adders, spiders, toads,
Or any creeping venom’d thing that lives!
If ever he have child, abortive be it,
Prodigious, and untimely brought to light,
Whose ugly and unnatural aspect
May fright the hopeful mother at the view,
And that be heir to his unhappiness!
If ever he have wife, let her be made
More miserable by the death of him
Than I am made by my young lord and thee!
В данном отрывке присутствует большое количество параллельных синтаксических конструкций, выраженных предложениями, синонимичными дополнениями, синонимичными эпитетами; также мы вновь видим противопоставление эпитетов, описывающих мать и ребенка. В данном случае актуализируется значение сем «misfortune» и «конфликт».
15) Clarence
Not to relent is beastly, savage, devilish.
Параллельные однородные эпитеты вновь подчеркиваются с помощью использования приема нарастания, причем самый тягостный эпитет — в конце.
16) Queen Elizabeth
Welcome, destruction, blood, and massacre!
Конструкция из синонимичных параллельных существительных, выражающих сему «гибель».
17) Duchess
A grievous burden was thy birth to me;
Tetchy and wayward was thy infancy;
Thy school-days frightful, desp’rate, wild, and furious;
Thy age confirm’d, proud, subtle, sly, and bloody,
More mild, but yet more harmful-kind in hatred.
Герцогиня сравнивает различные этапы становления Ричарда; используется множество параллельных конструкций. В них особенно четко проявляется сема «гибель».
18) Duchess
Bloody thou art; bloody will be thy end.
Герцогиня предрекает смерть своему кровожадному сыну; вновь используется параллельная синтаксическая конструкция, нагнетающая напряжение.
19) Richard
Perjury, perjury, in the high’st degree;
Murder, stern murder, in the dir’st degree;
All several sins, all us’d in each degree;
Throng to the bar, crying all `Guilty! guilty!'
Параллельные конструкции, состоящие из однородных существительных, позволяют ярче проявить трагическое в тексте пьесы.
20) Richmond
England hath long been mad, and scarr’d herself;
The brother blindly shed the brother’s blood,
The father rashly slaughter’d his own son,
The son, compell’d, been butcher to the sire.
Здесь использованы параллельные синтаксические конструкции, выраженные повторяющимися предложениями с похожим смыслом; вновь актуализируется значение семы «конфликт». Ричард III является больной ветвью династии Йорков; его жестокие поступки привели к трагическому исходу.
21) Richard
Ere you were queen, ay, or your husband King,
I was a pack-horse in his great affairs,
A weeder-out of his proud adversaries,
A liberal rewarder of his friends;
To royalize his blood I spent mine own.
Для описания характера Ричарда используются параллельные конструкции, выраженные эпитетами, объединенными с существительными.
Таким образом, на основании вышеуказанных примеров можно сделать следующий вывод: Шекспир широко использует прием параллелизма, что помогает ему в нагнетании эмоциональной напряженности, часто используются однородные эпитеты, существительные с нарастающим значением, а также целые предложения. Все это усиливает общий мрачный эффект, производимый на читателя; за счет повторения проявленная здесь сема «гибель» оказывает еще более сильное воздействие на читателя. Таким образом вновь находит свое выражение эффект трагического.
2.5 Гипербола и ирония как фон для реализации трагического
Согласно определению из Литературной энциклопедии, «гипербола (греч. — хресвплз) — стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, имеющего целью усиление выразительности. Гипербола часто сочетается с другими стилистическими приемами, придавая им соответствующую окраску: гиперболические сравнения, метафоры и т. п. Изображаемый характер или ситуация также могут быть гиперболическими. Гипербола свойственна и риторическому, ораторскому стилю, как средство патетического подъема, равно как и романтическому стилю, где пафос соприкасается с иронией» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2003:178].
«Ирония [греческое eironeia — притворство] - явно-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде, чтобы путем доведения до абсурда самой возможности положительной оценки осмеять и дискредитировать данное явление, обратить внимание на тот его недостаток, который в ироническом изображении заменяется соответствующим достоинством» [Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2003:225].
«Ирония — троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется» [ЛЭС, 1990:225].
Можно сделать следующий вывод на основании вышеприведенных определений: общая черта таких языковых средств, как гипербола и ирония, состоит в том, что лексические характеристики подаются в сильно преувеличенном, даже гротескном виде. Следовательно, данные языковые средства являются выразителями мрачной стороны трагического произведения, и по-настоящему мрачные лексические средства становятся только еще более заметны на их фоне. Повышенный уровень трагического выражается с помощью гиперболы. Что же касается иронии, она часто является горькой, например, в высказываниях Ромео и герцогини, матери Ричарда.
В качестве иллюстрации рассмотрим примеры гипербол в «Ромео и Джульетте»:
1) Juliet
What devil art thou, that dost torment me thus?
This torture should be roar’d in dismal hell.
Hath Romeo slain himself?
Say thou but `I',
And that bare vowel `I' shall poison more,
Than the death-darting eye of cockatrice.
Она сравнивает кормилицу с демоном, который мучает ее; свои переживания Джульетта сравнивает со страданиями, которые напоминают адские. Кормилица сообщила ей неверные сведения о смерти Ромео.
2) Romeo
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than she:
Be not her maid, since she is envious.
Здесь Джульетта метафорически сравнивается с солнцем, что является гиперболизированным определением, и впоследствии противопоставляется луне, которая настолько завидует ей, что бледнеет от горя. Красота Джульетты настолько ослепительна, что превосходит сияющую красоту естественного светила. Гипербола здесь выражена сравнительной степенью прилагательного fair.
3) Juliet
Blister’d be thy tongue
For such a wish! he was not born to shame:
Upon his brow shame is ashamed to sit;
For `tis a throne where honour may be crown’d
Sole monarch of the universal earth.
Подобное возвышенное гиперболизированное сравнение вновь возвращает нас к семе «величие».
4) Romeo
There is no world without Verona walls,
But purgatory, torture, hell itself.
Отчаянное настроение Ромео как нельзя лучше подчеркивается гиперболизированным сравнением, а также однородными существительными с ярко выраженным оценочным компонентом. Здесь проявляется сема «гибель».
5) Lady Capulet
Tonight she is mew’d up to her heaviness.
В данном примере мы можем наблюдать гиперболу, подчеркивающую тяжесть положения Джульетты.
6) Romeo
O, give me thy hand,
One writ with me in sour misfortune’s book!
В данном случае гипербола выражается с помощью описательного определения, в котором явно видна сема «misfortune».
7) Prince
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
Здесь имеет место гиперболизированное определение истории Ромео и Джульетты как настолько печальной и трагичной, что она превосходит все любовные истории в мире.
Рассмотрим примеры использования гипербол в «Ричарде III»:
8) Lady Anne
Thou wast provoked by thy bloody mind,
That never dream’st on aught but butcheries.
Cема «гибель» находит здесь свое выражение: Ричард способен думать только о том, как уничтожить людей; его ум настолько гибелен для всех, в том числе и для него самого, что использование гиперболы здесь оправдано.
9) Lady Anne
Black night o’ershade thy day, and death thy life!
В данном примере мы видим гиперболизированное пожелание леди Анны Ричарду; она проклинает его.
10) Richard
What! I that kill’d her husband and his father;
To take her in her heart’s extremest hate,
With curses in her mouth, tears in her eyes,
The bleeding witness of my hatred by;
Having God, her conscience, and these bars against me,
And I no friends to back my suit at all
But the plain devil and dissembling looks,
And yet to win her, all the world to nothing!
Ha!
Несмотря на чудовищные поступки, которые совершал Ричард, ему удалось жениться на леди Анне. Описание злобных поступков Глостера осуществляется с помощью гиперболы.
11) Richard
And will she yet abase her eyes on me,
That croppe’d the golden prime of this sweet prince
And made her widow to a woeful bed?
В данном случае также используется гипербола, ее даже можно назвать гротескным преувеличением.
12) Hastings
O, `twas the foulest deed to slay that babe,
And the most merciless that e’er was heard of!
Rivers
Tyrants themselves wept when it was reported.
Здесь мы вновь видим гиперболу: даже тираны оплакивали смерть наследника.
13) Queen Margaret
Can curses pierce the clouds and enter heaven?
Why then, give way, dull clouds, to my quick curses!
<�…>
Long mayest thou live to wail thy children’s death,
And see another, as I see thee now,
Deck’d in thy rights, as thou art stall’d in mine!
Long die thy happy days before thy death;
And, after many length’ned hours of grief,
Die neither mother, wife, nor England’s Queen!
Проклятия королевы Маргариты позже достигли цели; они достигают высокого эмоционального накала, что обеспечивается за счет использования гиперболы.
14) Queen Elizabeth
Ay me, I see the ruin of my house!
…I see, as in a map, the end of all.
Вновь гипербола: королева Елизавета предрекает гибель королевского дома.
15) Hastings
O bloody Richard! Miserable England!
I prophest the fearful'st time to thee
That ever wretched age hath look’d upon.
Гастингс в своем пророчестве предрекает Англии тягчайшее, мучительное время; для выражения этого вновь используется такой прием, как гипербола.
16) Richard
But I am in
So far in blood that sin will pluck on sin.
Tear-falling pity dwells not in this eye.
В данном случае гипербола употребляется для того, чтобы охарактеризовать моральную пропасть, разверзшуюся в душе Ричарда, показать глубину его нравственного падения.
17) Tyrrel
When Dighton thus told on: `We smothered
The most replenished sweet work of nature
That from the prime creation e’er she framed.'
Hence both are gone with conscience and remorse
They could not speak; and so I left them both,
To bear this tidings to the bloody King.
Здесь можно увидеть как использование гиперболы в описании невинных детей, так и последующее противопоставление их кровавому Ричарду.
18) Duchess
No, by the holy rood, thou know’st it well
Thou cam’st on earth to make the earth my hell.
Герцогиня говорит, что мир после рождения Ричарда стал адом для нее; для выражения этого используется гиперболизированное сравнение.
19) Duchess
Therefore take with thee my most grievous curse,
Which in the day of battle tire thee more
Than all the complete armour that thou wear’st!
Герцогиня посылает Ричарду тягчайшее проклятие, которое тяжелее его боевых доспехов. Это выражается с помощью использования приема гиперболы.
20) Richard
I shall despair. There is no creature loves me;
And if I die no soul will pity me:
And wherefore should they, since that I myself
Find in myself no pity to myself?
Ричард достиг глубин отчаяния; он сам не испытывает к себе жалости, и другие тем более не будут его жалеть. В данном случае гиперболизированное описание показывает, что трагическое составляет самую сокровенную суть его натуры.
21) Lady Anne
Villain, thou knowest nor law of God nor man:
No beast so fierce but knows some touch of pity.
Richard
But I know none, and therefore am no beast.
Здесь можно увидеть ироничную игру слов, основанную на гиперболе.
22) Richard
For he was fitter for that place than earth.
Lady Anne
And thou unfit for any place but hell.
Вновь мы наблюдаем игру слов, которая усиливается сильно преувеличенной негативной оценкой.
23) Lady Anne
Out of my sight! Thou dost infect mine eyes.
Richard
Thine eyes, sweet lady, have infected mine.
Lady Anne
Would they were basilisks to strike thee dead!
Леди Анна желает Ричарду смерти; для выражения этого используется гипербола, что только усиливает трагический эффект.
Приведем примеры использования иронии:
24) Mercutio
If love be rough with you, be rough with love;
Prick love for pricking, and you beat love down.
Ироничное высказывание Меркуцио говорит читателю о том, что любовь не так сладка, как это принято считать. Она сопряжена с преодолением трудностей, борьбой.
25) Lady Capulet
Evermore weeping for your cousin’s death?
What, wilt thou wash him from his grave with tears?
Леди Капулетти не обладает такой же чувствительной натурой, как ее дочь; душевные терзания Джульетты ей непонятны. Мы видим, что, в соответствии с определением понятия трагическое, конфликт находится внутри самой героини и мало зависит от внешних обстоятельств.
26) Capulet
Death, that hath ta’en her hence to make me wail,
Ties up my tongue and will not let me speak.
Friar Laurence
Come, is the bride ready to go to church?
Capulet
Ready to go, but never to return.
Здесь можно наблюдать проявление горькой иронии. Появляется отец Лоренцо, чтобы обвенчать Джульетту. Когда же он узнает о ее смерти, становится понятно, что церковь, вместо того, чтобы стать для Джульетты счастливейшим местом, вынуждена исполнить роль обители горя и печали.
27) Montague
O thou untaught! what manners is in this?
To press before thy father to a grave?
Трагическое стечение обстоятельств привело Ромео к смерти; Монтекки горько иронизирует, говоря, что сын слишком поторопился и обогнал отца.
28) Richard
Go tread the path that thou shalt ne’er return.
Simple, plain Clarence, I do love thee so
That I will shortly send thy soul to heaven,
If heaven will take the present at our hands.
Ричард иронично намекает, что отправит Кларенса на небеса. В данном случае ирония подчеркивает внутренний конфликт Ричарда.
29) Richard
For then I’ll marry Warwick’s youngest daughter.
What though I kill’d her husband and her father?
The readiest way to make the wench amends
Is to become her husband and her father.
Как мы видим, хотя Ричард и является негативным персонажем, Шекспир не отказывает себе в удовольствии наделить своего героя саркастическим юмором. В данном случае ирония выступает как фон, который только больше оттеняет общую трагичность повествования. Вновь можно наблюдать, что актуализируются такие семы, как «гибель» и «конфликт».
30) Clarence
O, do not slander him, for he is kind.
First murderer
Right, as snow in harvest. Come, you deceive yourself:
`Tis he that sends us to destroy you here.
Вновь Шекспир прибегает к использованию приема иронии: Ричард добр, как мороз, побивший урожай. Настоящий смысл высказывания скрыт.
31) Catesby
It is a reeling world, indeed, my lord;
And I believe t’will never stand upright
Till Richard wear the garland of the realm.
Hastings
How! wear the garland! dost thou mean the crown?
Catesby
Ay, my good lord.
Hastings
I’ll have this crown of mine cut from my shoulders
Before I’ll see the crown so foul misplac’d.
Гастингс и Кетсби иронизируют над Ричардом: пока корона принадлежит Глостеру, Англия не может быть спокойной и мирной.
32) Catesby
The Princes both make high account of you ?
[Aside] For they account his head upon the bridge.
Кэтсби иронизирует над придворным, который может стать жертвой жестоких придворных интриг.
33) Richard
I must be married to my brother’s daughter,
Or else my kingdom stands on brittle glass.
Murder her brothers, and then marry her!
Uncertain way of gain!
Вновь мы видим пример использования горькой иронии: Ричард собирается жениться на девушке после того, как убил ее братьев. Здесь он иронизирует скорее над собой, что лишь подчеркивает глубину трагичности.
34) Richard
Darr’st thou resolve to kill a friend of mine?
Tyrrel
Please you;
But I had rather kill two enemies.
В данном случае ирония больше напоминает игру слов; она строится на противопоставлении понятий друзья и враги.
Итак, на основании примеров, приведенных выше, можно сделать следующие выводы: гипербола и ирония обладают такой общей чертой, как гипертрофированность, и у Шекспира обычно носят мрачную окраску; следовательно, они в данном случае выступают как фон для реализации трагического.
3. Отображение ядерных сем концепта трагическое в переводах трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта»
3.1 Семы «гибель», «величие» и «конфликт» в переводах трагедии «Ричард III»
Как известно, особую трудность для перевода представляют поэтические произведения, что обусловлено лексическими, грамматическими и стилистическими особенностями самих поэтических произведений. Шекспир является признанным мастером слова, в трагических пьесах которого отчетливо ощущаются обреченность и накал страстей. Учитывая, что произведения этого поэта давно вошли в фонд мировой классики, существует множество вариантов перевода. Из всего многообразия переводов пьесы «Ричард III» мною были выбраны переводы М. Донского, Б. Лейтина и Анны Радловой.
В данной главе сделана попытка проанализировать вышеупомянутые переводы, вычленить в них и сравнить с оригиналом ключевые семы, конституирующие понятие трагического, то есть "гибель", "величие", "конфликт", а также рассмотреть переводческие трудности, возникшие в ходе выражения трагического.
Рассмотрим примеры из «Ричарда III». Герцогиня своими горькими словами показывает истинную суть характера своего сына:
1) Duchess
Dead life, blind sight, poor mortal living ghost,
Woe’s scene, world’s shame, grave’s due by life usurp’d,
Brief abstract and record of tedious days,
Rest thy unrest on England’s lawful earth,
Unlawfully made drunk with innocent blood.
Здесь мы видим использование таких типичных для Шекспира языковых средств, как однородные определения с мрачными эпитетами, а также множество противопоставлений. Обратимся к переводам:
Перевод Донского Ты, призрак во плоти, ходячий труп, Упырь, источник бед, срам мирозданья, Живой синодик безотрадных дней, ; Ты, беспокойный дух, оставь в покое Честную землю, ту, что нечестиво Невинной кровью жертв ты опоил. | Перевод Лейтина Живой мертвец, слепой и жалкий призрак, Из гроба вставший, воплощенье горя, Позор земли, итог унылых дней,; Дай беспокойству своему покой На английской, на праведной земле, Неправедно залитой кровью кротких. | Перевод Радловой Жизнь мертвая и взор слепой, дух смертный, Срам мира, труп, украденный из гроба, И книга скорбная печальных дней, Найди покой на той земле законной, Что беззаконно кровью опоили | |
Как видим, Донской объединил первые однородные определения в своем переводе; Радлова перевела dead life как жизнь мертвая, что, на мой взгляд, не совсем верно, так как представляет собой буквализм; Лейтин предпочел вариант перевода живой мертвец. Rest thy unrest, по моему мнению, лучше всего перевел Лейтин, правильно найдя выражение для этого элемента: Дай беспокойству своему покой; Радлова не полностью отобразила этот элемент смысла. Следующий сегмент текста, в котором присутствует антитеза, лучше перевел Донской, так как ему удалось сохранить в своем переводе такие семы, как «гибель» и «конфликт». В данном случае все выявленные языковые средства показывают своей мрачной окраской, что являются носителями семы «гибель».
Королева Маргарита насылает на Ричарда, который убил ее мужа и сына, тяжкие проклятья:
2) Queen Margaret
If heaven have any grievous plague in store
Exceeding those that I can wish upon thee,
O, let them keep it till thy sins be ripe,
And then hurl down their indignation
On thee, the troubler of the poor world’s peace!
The worm of conscience still be-gnaw thy soul!
Thy friends suspect for traitors while thou liv’st,
And take deep traitors for thy dearest friends!
No sleep close up that deadly eye of thine,
Unless it be while some tormenting dream
Affrights thee with a hell of ugly devils!
Thou elvish-mark'd, abortive, rooting hog,
Thou that wast seal’d in thy nativity
The slave of nature and the son of hell,
Thou slander of thy heavy mother’s womb,
Thou loathed issue of thy father’s loins,
Thou rag of honour, thou detested ;
Перевод Донского Когда у неба есть бичи ужасней, Чем те, что на тебя я призываю, Пусть даст оно твоим грехам созреть, А там свой гнев обрушит на тебя, На сеятеля смут в несчастном мире. Червь угрызений пусть тебя изгложет! Подозревай своих друзей в измене, Изменников возьми себе в друзья! Пускай к тебе, лишь ты смежишь глаза, Слетаются ужасные виденья И сонмы бесов мучают твой дух! Ты, корни подрывающий кабан! Ты, кто отмечен в самый час рожденья Как выродок, как адское исчадье! Ты, чрева материнского позор! Ты, чресл отцовских порченое семя! Такому поношению природы, Такому поруганью благородства Одно лишь имя… | Перевод Лейтина Коль есть в запасе у небес мученья, Страшней всего, что я тебе желаю, ? Пусть их Творец придержит до поры, Пока грехи злодея не созреют, И ярый гнев обрушит на того, Кто мир нарушил в этом бедном мире! Червь совести пусть точит злую душу! Пускай, друзей в измене заподозрив, Ты будешь предан лучшими из них! Пусть пред тобой, едва смежишь ты веки, Появятся, терзая душу страхом, Виденья ада, демонов и мук! Ты — недоносок, житель ада, раб, Печатью зла с рожденья заклейменный! Ты — черный, землю роющий кабан! Ты — чрева материнского позор! Ты — ненавистный плод отцовских чресел! Ты — изверг! | Перевод Радловой Когда у бога про запас есть язвы И хуже тех, что на тебя зову я, Пусть их хранит, пока грехи твои Созреют, и тогда лишь поразит Тебя, что в бедном мире мир разрушил! Пусть совесть и душу изгрызет твою! Всю жизнь друзей своих считай врагами, Врагов друзьями лучшими считай! Пусть сон коснется грешных глаз твоих Лишь для того, чтоб в тяжких сновиденьях Рой гнусных дьяволов тебя пугал! Горбун ты, недоношенный свиньей! Ты, заклейменный в час, когда родился, Как раб природы, как отродье ада! Ты, чрева материнского позор! Ты, семя мерзкое отцовских чресл! Бесчестное отребье. | |
Мы можем видеть, что употребляется очень большое количество языковых средств, задающих общий трагический тон повествования. Например, определение, которое Маргарита дает Ричарду: the troubler of the poor world's peace. Только Донской передал в переводе существительное — сеятель смут в несчастном мире; остальные обошлись развернутыми определениями. The worm of conscience передан у Донского как червь угрызений, у Лейтина — червь совести, в переводе Радловой данный элемент опущен. Tormenting dream передано в переводе Донского как ужасные виденья; в переводе Лейтина ? виденья ада, демонов и мук; то есть Лейтин объединил данный элемент со следующим? a hell of ugly devils; у Радловой мы видим: чтоб в тяжких сновиденьях рой гнусных дьяволов тебя пугал! Данные переводы несут в себе отображение выделенной ранее семы «гибель». Далее следует рассмотреть мрачные определения, которыми королева Маргарита характеризует Глостера: slave of nature, son of hell, slander of thy heavy mother's womb, loathed issue of thy father's loins, rag of honour. В данном случае достигается эффект повторения, схожести, который усиливается использованием лексики с мрачной окраской. В переводе Донского мы видим: корни подрывающий кабан; выродок, адское исчадье; чрева материнского позор; чресл отцовских порченое семя; у Лейтина? недоносок, житель ада, раб; черный, землю роющий кабан; чрева материнского позор; ненавистный плод отцовских чресел; изверг; у Радловой ? горбун, недонощенный свиньей; раб природы; отродье ада; чрева материнского позор; семя мерзкое отцовских чресл; бесчестное отребье. Все эти переводы являются носителями таких ключевых сем, как «гибель» и «конфликт».
Далее обратимся к речи Ричмонда, которую он произнес перед своим войском:
3) Richmond
God and our good cause fight upon our side;
The prayers of holy saints and wronged souls,
Like high-rear'd bulwarks, stand before our faces;
Richard except, those whom we fight against
Had rather have us win than him they follow.
Перевод Донского Но помните: за нас и бог, и правда. Моления святых, молитвы жертв Нас защитят как крепостные стены. Все вражье войско, кроме полководца, Желает не ему, а нам победы. | Перевод Лейтина Помните одно: За нас Господь, у нас благая цель! Мольбы святых и души жертв невинных ; Вот ваша неприступная твердыня. Кто враг нам? Только Ричард! Остальные, Идя за ним, хотели бы победы Скорее нам, чем своему вождю. | Перевод Радловой Одно запомните: что бог и право Сражаются на нашей стороне. Молитвы всех святых и всех убитых Послужат нам высокою стеной. Из всех врагов одинь лишь Ричард нам Желает гибели, себе — победы. | |
Ричмонд воодушевляет свое войско тем, что их дело правое и на их стороне God и good cause, а также the prayers of holy saints and wronged souls. У Донского мы видим такой перевод: и бог, и правда; моления святых, молитвы жертв; у Лейтина ? За нас Господь, у нас благая цель; мольбы святых и души жертв невинных; у Радловой ? бог и право; молитвы всех святых и всех убитых. Эпитет wronged имеет мрачную окраску, в переводах это передано как «жертвы», что выделяет сему «гибель». Также в оригинале и в переводах актуализируется выделенная сема «величие», входящая в концепт трагическое.
Далее рассмотрим определения, данные Анной Ричарду:
4) Lady Anne
When he that is my husband now
Came to me, as I follow’d Henry’s corpse;
When scarce the blood was well wash’d from his hands
Which issued from my other angel husband,
And that dear saint which then I weeping follow’d ;
O, when I say, I look’d on Richard’s face,
This was my wish: `Be thou' quoth I `accurs'd
For making me, so young, so old a widow;
And when thou wed’st, let sorrow haunt thy bed;
And be thy wife, if any be so mad,
More miserable by the life of thee
Than thou hast made me by my dear lord’s death.'
Lo, ere I can repeat this curse again,
Within so small a time, my woman’s heart
Grossly grew captive to his honey words
And prov’d the subject of mine own soul’s curse,
Which hitherto hath held my eyes from rest;
For never yet one hour in his bed
Did I enjoy the golden dew of sleep,
But with his timorous dreams was still awak’d.
Besides, he hates me for my father Warwick;
And will, no doubt, shortly be rid of me.
Перевод Донского Когда предстал он, нынешний мой муж, Передо мной у Генрихова гроба, Который провожала я в слезах, Предстал, едва смыв с рук святую кровь И Генриха, и моего супруга, ? Я, глянув Ричарду в лицо, сказала: «Будь проклят ты! Меня из новобрачной Ты превратил в увядшую вдову. Так если ты жену себе возьмешь, Пусть скорбь твое не покидает ложе, И пусть твою жену,? когда найдется Безумная, что выйдет за тебя,? Своей ты жизнью горше обездолишь, Чем мой супруг меня — своею смертью". Увы, за время меньшее, чем нужно, Чтоб это мне проклятье повторить, Поймал он сердце женское мое На грубую приманку слов медовых. И вот мое проклятие сбылось: И час подряд на Ричардовом ложе Мне не вкусить златую свежесть сна, ? Я от его кошмаров пробуждаюсь. К тому же, как дочь Уорика, ему Я ненавистна, и меня он сгубит. | Перевод Лейтина Когда тот человек, Который мужем стал мне, появился у гроба Генриха, не смыв с себя Кровь ангела, что был мне первым мужем, И кроткого монарха кровь, чье тело Я провожала с плачем, ? О, тогда Я крикнула, взглянув ему в лицо: «Будь проклят! Ты меня вдовою сделал И в цвете лет в старуху превратил. Женись — и скорбь на ложе ляжет третьей! И пусть своей жене (коль за тебя Безумная какая-нибудь выйдет) При жизни причинишь ты больше горя, Чем смерть супруга причинила мне! Но он скорей, чем длится мой рассказ, Взял сердце женское медовой речью В тяжелый плен — и вот я стала жертвой Своих проклятий; нет покоя мне; Сон не смежает утомленных глаз, Упав на веки ласковой росою; Едва усну, как муж разбудит бредом. К тому же ненавидит он меня За Уорика-отца и, без сомненья, Расправится со мной, и очень скоро. | Перевод Радловой Когда пришел тот, кто супругом стал мне, За телом Генриха в слезах я шла, ? Его едва отмыты были руи От крови ангела, что был мне мужем, И от его отца пречистой крови,? О, я взглянула Ричарду в лицо: «Будь проклят,? говорю, ?я молода, А ты меня вдовою старой сделал! Как женишься, тоска к твоей постели Привяжется; жена — когда найдешь ты Безумную — твоею смертью будет Несчастнее, чем я потерей мужа!" Проклятья не поспела б повторить я, В столь краткий срок медовыми словами Моим он женским сердцем овладел. Мое ж проклятье на меня упало. С тех пор не знают отдыха глаза, И часа одного в его постели Я не вкусила золотого сна. От снов его ужасных просыпаюсь… Дочь Уорика — меня он ненавидит, И скоро он развяжется со мной. | |
В данном случае становится явным внутренний, нравственный конфликт Ричарда, который впоследствии находит свое выражение на событийном уровне. Своего мужа, убитого Ричардом, леди Анна называет my other angel husband, that dear saint; в переводах — у Донского — данный элемент смысла опущен, у Лейтина? ангел, что был мне первым мужем, кроткий монарх; у Радловой ? ангел, что был мне мужем; его отца пречистой крови. Здесь вновь проявляется сема «величие». Далее можно наблюдать использование такого стилистического приема, как антитеза: For making me, so young, so old a widow; в переводе Донского — меня из новобрачной ты превратил в увядшую вдову; в переводе Лейтина? ты меня вдовою сделал и в цвете лет в старуху превратил; в переводе Радловой ?я молода, а ты меня вдовою старой сделал! Также в этом примере можно наблюдать лексическое противопоставление: his honey words и mine own soul’s curse. В переводе Донского: грубая приманка слов медовых; в переводе Лейтина? медовая речь; в переводе Радловой? медовые слова. Также мы видим, что the golden dew of sleep нарушается ночными кошмарами ?
timorous dreams. Таким образом, можно вновь увидеть семы «гибель» и «конфликт».
Королева Маргарита высмеивает утерянное величие королевы Елизаветы:
5) Queen Margaret
Where is thy husband now? Where be thy brothers?
Where be thy two sons? Wherein dost thou joy?
Who sues, and kneels, and says `God save the Queen'?
Where be the bending peers that flattered thee?
Where be the thronging troops that followed thee?
Decline at this, and see now what thou art:
For happy wife, a most distressed widow;
For joyful mother, one that wails the name;
For one being su’d to, one that humbly sues;
For Queen, a very caitiff crown’d with care;
For she that scorn’d at me, now scorn’d of me;
For she being fear’d of all, now fearing one;
For she commanding all, obey’d of none.
Thus hath the course of justice whirl’d about
And left thee but a very prey to time.
Перевод Донского Где твой супруг? Где братья? Где два сына? Где радости твои? Кто закричит «Да здравствует», завидевши тебя? Где льстиво изогнувшиеся пэры? Где за тобой бегущая толпа? Все было да прошло. А что теперь? Ты кто — жена? Нет, горькая вдовица. Ты — мать? Нет, плакальщица по сынам. Ты королева? Нет, ничто в короне. Ты даришь милости? Нет, просишь их. Ты надо мной смеешься? Нет, смешна мне. Ты повелительница? Нет, раба. Так повернулось колесо возмездья, И времени принесена ты в жертву. | Перевод Лейтина Где твой супруг? Где сыновья? Где братья? Где радости твои? Где лесть вельмож? Кто крикнет: «Долгой жизни королеве!»? Где низкие поклоны гордых пэров? Где толпы, провожавшие тебя? Все позабудь! Взгляни, кем стала ты: Счастливая жена — вдовой печальной; Мать — плакальщицей по своим сынам; Монархиня — рабыней злых забот. Просили у тебя — теперь ты просишь; Дрожали пред тобой — теперь ты в страхе. Кто повинуется тебе? — Никто. Да, повернулось колесо судьбы, И стала ты добычею напастей. | Перевод Радловой Где твой супруг? Где братья, сыновья? Где радости твои? Кто на коленях Кричит: «Храни, о боже, королеву»? Склоненные и льстивые где пэры? Бегущий за тобой толпой народ? Припомни все; смотри, что ты теперь. Ты не жена — несчастная вдова; Не радостная — плачущая мать; Не милуешь — о милостях ты молишь; Последняя раба в короне бед; Ты презирала — презираю я; Тебя боялись все — ты всех боишься. Уже не слушают твоих велений, Уж повернулось колесо судьбы, И отдана ты времени в добычу. | |
С помощью использования таких стилистических приемов, как параллелизм, достигается саркастический эффект. Он усиливается противопоставлением прошлого положения королевы Елизаветы и ее теперешнего, безрадостного состояния. Перевод Донского: Ты кто — жена? Нет, горькая вдовица. Ты — мать? Нет, плакальщица по сынам. Ты королева? Нет, ничто в короне. Ты даришь милости? Нет, просишь их. Ты надо мной смеешься? Нет, смешна мне. Ты повелительница? Нет, раба. Перевод Лейтина: Взгляни, кем стала ты: счастливая жена — вдовой печальной; мать — плакальщицей по своим сынам; монархиня — рабыней злых забот. Перевод Радловой: смотри, что ты теперь. Ты не жена — несчастная вдова; Не радостная — плачущая мать; Не милуешь — о милостях ты молишь; Последняя раба в короне бед. Таким образом, вновь актуализируется сема «конфликт».
6) Queen Elizabeth
Ah, my poor prices! ah, my tender babes!
My unblown flowers, new-appearing sweets!
If yet your gentle souls fly in the air
And be not fix’d in doom perpetual,
Hover about me with your airy wings
And hear your mother’s lamentation.
Queen Margaret
Hover about her; say that right for right
Hath dimm’d your infant morn to aged night.
Перевод Донского Королева Елизавета О сыновья! О милые малютки! О не успевшие расцвесть цветы! Коль ваши души над землей витают И приговора ждут от судии, ? Пускай ко мне слетят на легких крыльях, Пускай услышат, как рыдает мать! Королева Маргарита (в сторону) Пускай слетят и скажут: поделом Детей накрыла ночь своим крылом. | Перевод Лейтина Королева Елизавета О принцы бедные! Мои малютки! Расцвета не узнавшие цветы! Когда еще парят здесь ваши души И суд небес еще не изречен ; Порхайте надо мной на легких крыльях, Внимая плачу матери своей! Королева Маргарита (в сторону) Скажите ей: свет вашей юной силы Старуха-тьма по праву погасила. | Перевод Радловой Королева Елизавета О дети нежные мои! О принцы! О бедные, нецветшие цветы! Коль в воздухе витают ваши души И вечной нет обители у вас, ? Ко мне на легких крыльях вы слетите, Чтобы стенанья матери услышать! Королева Маргарита (в сторону) Слетите к ней, скажите: кровь за кровь. Ночь погасила утро и любовь. | |
В данном примере проявляется сема «величие»: в возвышенном описании маленьких убитых принцев присутствуют нотки патетичности. В переводе Донского: О сыновья! О милые малютки! О не успевшие расцвесть цветы! В переводе Лейтина: О принцы бедные! Мои малютки! Расцвета не узнавшие цветы! В переводе Радловой: О дети нежные мои! О принцы! О бедные, нецветшие цветы! Также в переводах противопоставление infant morn и aged night передано с помощью элементов иронии, служащей фоном для проявления трагического. Например, в переводе Донского: Пускай слетят и скажут: поделом детей накрыла ночь своим крылом. В переводе Лейтина: Скажите ей: свет вашей юной силы старуха-тьма по праву погасила. В переводе Радловой: Слетите к ней, скажите: кровь за кровь. Ночь погасила утро и любовь. Эти мстительные слова королевы Маргариты актуализируют такую сему, как «конфликт».
На основании приведенных выше переводов, можно сделать следующие выводы: в оригинале трагедии «Ричард III» и переводах М. Донского, Б. Лейтина и А. Радловой проявились такие ключевые семы, как «гибель», «величие», «конфликт», составляющие суть концепта трагическое.
3.2 Ядерные семы трагического в переводах трагедии «Ромео и Джульетта»
Рассмотрим переводы трагедии «Ромео и Джульетта». Для анализа мною были выбраны переводы Б. Пастернака, Т. Щепкиной-Куперник, Аполлона Григорьева.
Герцог, правитель Вероны, обращается к Монтекки и Капулетти, измучившим город своей враждой:
1) Prince
Rebellious subjects, enemies to peace,
Profaners of this neighbor-stained steel, ?
Will they not hear? What, ho! You men, you beasts,
That quench the fire of your pernicious rage
With purple fountains issuing from your veins.
Перевод Пастернака Изменники, убийцы тишины, Грязнящие железо братской кровью! Не люди, а подобия зверей, Гасящие пожар смертельной розни Струями красной жидкости из жил! | Перевод Щепкиной-Куперник Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних? Не слушают! Эй, эй, вы, люди! Звери! Вы гасите огонь преступной злобы Потоком пурпурным из жил своих. | Перевод Григорьева Бунтовщики! Спокойствия враги, Сквернящие мечи сограждан кровью! Не слышите вы, что-ль? Эй! люди! звери, Огонь вражды погибельной своей Готовые тушить багряным током Жил собственных своих! | |
Из определений, которые дает нарушителям спокойствия герцог, ясно, что проявляется сема «конфликт». В переводе Пастернака: Изменники, убийцы тишины, грязнящие железо братской кровью! В переводе Щепкиной-Куперник: Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних? В переводе Григорьева: Бунтовщики! Спокойствия враги, сквернящие мечи сограждан кровью! Далее герцог обвиняет зачинщиков в том, что они, в переводе Пастернака, гасят пожар смертельной розни струями красной жидкости из жил; в переводе Щепкиной-Куперник? вы гасите огонь преступной злобы потоком пурпурным из жил своих. В переводе Григорьева? Огонь вражды погибельной своей готовые тушить багряным током жил собственных своих.
2) Romeo
Speakest thou of Juliet? how is it with her?
Doth she not think me an old murderer,
Now I have stain’d the childhood of our joy
With blood removed but little from her own?
Where is she? and how doth she? and what says
My conceal’d lady to our cancell’d love?
Перевод Пастернака Ты о Джульетте говоришь? Ну как? Что с ней? Я, верно, ей кажусь злодеем? Ведь я родною кровью обагрил Ей память детства. Как ее здоровье? Как ей живется? Где она сейчас? Что говорит она о нашем браке? | Перевод Щепкиной-Куперник Сказала ты — Джульетта? Что же с нею? Она меня убийцею считает? Я запятнал в расцвете наше счастье Родной ей кровью? Где она и что Супруга тайная моя о нашей Любви, навек погибшей, говорит? | Перевод Григорьева Ты о Джульетте говорила? что с ней? О, лютого она убийцу видит Теперь во мне, который запятнал Цвет первый наших радостей такою Родной и близкой кровью? Где она? Что с ней? Что говорит о страсти тайной О нашей тайная моя жена? | |
В данном случае проявляется сема «гибель». Ромео обвиняет себя в том, что он внес в жизнь Джульетты горе. Мы видим такое противопоставление: I have stain’d the childhood of our joy with blood removed but little from her own. В переводе Пастернака оно передано следующим образом: Ведь я родною кровью обагрил ей память детства. В переводе Щепкиной-Куперник: Я запятнал в расцвете наше счастье родной ей кровью? В переводе Григорьева: во мне, который запятнал цвет первый наших радостей такою родной и близкой кровью? С помощью данной антитезы ярче выделяется трагическое.
3) Romeo
For fear of that, I still will stay with thee;
And never from this palace of dim night
Depart again: here, here will I remain
With worms that are thy chamber-maids;
O, here will I set up my everlasting rest,
And shake the yoke of inauspicious stars
From this world-wearied flesh.
Перевод Пастернака Под страхом этой мысли остаюсь И никогда из этой тьмы не выйду. Здесь поселюсь я, в обществе червей, Твоих служанок новых. Здесь останусь, Здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч Томительное иго звезд зловещих. | Перевод Щепкиной-Куперник Так лучше я останусь здесь с тобой: Из этого дворца зловещей ночи Я больше не уйду; здесь, здесь останусь, С могильными червями, что отныне ; Прислужники твои. О, здесь себе Найду покой, навеки нерушимый; Стряхну я иго несчастливых звезд С моей усталой плоти! | Перевод Григорьева Оттого-то Здесь при тебе и буду я, не выйду Из мрачного чертога мрачной ночи; Здесь поселиться я хочу с червями, С твоей прислугой комнатной! Да! здесь я На вековечное житье останусь И сброшу иго звезд враждебных с тела, Пресыщенного миром! | |
В данном случае вновь получает свое выражение сема «гибель». Мы вновь видим использование однородных конструкций, которые в сочетании с мрачной лексикой усиливают восприятие трагического. Параллелизм ярче всего выражен в переводе Пастернака: Здесь останусь, здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч. This world-wearied flesh призвано передать усталость Ромео от мира, желание его покинуть; у Пастернака ?томительное иго звезд зловещих. У Щепкиной-Куперник ? стряхну я иго несчастливых звезд с моей усталой плоти! У Григорьева? и сброшу иго звезд враждебных с тела, пресыщенного миром!
Ночь свидания с Джульеттой является счастливейшей для Ромео.
4) Romeo
O blessed, blessed night! I am afeard.
Being in night, all this is but a dream.
Too flattering-sweet to be substantial.
Перевод Пастернака Святая ночь, святая ночь! А вдруг Все это сон? Так непомерно счастье, Так сказочно и чудно это все! | Перевод Щепкиной-Куперник Счастливая, счастливейшая ночь! Но, если ночь — боюсь, не сон ли это? Сон, слишком для действительности сладкой! | Перевод Григорьева О, счастливая, счастливая ночь! Боюсь я только: это все не сон ли? Сон слишком сладкий, чтобы был он правдой! | |
В данном случае проявляется сема «величие», которая входит в состав концепта трагическое. Too flattering-sweet to be substantial в переводе Пастернака ? Так непомерно счастье, так сказочно и чудно это все! В переводе Щепкиной-Куперник: боюсь, не сон ли это? Сон, слишком для действительности сладкой! В переводе Григорьева: Это все не сон ли? Сон слишком сладкий, чтобы был он правдой!
Рассмотрим следующий пример:
5) Romeo
Let me be ta’en, let me be put to death;
I am content, so thou wilt have it so.
I’ll say yon grey is not the morning’s eye,
`Tis but the pale reflex of Cynthia’s brow;
Nor that is not the lark, whose notes do beat
The vaulty heaven so high above our heads:
I have more care to stay than will to go:
Come, death, and welcome! Juliet wills it so.
How is’t, my soul? let’s talk; it is not day.
Перевод Пастернака Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, Я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так. Та мгла — не мгла рассвета, А блеск луны. Не жаворонка песнь Над нами оглашает своды неба. Мне легче оставаться, чем уйти. Что ж, смерть так смерть! Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело. | Перевод Щепкиной-Куперник Что ж, пусть меня застанут, пусть убьют! Останусь я, коль этого ты хочешь. Скажу, что бледный свет — не утра око, А Цитии чела туманный отблеск, И звуки те, что свод небес пронзают Там, в вышине — не жаворонка трель. Остаться легче мне — уйти нет воли. Привет, о смерть! Джульетта хочет так. Ну что ж, поговорим с тобой, мой ангел: День не настал, есть время впереди. | Перевод Григорьева Ну пусть меня возьмут, влекут на смерть! Доволен я, коль ты того желаешь! Да! этот серый свет — не утра взор, То — Цинтии чела лишь отблеск бледный, И то не жаворонок высоко над нами Под сводом неба громко зазвенел… И больше, больше у меня желанья Остаться здесь, чем воли уходить. Приди ты, смерть: привет тебе! Джульетта Так хочет. Жизнь, душа моя! Ну, что же? Давай же говорить… еще не день. | |
Здесь мы видим использование приема антитезы, что вновь актуализирует сему «конфликт». Также вновь употребляются параллельные однородные конструкции, усиливающие впечатление трагического за счет мрачных лексических средств. В переводе Пастернака: Та мгла — не мгла рассвета, а блеск луны. Не жаворонка песнь над нами оглашает своды неба. Перевод Щепкиной-Куперник: Скажу, что бледный свет — не утра око, а Цитии чела туманный отблеск, и звуки те, что свод небес пронзают там, в вышине — не жаворонка трель. Перевод Григорьева: этот серый свет — не утра взор, то — Цинтии чела лишь отблеск бледный, и то не жаворонок высоко над нами под сводом неба громко зазвенел…
6) Сapulet
All things that we ordained festival,
Turn from their office to black funeral;
Our instruments to melancholy bells,
Our wedding cheer to a sad burial feast,
Our solemn hymns to sullen dirges change,
Our bridal flowers serve for a buried corpse,
And all things change them to the contrary.
Перевод Пастернака На похоронный церемониал Пойдет, что к свадьбе я приготовлял, И мы услышим вместо бойких скрипок Церковный хор и звон колоколов. Накрытый стол послужит для поминок, Венчальные цветы украсят гроб. Все обратилось в противоположность! | Перевод Щепкиной-Куперник Увы, наш праздник будет превращен В обряд печальный пышных похорон. Звон погребальный музыку заменит, В поминки обратится брачный пир, Ликующие гимны — в панихиду. Венок венчальный — к трупу перейдет. Все превращенье страшное претерпит! | Перевод Григорьева Все то, что мы готовили для свадьбы, Для горестных нам похорон послужит; Заменит звуки колокольный звон… Поминки вместо свадебного пира, А вместо песен брачных панихида; Венок невесты труп ее украсит… Все, все переменило назначенье. | |
В данном примере можно увидеть проявление контраста. Внезапно стало понятно, что готовящаяся свадьба обернется похоронами. Вновь используются параллельные однородные конструкции, что в сочетании с антитезой усиливает эффект трагического. В переводе Пастернака: И мы услышим вместо бойких скрипок церковный хор и звон колоколов. Накрытый стол послужит для поминок, венчальные цветы украсят гроб. Все обратилось в противоположность! В переводе Щепкиной-Куперник: Звон погребальный музыку заменит, в поминки обратится брачный пир, ликующие гимны — в панихиду. Венок венчальный — к трупу перейдет. Все превращенье страшное претерпит! В переводе Григорьева: Поминки вместо свадебного пира, а вместо песен брачных панихида; венок невесты труп ее украсит… Все, все переменило назначенье.
Таким образом, в оригинале трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» можно увидеть проявление таких сем, как «гибель», «величие» и «конфликт», составляющих суть понятия трагическое.
Заключение
«Ричард III» и «Ромео и Джульетта»? одни из самых известных широким массам пьес Шекспира. В них наиболее ярко проявился контраст между возвышенным и низменным, столь типичный для драматурга. Суть трагического конфликта Глостера находится внутри него, и лишь спустя какое-то время находит свое выражение в череде убийств. Конфликт проявляется и в «Ромео и Джульетте», где непримиримая вражда двух семейств приводит к кровопролитию. Вновь мы сталкиваемся с тем, что истоки разногласий находятся в самом характере героев.
«Гордое самосознание личности оказывается двойственной силой. Оно придает человеку мощь, величие, какого не было у него, когда он был просто частичкой общины или сословия. Но оно же отчуждает его от других людей, ибо, требуя для себя всеобщей любви или преклонения, человек забывает об уважении к тем, от кого требует уважения своей личности, как мы видим это на примерах Лира и Кориолана. Глубочайший источник трагического Шекспир находит в противоречиях, вытекающих из высокого развития личности» [Аникст, 1963: 345].
Основным объектом исследования в данной дипломной работе являлось трагическое. Было выявлено, что в основе трагического лежат разлом, раскол, раздвоение, составляющие суть трагического конфликта. Масштаб трагического у Шекспира приобретает гигантский размах. Поэт показывает, как внутрисемейные конфликты английской династии, находящие свое выражение в придворных интригах, братоубийственной резне, перерастают в крупнейшие распри, например, войну Алой и Белой Роз. Также трагическое у Шекспира можно рассматривать и во временном срезе: показана судьба нескольких поколений Йорков и Ланкастеров.
Кровавая вендетта, междоусобицы в Вероне являются причиной трагедии, произошедшей с Ромео и Джульеттой. Конфликт Монтекки и Капулетти выражает картину мира, характерную для мрачного Средневековья. Обособленные семейные кланы постоянно враждовали между собой, даже успев забыть о причине раздора. Таким образом, вновь мы видим, что глубочайшие истоки трагического конфликта — в самом характере героев; трагическим являются неразрешимые противоречия в душе персонажей.
Итак, суммируем основные выводы, которые были сделаны в данной дипломной работе в результате исследования:
· В данной работе в результате произведенного анализа трагического и его словарных определений были выявлены ядерные семы, конституирующие суть понятия трагического. Это «конфликт» («conflict») с репрезентантами «борьба», «struggle», «гибель», «catastrophe»; а также семы «величие», «рок», «fate», «sorrow», «misfortune». Выявленные ключевые семы выступают как триггер, запускающий в сознании читателя определенный ассоциативный ряд. Семы, являясь носителями ключевого заряда понятия трагического, находят свое выражение в языковых средствах, используемых Шекспиром.
· В результате проведенного анализа оригиналов трагедий «Ричард III» и «Ромео и Джульетта» было установлено, что данные семы выражают трагическое, реализуясь в таких языковых средствах, как метафора, сравнение, эпитет, антитеза, параллелизм, гипербола и ирония. С помощью языковых средств, указанных выше, трагическое нашло свое выражение через ключевые семы «гибель», «конфликт», «страсть», «величие», «рок», "misfortune", «fate», «sorrow».
· В результате проведенного анализа переводов пьес Шекспира «Ричард III», выполненных М. Донским, Б. Лейтиным и А. Радловой, и «Ромео и Джульетты», которые выполнили Б. Пастернак, Т. Щепкина-Куперник и Аполлон Григорьев, было установлено, что ядерные семы, конституирующие понятие трагического, такие, как «гибель», «величие» и «конфликт», находят свое выражение и в переводах, являясь ключевым моментом, определяющим трагическое в сознании читателя. Таким образом, истоки трагического конфликта берут свое начало в вышеупомянутых семах.
Таким образом, цель дипломной работы, указанная во введении, достигнута, в ходе проведенного исследования выявлены ядерные семы трагического и языковые средства, с помощью которых данные семы проявляются в оригиналах трагедий и их переводах. Понятие трагического раскрыто с новой стороны. Трагический конфликт у Шекспира всегда сложен и неоднозначен. Суть его — в нравственной двойственности героев, в неразрешимых противоречиях, терзающих их душу. Локальный характер, который носит трагический конфликт, постепенно расширяется и охватывает все большее пространство. Высокое и низменное противопоставляются сначала в характере героев, а потом на основе этого Шекспир показывает подлинный конфликт, достигающий высочайшего накала.
Гибель героического, возвышенного — основная черта трагедии. Она обусловлена конфликтом «высокого» мифа Возрождения о человеке, творце своей судьбы с «низким», обыденным началом, составляющим повседневную реальность. Главный герой, проникнутый верой в разумность системы жизни и возможность самому творить свою судьбу, вступает в конфликт с миром и ценой трагического заблуждения, страданий и проступков приходит к осознанию истинного лица мира и своих реальных возможностей в нем. Погибая, герой «очищается», искупает свою вину,? и вместе с тем утверждает величие человеческой личности как источник ее свободы.
Шекспир, как великий драматург, выразил в своих пьесах глубинные причины трагических конфликтов, происходивших в средневековом обществе. Как выдающийся гуманист, он заострил наше внимание на неприглядных сторонах жизни с тем, чтобы в дальнейшем мы избегали их. Смертью Глостера завершается династический конфликт, война Алой и Белой Роз, и Ричмонд призывает британцев к объединению.
«With Richard’s death at the end of the play the kingdom purges itself of its own guilt, and clears the way for the reign of the Tudors, but like the victims of those he has murdered, the ghost of the man who was destroyed by the Tudors refuses, and still refuses, to be laid» [Maslen, 1994:744].
Библиография
1) Аникст А. А. Творчество Шекспира. ?Ленинград: ЛЕНГИХЛ, 1963 г.?550 с.
2) Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998 г.?1150 с.
3) Аскольдов С. А. Концепт и слово Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. проф. В. П. Нерознака. — М.: Academia, 1997 г.
4) Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. — М., 1955 г.
5) Бычков В. В. Эстетика. М.: Гардарики, 2004 г.?340 с.
6) Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1925 г.
7) Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: URSS, 2011 г. ?375 с.
8) Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа. М.: Наука, 2000 г.?495 с.
9) Гете, Иоганн-Вольфганг. Об эпической и драматической поэзии, 1827 г./ Пер. Н. Ман // Гете И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10.
10) Дидро, Дени. О драматической поэзии. — М.: Худож. лит., 1980 г. — 300 с.
11) Квинтилиан, Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. В 2 ч. Академическое издание. СПб, 1834 г.
12) Кольридж, Сэмюэл Тейлор. Аллегория. В кн.: Писатели Англии о литературе (ХIХ?ХХ вв.): Сб. статей. Перевод с английского. М.: Прогресс, 1981 г.
13) Мезенин С. М. Образные средства языка. Издательство Тюменского Государственного Университета, 2002 г.? 124 с.
14) Ницше Фридрих. Рождение трагедии из духа музыки. М.: Мысль, 1966 г.?574 с.
15) Попова З. Д., Стернин И. А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. — Воронеж: Восток-Запад, 1999 г.
16) Петровский М. Словарь литературных терминов. В 2 томах. М.: Аллегория, 1925 г.
17) Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. — М., Р. Валент, 2010 г.? 241 с.
18) Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации: М., Языки славянских культур, 2007 г. ?248 с.
19) Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект-пресс, 1999 г. ?334 с.
20) Чуковский К. И. Высокое искусство. Принципы художественного перевода. СпБ: Авалон, 2011 г.?443 с.
21) Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф. Философия искусства. М.:Мысль, 1966 г.?496 с.
22) Шиллер, Фридрих. «О возвышенном» // Собрание сочинений Шиллера в 6 т. — Т.2.?М.: Книговек, 2000 г., с. 432?453.
23) Шиллер, Фридрих. «О трагическом искусстве» // Собрание сочинений Шиллера в 6 т. — Т.2.?М.: Книговек, 2000 г., с. 240?249.
24) Шопенгауэр, Артур. О ничтожествах и горестях жизни. М.: Попурри, 1999 г. 567 с.
25) Maslen, Robert. Introduction to King Richard the Third. Complete Works of William Shakespeare, 1994. Harper Collins Publishers. ?1433 p.