Исторический словарь мифов и кочующие художественные сюжеты
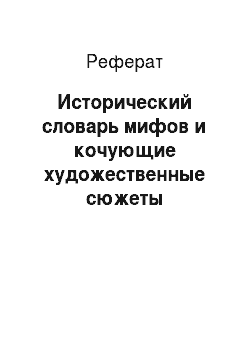
С таких позиций можно препарировать весь корпус современных произведений искусства сообразно их мифическим корням. Так, английский исследователь К. Стил, получивший известность после публикации книги «Вечная тема» (1936), выдвинул идею о том, что одной из вневременных тем, эксплуатирующихся искусством, оказалась издревле присущая людям идея святости: художественное творчество любых эпох богато… Читать ещё >
Исторический словарь мифов и кочующие художественные сюжеты (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Какие стороны мифа выступают в качестве продуктивной основы для последующих этапов творчества? Прежде всего, это богатая метафоричность мифа, которая стимулирует «детское воображение» мифотворца. Уже Новалис, позитивно оценивая значение мифа в перспективе художественного творчества, писал о душе человека как «резервуаре бессознательного опыта всего человечества». Теорию первообразов художественного творчества разрабатывал и Шеллинг, считавший, что все модификации и трансформации, обладающие жизненной важностью для человека, так или иначе уже найдены, высказаны, претворены в словаре мифов, сюжетных архетипов. Современное творчество, по его мнению, есть не что иное, как контаминация, заимствование и совмещение всего того, что человечеством уже однажды было найдено и высказано.
С таких позиций можно препарировать весь корпус современных произведений искусства сообразно их мифическим корням. Так, английский исследователь К. Стил, получивший известность после публикации книги «Вечная тема» (1936), выдвинул идею о том, что одной из вневременных тем, эксплуатирующихся искусством, оказалась издревле присущая людям идея святости: художественное творчество любых эпох богато повествованиями о духовном падении и последующем моральном возрождении (а не просто о телесном умирании и воскрешении, как считали ортодоксальные последователи Дж. Фрезера). В связи с этим обращают на себя внимание публикации последних лет, авторы которых стремятся рассмотреть популярные, кочующие из одних эпох в другие сюжеты сквозь призму такого подхода, проводя параллели между образами Марии Магдалины и Манон Леско, Марии Магдалины и Маргариты Готье.
Тяга современного искусства к мифоцентрической ориентации не вызывает сомнений. Существенный вклад в разработку механизмов возникновения универсалий в искусстве внес К. Юнг своей теорией архетипов. Архетип в понимании Юнга — основное, хотя и бессознательное средство передачи наиболее ценного и важного человеческого опыта из поколения в поколение. Архетип — производное и составная часть коллективного бессознательного, которое Юнг противопоставлял индивидуальному бессознательному Фрейда. В коллективном бессознательном аккумулирована вся мудрость человечества. Юнг рассказывал, что ему как врачу приходилось фиксировать образы античных мифов в бреду чистокровных негров. Это свидетельствует о том, что сама человеческая природа продуцирует фантазии, стимулирует действия бессознательных механизмов в одном и том же направлении, независимо от этнических и географических различий. Идеальным проявлением коллективного бессознательного выступают те мифы, образы которых превратились в архетипы, стали основой всего последующего художественного творчества. Таким образом, сам характер мифотворчества обнаруживает архетипическую основу.
Мифотворчество в искусстве выступает как зрительное опредмечивание, выражение в вербальных образах, в сказаниях, письменных и музыкальных источниках тех или иных архетипов, которые живут и действуют внутри человека как коллективное бессознательное. Важно отметить, что Юнг рассматривал все образы бессознательного, дремлющие и проявляющиеся в человеке, не аллегорически (т.е. симптоматически), а символически. Эти образы, но его мнению, свидетельствуют не об особых личностных состояниях (т.е. не выступают, как считал Фрейд, прямым выражением подавленных инфантильных сексуальных влечений), а отсылают к неким существенным параметрам коллективной психологии.
Выявляя устойчивые архетипы на примере художественного творчества, Юнг рассматривает их как результат глубинных комплексов, существующих внутри каждого человека. «Произведение искусства, — пишет он, — относится к художнику как ребенок к матери». Психология творца включает в себя сложный бессознательный комплекс, восходящий своими истоками к «царству матерей». В данном случае Юнг имеет в виду такой комплекс, как анимус —ощущение человеком на уровне бессознательного элементов противоположного пола в самом себе. Отсюда Юнг выводит ряд закономерностей творческой фантазии, ведущих к возникновению схожих художественных произведений у разных народов.
Идентичность мифологических мотивов у разных этносов дает повод сделать заключение, что истоки возникновения мифов коренятся в общей природе людей. К примеру, образы «Родина-мать», «Отчизна-мать» воплощают символическую значимость идеи отечества. Причем этот символ, как и многие другие архетипические символы, не имеет никакой реальной подоплеки и логического объяснения. Буквально у всех народов Юнг обнаружил миф о потопе, миф о гадком утенке, который превращается в лебедя, миф о Золушке, которая празднует триумф фантастического преобразования. Столь же распространен архетип тени, а если вернуться к бинарным оппозициям — Мефистофель и Фауст, Дои Кихот и Сонно Пайса, китайские понятия инь и янъ как женское и мужское начала, образы мудрого старика, мудрой старухи и т. д.
Весьма существенно следующее: с одной стороны, архетип выступает исходным элементом, из которого формируется живой развернутый целостный миф, следовательно, архетип как символический элемент в своей основе содержателен, но с другой — сам тип построения архетипа, его композиционный каркас, соотношение частей фабулы имеют не менее важное значение. Может возникнуть вопрос: архетип — это то, что относится к содержательной стороне фантазирования, или то, что несет в себе самодовлеющую форму, схему (способ развертывания, направляющую конструкцию фантазии)? В равной степени и то, и другое; архетип — единый универсальный комплекс. Как и миф, архетип проявляется в том, что свершается, а также в том, как свершается. Архетип отличается стремлением соединить те или иные устойчивые образы, понятия в одну структуру. Поэтому архетип может быть понят как исключительно формальная характеристика, система композиционных приемов, но вместе с тем архетип являет чрезвычайно важное содержание, которое впечатляет, внушает, увлекает.
Всякий миф выступает как изначальный образец, который представляет собой некую форму жизни, некую структуру. Последовательность этой структуры воплощена в сказании, развивающемся по направлению к гармоничной развязке. Общепонятность и повсеместность содержания мифа позволяет прийти к выводу: мифическое близко связано с тем, что можно определить как типическое. Фактически, сопоставляя мифологические образы и отдельные мифологемы, можно обнаружить такое уплотнение жизненного содержания, которое демонстрирует типическое. На это обращал внимание, в частности, Т. Манн, который писал, что в типичном всегда есть очень много мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, есть изначальный образец, изначальная форма жизни. Итак, с одной стороны — образец, с другой —форма жизни, что позволяет определить архетип и миф одним словом " мыслеформа" . Ценность мифа состоит в том, что он является стихийно найденной, сочиненной, сформулированной содержательной моделью жизненно важных ситуаций для человека и человечества.
Все перечисленные признаки архетипа и мифа подтверждают, что действие механизмов мифотворчества сродни механизмам художественно-продуктивного мышления. По словам Н. Фрая, миф произведен от искусства, а не наоборот. Миф и является в сущности искусством. Это сопоставление особенно важно для эстетической науки, так как оно предоставляет дополнительные возможности анализа механизмов движения образно-тематического строя искусства, проливает свет на причины «завязки» устойчивых стилистических приемов и композиционных формул.
Определенные исследовательские накопления в этом отношении принадлежат семиотическому и структуралистскому подходам, берущим за основу рассмотрения формообразующую структуру мифа и через эту структуру «просеивающих» систему его центральных символов. Поскольку продукты художественной деятельности обнаруживают подобную взаимосвязанность элементов и символов, постольку все их отношения можно формализовать. Методология структурализма ориентирует на изучение структуры мифа как динамичной системы, отношения между элементами которой подвижны, изменчивы. Важным положением является тезис о том, что структура как целое всегда больше совокупности всех ее элементов. Речь идет о сложных взаимосвязях языка и мышления, знака и образа.
Одним из современных ответвлений структурализма в искусствознании и литературоведении является нарратология — теория повествования. Она выступает сегодня как достаточно самостоятельная дисциплина со своими задачами и возможностями изучения текстов. Нарратология сформировалась в конце 1960;х гг. в результате пересмотра концепции структурализма с позиций коммуникативных представлений о природе искусства. Некоторые исследователи считают, что по своим установкам и ориентациям нарратология занимает промежуточное место между структурализмом и рецептивной эстетикой[1] .
Если для структурализма характерно понимание художественного произведения в значительной степени как автономного объекта, независимого ни от своего автора, ни от читателя, то для рецептивной эстетики свойственна обратная тенденция — растворения произведения в сознании воспринимающего читателя. Нарратология стремится избежать крайностей этих позиций и не отбрасывает самого понятия глубинной структуры, лежащей, по мнению нарратологов, в основе всякого художественного произведения. Но главный акцент нарратология делает па процессе реализации этой структуры в ходе активного диалогического взаимодействия писателя и читателя. Нарратологи концентрируют внимание на том факте, что художественное произведение даже в своих формальных параметрах не исчерпывается сюжетом в строгом понимании этого термина. Если исходить из старого, введенного русской формальной школой определения фабулы как того, что рассказывается в произведении, а сюжета — как рассказывается, то понятие сюжета оказалось недостаточным для нарратологии.
В этом «как» нарратология выделяет два аспекта. Во-первых, речь идет об изучении способа подачи и распределения повествуемых событий, т. е. о героях и персонажах, которые действуют в пространстве и времени. Во-вторых, нарратология рассматривает способ подачи формальной структуры произведения с точки зрения прямого или косвенного диалога писателя с читателем от первого, второго или третьего лица. Среди авторов, которые подготовили возникновение нарратологии, можно назвать Романа Якобсона (1896−1982), Ролана Барта (1915;1980), Цветана Тодорова (р. 1939). Вес они предпринимали усилия к тому, чтобы во множестве существующих в мире рассказов отыскать единую формально-повествовательную модель, т. е. структуру (грамматику) рассказа, на основе которой каждый конкретный рассказ рассматривался бы в терминах отклонений от этой базовой, глубинной структуры.
- [1] См.: Ильин И. П. Нарратология // Современное зарубежное литературоведение. М., 1996. С. 74—79.