Философия времени.
Бытие и мышление
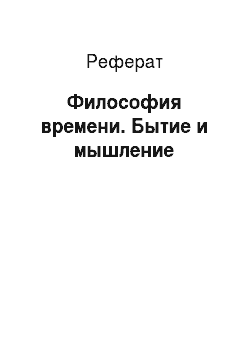
Время может мыслиться как объективная длительность, процесс становления вещей. Однако рассудок, создавая теорию, абстрагируется, от изменения. Например, физика —это как бы одномоментное и тем самым вневременное описание Вселенной, включая время и движение. Это достигается на основе допущения Божественного наблюдателя, который, по сути дела, выступает условием возможности такого теоретического… Читать ещё >
Философия времени. Бытие и мышление (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Проблема времени остается и до сих пор одной из самых загадочных в философии. Глава из «Метафизики» Аристотеля, где эта проблема самым обстоятельным образом обсуждается, является труднейшей для понимания, и таковыми остаются последующие рассуждения Августина, Бергсона, Гуссерля. Для этого есть немало причин. Одна из них состоит в том, что время мыслится «текучим» и поэтому может быть представлено косвенным, символическим образом. В таком случае у времени нет собственного языка, и оно выражает себя какими-то иными знаками. Так, пафос бергсоновских сочинений во многом связан с протестом против описания времени рассудком в пространственных категориях. Другая трудность состоит в том, что время относится к числу основополагающих понятий (наряду с материей, движением, причиной, сознанием и др.), которые не поддаются полноценному определению при помощи более общих понятий, ибо образуют автономную замкнутую систему, члены или элементы которой отсылают друг к другу.
Математическое естествознание более или менее успешно справилось с этими трудностями, и хотя философия критически настроена относительно редукции времени к пространству, а движения — к суммированию состояний покоя, тем не менее, чисто операциональные успехи науки несомненны, и неудивительно, что созданный ею образ времени часто отождествляют с объективным временем. Ничего подобного нет в гуманитарных науках, где отсутствуют «протонаучные» понятия, задающие универсальные масштабы описания и измерения. Неудивительно, что основоположники феноменологии и герменевтики предприняли попытки определить феномены временности сознания и истории, которые служат отправной точкой сегодняшних рассуждений.
Почему проблема времени оказывается настолько затруднительной, что над ней не перестают ломать головы и сегодня весьма серьезные думающие люди? Время физическое, точнее, математическое, изобретенное как средство измерения движения, не вызывает таких сомнений, но мыслители, размышлявшие о времени, не собирались создать новые более совершенные часовые механизмы или новые способы летосчисления. Время как история дат, событий тоже не вызывает сомнений, ибо их точное установление — весьма нужное, вызывающее уважение занятие. Время у Аристотеля и Августина впервые становится чем-то проблематичным. Аристотель хотел решить парадоксы времени, вызванные сопоставлением «живого» и математического времени. Августин, напротив, интенсифицировал трудности, ибо видел в них подтверждение непостижимости Бога.
Затем наступает черед времени духа. Кант связал время с воспоминанием, представлением и воображением, и теперь временной синтез оказался в зависимости от актов сознания. Но здесь также есть принципиальные трудности. Они состоят в том, что идеи, строго говоря, вневременны. Сознание удерживает себя в потоке времени, и его опыт остается непрерывным. Поэтому, например, не ясно, зачем вообще время стало столь значительным для Гуссерля, если предмет феноменологии — неизменные вечные смыслы, которые, будучи истинными, остаются таковыми для людей и чудовищ и тем более для жителей разных временных периодов истории. И, тем не менее, эти смыслы ищутся во времени, в нем же с ними происходят некоторые трансформации и прежде всего — утрата первоначального смысла, открытого основателем. В начале XX столетия проблема времени вновь выдвинулась на передний план в философии. Во многом это вызвано теоретическими и практическими потребностями науки и культуры. Исследования Бергсона и Гуссерля, Пуанкаре и Эйнштейна, противоположные, или, может быть, как они теперь оцениваются, взаимодополняющие друг друга, с одной стороны, отвечали потребности самоосмысления времени, переломного в европейской истории, а с другой — пробудили значительный интерес к этой проблематике у представителей самых разных дисциплин —от физики до искусствоведения.
Время — место обретения и утраты, свершения и искажения истины. Стало быть, истина обитает не в безвоздушном пространстве, а в мире, становящемся во времени. Что же тогда размышления о времени? Способ перехода к социологии знания и истории рациональности? Осознание временности сознания приводит к изучению его специфических форм — исторического, культурного, социального, жизненного времени? Тогда понятие временности и теории времени —это наиболее общее и фундаментальное описание всех этих конкретных условий исполнения актов сознания. Но это сделало бы теории времени ненужными, ибо они оказались бы слишком общими. Для объяснения специфики познания все равно пришлось бы прибегнуть к ссылкам на более конкретные условия и обстоятельства, от описания общественного целого до биографических данных.
Таким образом, философия времени претендует на нечто иное, нежели обобщение историзма или социологии знания. Судя, но размышлениям Бергсона, Гуссерля и Хайдеггера, речь идет о субъекте и сознании, об их радикальной временности. Однако эта связь оказывается фатальной для проблемы времени. Вслед за лозунгом о смерти субъекта последовательно и методично ставится под вопрос и само время. Так, в исследованиях Бахтина и Рикёра время выступает как феномен языка. Не в том упрощенном смысле, что прошлое, настоящее и будущее являются просто словами, расчленяющими, систематизирующими и организующими поток опыта. Но, тем не менее, теория наррации, кажется, более простым и исчерпывающим образом объясняет все то, над чем бились феноменология и герменевтика.
Пространство, время и длительность (А. Бергсон). Контуры проблематики пространства, времени и сознания весьма отчетливо проступают при анализе числа. Они проявились в работах французских философов в начале XX столетия, особенно Бергсона и Мейерсона, и интенсивно обсуждались также в Германии Кассирером, Лассвицем и др. Правда, в Германии интуитивизм в чистом виде не принимался, и еще Гегель постоянно писал о необходимости преодоления дилеммы между формализмом понятий и романтизмом чувственности. Поэтому Кассирер вместо понятий длительности и тождественности использовал диалектику субстанции и функции. Пространственные аналогии в классическом описании заменяют становление, свободную игру сил и случайность их утверждения тождественными элементами, располагающимися в абстрактном пустом пространстве, характеризующемся исключительно длиной. Бергсон по праву считается философом, осознавшим одностороннюю тенденцию гомогенизации в математическом естествознании, наиболее яркое проявление которой он видел в замене длительности тождественностью. Он работал над понятием процесса и, вероятно, был одним из немногих, кто близок идеям Ницше. Становление как свободная игра сил, событие как результат утверждения силы —вот что является основополагающим в онтологии последнего. Впрочем, силовая динамика звучит у Бергсона приглушенно. Зато длительность, выступающая как форма существования реальности и сознания, становится у него центральной категорией. Тождественность и устойчивость — акты мышления, и их не следует смешивать с реальностью бытия и сознания, которые являются онтологически независимыми от рефлексии.
Время у Бергсона (как и у Августина) оказывается чем-то неподвластным мысли, которая относительно легко справляется с пространством и последовательно проводит принципы геометрии в познании любых явлений. Пространство и мысль органично связываются в понятии числа, которое выступает также и способом измерения времени как длительности (длины) отрезков. Пространство не просто абстракция. Его нужно пройти, преодолеть, и это требует времени. Время как длительность — это время преодоления сопротивления материи, субстанции, пространства. Конституирование этих онтологических категорий связано с конструкцией некой однородной среды, оказывающей постоянное сопротивление усилию. Это очевидное на уровне повседневного опыта конструирование реальности как материи и пространства, которые надо преодолеть и пройти, измерить и захватить, становится основополагающим в современной философии и науке.
Заслуга Бергсона состоит в том, что он указал наличие становления в самих числовых рядах. На простом примере подсчета величины стада баранов он показал, что фактически мы имеем дело с двумя понятиями числа. Одно характеризует количество абстрактных единиц и устанавливается по их числу, помещенному в определенном пространстве, другое — процесс счета, характеризующего длительность числового ряда. Число синтез единого и тождественного, который выражается суммой. Число не просто сумма чего-то. Конечно, баранов можно складывать с пастухами, но предварительно необходимо объединить их в множество и тем самым отождествить как одинаковые элементы этого множества. Очевидное противоречие: если, как предполагает суммирование, предметы тождественны, то они неотличимы и, тем самым, несчитаемы, и, наоборот, если они считаемы, то нетождественны.
Во второй главе своей работы «Опыт о непосредственных данных сознания» Бергсон пытается разобраться с тем, как мы представляем число. Пятьдесят баранов можно представлять как некий единый образ в пространстве (множество) либо как 50-кратное повторение образа одного и того же барана в пространстве (в этом случае предполагается удерживание в памяти образа суммы). В этих случаях мы имеем дело не с длительностью во времени, а с рядоположенностью в пространстве. Даже в том случае, когда осуществляется операция счета— что служит часто для реализации интуиции времени, — в памяти в виде следа остается сумма предшествующего счета как некое пространственное множество, к которому подсоединяется последующий новый элемент. Чистая последовательность мыслится как время, но подсчет предполагает, что не только прошлые элементы суммируются в пространстве, но и всякий будущий элемент также, ожидая своего часа, существует в неком виртуальном пространстве. Таким образом, операцию счета можно представлять чисто пространственно.
Бергсон полагает, что число есть совокупность единиц и одновременно само есть единица. Однако это разные «единицы». В первом случае речь идет о единстве целого, во втором —о неделимой единице, образующей ряд. Мыслимая единица неделима; наоборот, единица как реальная вещь — множественна. Например, арифметические единицы есть единства, подвергаемые бесконечному делению, что предполагает интуицию пространства. Наоборот, единица как простой акт разума — неделима, что свидетельствует об атопичности мысли. Так и получается, что счет основывается на процедуре «скачка» — резкого перехода некого пустого пространства, отделяющего одну неделимую единицу от другой. Однако, когда мы перестаем думать об этом, число превращается в некую непрерывную целостность. Поэтому Бергсон говорил о необходимости «проводить различие между единицей, которую мы в данное время мыслим, и единицей, которую мы превращаем в вещь, после того как перестаем думать о ней»[1]. Фиксация внимания на частях пространства — основа определения числа как неделимой единицы. Но эта изоляция сопровождается учетом возможного суммирования. Представление числа как рядоположения в пространстве—это не продукт науки, а условие ее. Однако есть два разных способа счета. Первый под множеством понимает локализованные в пространстве материальные вещи, которые можно трогать, и которые не нуждаются в символизации для того, чтобы их сосчитать. Их необходимо мыслить сначала отдельно, а затем вместе. То есть необходимо научиться «выключать» время. Во втором случае речь идет об аффективных состояниях души, которые даны не в пространстве, а во времени, или, может быть, в идеальном пространстве, где имеет место чистая длительность, разделенная интервалами. Наличие интервалов опровергает представление о числах как длительности. Бергсон резюмировал: «Существуют два вида множественности: множественность материальных объектов, непосредственно образующая число, и множественность фактов сознания, способная принять вид числа только посредством какого-нибудь символического представления, в которое непременно входят пространственные элементы»[2][3].
В основе первого представления числа лежит допущение о непроницаемости материи, которое в чем-то подобно допущениям о ее тяжести и сопротивлении. Хотя непроницаемость не является, так сказать, эмпирически наглядной (например, существуют растворение и иное соединение тел), все-таки в мысли мы скорее допускаем наличие пустоты между элементами одного вещества, в поры которого проникает другое вещество, чем возможность занимать одно и то же место двумя телами. Утверждение, что два тела не могут занимать одного места в пространстве, — это логический принцип, и поэтому отказаться от непроницаемости труднее, чем представить невесомое вещество. «Утверждать непроницаемость материи, — писал Бергсон, — это значит просто познавать согласованность понятий числа и пространства» .
Время может мыслиться как объективная длительность, процесс становления вещей. Однако рассудок, создавая теорию, абстрагируется, от изменения. Например, физика —это как бы одномоментное и тем самым вневременное описание Вселенной, включая время и движение. Это достигается на основе допущения Божественного наблюдателя, который, по сути дела, выступает условием возможности такого теоретического описания мира. Есть Бог как условие чуда, и есть Бог философов и ученых, выступающий условием возможности постоянства природы, без которого наука невозможна. Интенция однородной среды, для которой не существует становления и изменения, где однажды существующие предметы не изменяются, если на них не действуют какие-либо силы, служит основой абстракции пространства. Абстракция радикально вневременна. Она описывает реальность без качеств — гомогенную чистую и нейтральную среду. То, что ее наполняет (силы, объекты, качества), —это как бы отдельные сущности, которые взаимодействуют между собою без какого-либо участия пространства, выступающего в роли своеобразной сцены, на которой разыгрывается спектакль вещей. Поэтому время или исключается, или описывается на основе пространственных аналогий. То же самое складывается и относительно психических состояний. Последние, как показал Декарт, не имеют пространственных характеристик. Однако парадокс состоит в том, что они тоже описываются языком пространственных аналогий. «Время, — писал Бергсон, — мыслится как однородная среда, в которой рядополагаются состояния сознания»[4]. Таким образом, абстракции пространства в физике и времени — в психологии по существу выполняют одни и те же функции символизации некой однородной среды, позволяющей различать разнородное на основе протяженности. Опасность не в том, что рассудок создает понятие однородного бескачественного пространства, ибо оно практически выступает условием фиксации качественно разнородного. Опасность в том, что последнее описывается исключительно с точки зрения протяженности, т. е. измерения величины. Но на самом деле пространство, в котором мы живем, вовсе не однородно. Конечно, наука может абстрагироваться от разного рода социальных и культурных пространств, в которых различные места имеют различные качественные характеристики. Но рассудок не может справиться, т. е. непротиворечиво и обоснованно помыслить простейшее человеческое различие правого и левого. Поскольку в пространстве все направления одинаковы, это различие оказывается недоказуемым. Или, точнее, различия доказываются как тождественные: левая перчатка—это просто вывернутая правая. Точно так же для рассудка, строго говоря, нет различия прошлого и будущего, ибо логические структуры объяснения и предсказания оказываются аналогичными. Это возможно благодаря тому, что для него, по сути дела, значимым является только настоящее, которое «протянуто» в прошлое и будущее. Так время оказывается всего лишь измерением пространства.
Благодаря подсчету последовательных моментов длительности, благодаря связи с числом время предстает исчислимым и измеримым наподобие пространственных отрезков. Число и пространство связаны столь давно, что кажутся нерасторжимыми. Эта гомогенизация пространства, сделавшая его пустым, заставила Гуссерля задуматься над вопросом о смысле геометрии. Ее исток он увидел в практических процедурах измерения. Вопрос о смысле поднимает сложную философскую тематику, которая оказалась забытой. Ее нроблематизация оказалась весьма плодотворной в том отношении, что способствовала преодолению операционального определения пространства и выявлению иных возможных подходов к его пониманию. Бергсон не ставил под сомнение арисрметизацию пространства, однако пытался спасти время от сведения его к математизированному пространству. Представление о времени как последовательном росте числа математических точек, образующих линию, разрушает представление о длительности. Развивая метафору мелодии, Бергсон считал, что психическое представление времени связано не с подсчетом отдельных моментов, а с работой памяти, в которой время предстает не как количество, а как качество. Он писал: «На самом деле, длительность не есть количество, и как только мы пытаемся ее измерять, мы бессознательно заменяем ее пространством»87. Время — это интенсивность, а не экстенсивность. Связь времени и памяти далеко не всем кажется органичной. На самом деле, эпоха прогресса ассоциирует его с будущим. Неизвестно, повлиял ли как-то Бергсон на Хайдеггера, но последний проделал интересную эволюцию в понимании времени: начиная с ранней кантовской теории воображения, с раскрытия времени через припоминания прошлого, восприятие настоящего и предвосхищение будущего. При этом, отдавая, вслед за Кантом, приоритет способности воображения, он в последних сочинениях все больше обосновывал фундаментальную роль памяти, связывал время с ушедшим, с ностальгическим переживанием прошлого.
Понимая время как интенсивность, как некий внутренний качественный процесс, Бергсон исходил из вопроса: а что, собственно, длится, как понимать саму длительность? Поворот, который осуществил Бергсон в понимании времени, вполне соизмерим с хайдеггеровским обращением к изначальному смыслу бытия. Мы понимаем время как некую однородную среду, в которой длятся предметы и наша собственная жизнь. Но на него можно взглянуть и иначе, а именно как на такую длительность, которая имманентна сущему, будь то вещи или мы сами. Это не мы длимся во времени, а оно длится в нас. И этот процесс времени есть процесс становления, в ходе которого происходит изменение бытийствующих или Бременящихся сущих.
Бергсон разделяет то, что можно было бы назвать внешним и внутренним временем. Вне человека периодически колеблются маятники часов, которые ничего не меняют в мире. Наблюдая за движением стрелки часов, он не измеряет время, а считает и складывает одновременности. Но, на самом деле, внутри сознания происходит изменение организации его состояний, которое Бергсон и называет подлинной длительностью88. Это кажущееся чисто бухгалтерским различие представляется весьма важным, так как время обычно трактуют наподобие однородной среды сознания, как некое внутреннее пространство.
По мнению Бергсона, определение времени в пространственной перспективе искажает его суть. Пространство —экстенсивно, ибо оно образовано для существования множества отдельных вещей. Раздельная множественность и пространство — понятия одного порядка. В пространстве есть рядоположенность, но нет длительности, ибо каждое из последовательных состояний мира существует отдельно. Сама их множественность существует только для сознания, в котором эти положения вещей вызывают специфические состояния, которые взаимопроникают друг в друга, самоорганизуются в целое и таким образом связывают прошлое с настоящим. Конечно, Бергсона легко обвинить в субъективизме, но на самом деле, оставаясь в рамках философии сознания, он сделал важный шаг в понимании времени, и сегодняшние концепции системности и самоорганизации легко переводят его язык на более универсальный уровень, приписывая временную организацию не только сознанию, но и объективным процессам вне него.
Пространство и время различаются. Одно определяется как порядок сосуществования, а другое — последовательности. Однако если вдуматься, то последовательность — это тоже пространственное понятие. Бергсон писал: «Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше „я“ просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали»[5]. Для этого оно не должно погружаться в испытываемое ощущение, но и не забывать предшествовавших состояний. Но последние присутствуют не как некие точки в пространстве, а организуются наподобие звуков в мелодии. Метафора мелодии имела важное значение для характеристики временности сознания у Бергсона и Гуссерля. Ноты следуют друг за другом, но вместе они образуют целостный музыкальный образ, который наподобие живого существа не сводим к сумме своих частей. Мелодия кажется целостностью без различения — чистой длительностью, которая характеризуется взаимопроникновением и некой внутренней самоорганизацией своих элементов. Мелодия —это время, спроецированное в пространство, так как последовательность звуков в ней воспринимается как одновременное восприятие предыдущего и последующего. Это не чистая длительность, свободная от пространства, но и не арифметическая сумма моментов, а их целостность. Установление порядка предполагает различение элементов в пространстве и установление занимаемых ими мест. Отсюда—явное или неявное выключение времени. Если я воспринимаю элементы в длительности, то не могу воспринять их по отдельности как пространственно различенные, ибо их ощущения будут динамически присоединяться друг к другу как ноты ласкающей наш слух мелодии. Это была бы чистая разнородность, не поддающаяся счету.
Сознание и время (Гуссерль). Кажется, что на Гуссерля в какой-то мере повлиял Бергсон, хотя они не ссылаются друг на друга. Бергсон ссылается на представителей естественнонаучного направления в психологии, а Гуссерль —на Брентано. По-видимому, за этим отсутствием ссылок скрываются конкуренция и даже вражда школ. Вполне вероятно, что идея длительности, открытие которой сегодня приписывается Бергсону, на самом деле была общим открытием нескольких представителей той эпохи, и поэтому Гуссерль не считал его оригинальным автором. И все-таки пересечение проблематизации и отсутствие ссылок остаются загадочными и тем более необъяснимыми, что оба принадлежали к неукорененной и поэтому всячески поддерживающей своих соплеменников нации. Гуссерль свои лекции «Феноменология внутреннего сознания времени» начинает ссылкой на блаженного Августина, который нашел самые яркие выражения для описания загадки времени, соединяющего несоединимые прежде понятия прошлого, настоящего и будущего. Наука, опирающаяся на операции счета и измерения времени путем сложения различных моментов, каждый из которых был когда-то «теперь», по сути дела, устранила время, и ее язык описывает «вневременное» настоящее. И хотя Гуссерль, в отличие от Бергсона, не критикует в своих лекциях устранение наукой временности бытия, тем не менее совершенно ясно, что он стремится вернуть своеобразие прошлого и будущего. Он надеется достичь этого за счет феноменологической редукции — вынесения за скобки проблематики объективного времени. Этим не отрицается длительность вещей, но полагается, что она дана не изначально и непосредственно, а конституируется разнообразными имманентными актами сознания, которые должны быть выполнены для того, чтобы говорить о трансцендентном. Между тем на этом пути есть свои трудности. Прежде всего, исключение объективного времени не снимает подозрения, что они вызваны именно рассудком, что в коррекции нуждается сама рациональность, которая подчинила себе время и, будучи радикально вневременной, лишила время его силы, обезвременила тем самым понимание не только мысли, но и бытия.
Гуссерль пытается пойти дальше Канта, который лишил время трансцендентного статуса, и критикует способ представления времени сознанием на основе интуиции настоящего. «Кажется очевидным и даже неизбежным допущение, что созерцание временной протяженности имеет место в некотором Теперь»[6]. Речь идет о догме, согласно которой сознание стягивает любой предмет, чтобы его фиксировать и воспроизводить, в некую неделимую точку настоящего. У Канта единство сознания, так сказать, сильнее времени, ибо не разрушается его ходом. Гуссерль расширяет временной опыт сознания, дополняя его памятью и воображением. Он вводит, ссылаясь на У. Штерна, представление о «темпорально протяженном сознании». Временными, длящимися являются не только трансцендентные объекты, но и акты сознания. «Очевидно, что восприятие временного объекта само обладает временностью, что восприятие самой длительности предполагает длительность восприятия, что восприятие любой временной формы само обладает своей временной формой»91. В качестве общей характеристики временного объекта Гуссерль, как и Бергсон, считает не просто их единство во времени, как полагал Кант, а наличие временного протяжения или длительности. И здесь примером служит мелодия. Ее понимание на основе неявно онаученного описания оказывается чрезвычайно упрощенным: сведение музыки к восприятию последовательности тонов оставляет непонятным феномен ее целостности, который связан с запоминанием и предвосхищающим ожиданием.
Эти характеристики временного опыта сознания Гуссерль находит у Брентано. Последний заметил, что сознание, воспринимая нечто как настоящее, тем не менее вносит в него своеобразную модификацию, представляя пребывающее в сознании в качестве прошлого. Здесь есть тонкое отличие от традиционного поиска специфики временности. По аналогии с восприятием цвета описывается и восприятие времени, т. е. временная длительность считается имманентным элементом ощущения. На самом деле ощущение длительности и длительность ощущения — разные вещи. К представлению последовательности, считал Гуссерль, приходят благодаря тому, что предыдущие состояния специфическим образом меняются от момента к моменту. Но это является не побочным продуктом ряда ощущений, а особой, имманентно присущей ему продуктивной способностью.
Последовательность, длительность, временность не являются результатом восприятия некого объективного процесса длительности. Гуссерль писал: «Итак, это общий закон, что к каждому данному представлению естественным образом присоединяется непрерывный ряд представлений, из которых каждое воспроизводит содержание предыдущего, однако таким образом, что оно постоянно прикрепляет к новому момент прошлого»92. Здесь есть некий оригинальный момент, который был сначала слабо выражен у Бергсона, считавшего память базисной временной формой сознания. Гуссерль в соответствии с немецкой продуктивной установкой считает основой фантазию, формами которой выступает не только предвосхищение будущего, но и запоминание прошлого, и даже восприятие настоящего.
«Теперь» — актуально переживаемый момент, настоящее. Оно воспринимается, хотя и не является «образным», ибо Гуссерль отрицает теорию отражения, соответствия и т. п., однако иногда говорит о нем как об образе. «Теперь» конституируется первичным актом восприятия: «„Точка-источник“, с которого начинается „производство“ длящегося объекта, есть первичное впечатление»[7]. Импрессиональное (воспринимающее) сознание текучим образом постоянно переходит во все новое ретенциальное сознание, поэтому каждое актуальное Теперь постоянно модифицируется, становится ретенцией уже бывшего Теперь. Восприятие Гуссерль определяет как ориентацию на настоящее. Оно разделяет данный тон от минувших. Однако Гуссерль говорит о восприятии не только точки за точкой, но и всей длительности, ибо само восприятие оказывается протяженным: единство ретенциального сознания «удерживает» протекшие тоны и устанавливает единство сознания, отнесенного к единому временному объекту. Именно благодаря единству воспринимающего и ретенциального актов и возможно адекватное восприятие временного объекта.
Восприятие может быть направлено на всю мелодию и на отдельный тон. Само прошлое может быть тоже предметом акта восприятия. Однако восприятие только что прошедшего как самоданного бытия — это особый вид восприятия. Временные объекты распространяют свою материю по временному интервалу, и они могут конституироваться такими актами, которые конституируют различия во времени — прошлое и настоящее. «Акт, притязающий дать сам временной объект, должен содержать в себе „Теперь-схватывания“, „схватывания прошлого“ и т. п.»[8]. «Ретенциальное Теперь» — первично вспомненное, которое уже не обладает качеством реальности, но ощущается как отзвук, хотя и не является таковым. Отзвуки вовсе не являются источником ретенции, которая является первичным сознанием уже бывшего, а не некого его остатка. «Ретенциальное сознание реально содержит сознание прошлого тона, первичную память тона, и его нельзя разлагать на ощущаемый тон и схватывание в качестве памяти»[9].
Воспоминание—репрезентация, вторичная память. Оно похоже на структуру восприятия. Теперь-точке восприятия соответствует Теперь-точка воспоминания. Она тоже обладает темпоральным обрамлением. Но отличие воспоминания от восприятия в том, что, например, мелодия проигрывается в фантазии, и мы в действительности ее не слышим. Здесь «временное настоящее» является вспомненным, воспроизведенным, а не первично данным и созерцаемым прошлым. Акты воспоминания: простое всматривание, схватывание—внимание, направленное назад, но не на всю мелодию, а ее часть. «Всматривание или взгляд в обратном направлении на ретенциально данное — и на саму ретенцию — осуществляется теперь в собственном вторичном воспроизведении: данное только что бывшего обнаруживается как.
тождественное с тем, что воспроизведено в памяти" .
«Теперь», являющееся в воспоминании, отличается от «Теперь» восприятия тем, что оно не дано, а воспроизведено. Так и в фантазии каждый объект так или иначе темпорально растянут, но все его «Теперь», «Прежде» и «После» оказываются воображаемыми, как и сам объект. Отсюда — различие восприятия, которое является первичным актом, конституирующим, ставящим перед взором объект, и воспроизведения, репрезентации, которое ставит перед нами не сам объект, а его образ (хотя и не в модусе образного сознания). Гуссерль выделяет первичную и вторичную память. Восприятие — первично конститутивный источник, а первичная память конституирует прошлое и тоже не репрезентативно, а презентативно. «Только-что-бывшее, „Прежде“, в противоположность Теперь, может непосредственно усматриваться только в первичной памяти; в этом состоит ее сущность — приводить к первичному непосредственному созерцанию это Новое и Своеобразное, точно так же как сущность восприятия Теперь состоит в том, чтобы приводить непосредственно к созерцанию Теперь. Напротив, воспоминание, как и фантазия, предлагает нам только воспроизведение»[10][11]. Оно характеризуется Гуссерлем как модифицированное восприятие.
По-иному выглядит первичная и вторичная память, если она схватывает не длящиеся предметности, а данности самой длительности и последовательности. «Сознание последовательности есть первично дающее сознание, оно есть „восприятие“ этой последовательности»[12]. Воспоминание последовательности относится к сфере возможности, к свободе. При этом Гуссерль различает восприятие последовательности воспоминаний и вспоминающее сознание о них. Ретенция и воспоминание оказываются первичным дающим сознанием для последовательности длящихся предметностей и даже самой длительности. Ретенция конституирует живой горизонт Теперь, т. е. является сознанием «только что прошедшего». Она дает прошлое как «снова-данность» длительности. Настоящее дано в памяти и не может быть дано заново.
Известно, что время имеет два измерения, но, строго говоря, оно включает три состояния: прошлое, настоящее и будущее. Этим трем формам времени соответствуют специфические способности сознания — память, воспоминание, или удержание прошлого, восприятие настоящего и воображение, или ожидание будущего. Все это, по мнению Гуссерля, — элементы фантазии". Так, память — это вовсе не арифметическое сложение прошлых «теперь», а продуктивное их понимание на основе целого. Даже восприятие настоящего не является чистым отражением непосредственного положения дел, а является сложным интенциональным актом. И тем более продуктивным оказывается предвосхищение будущего в форме ожидания. Отмеченная продуктивность изменяет чувственные впечатления, но не определяет их наподобие того, как это делает, например, интенсивность. По Брентано, определяющей реальностью является только Теперь. Остальные временные модусы — ирреальны. Эта особенность временных актов будет подфобно развернута Хайдеггером. Гуссерль же ограничивается лаконичным замечанием о том, что настоящее становится бывшим, и, таким образом, оно есть не что иное, как «будущее бывшее». Важной корректировкой учения Брентано является утверждение Гуссерля о том, что, хотя моменты длительности являются последовательно, тем не менее такие модусы сознания, как воспоминание и ожидание будущего, нельзя считать нереальными.
Гуссерль выделяет в рассуждениях Брентано «феноменологическое ядро», которое состоит в том, что длительность, последовательность являются. Учение же о первичности фантазии он корректирует в пользу приоритета восприятия. Временность не конструируется, а воспринимается. Другим недостатком теории Брентано Гуссерль считает отождествление акта и предмета. Именно оно помешало разработке последовательно феноменологической теории времени. Гуссерль различает высказывания об имманентном объекте, который длится, и точка Теперь которого постоянно погружается в прошлое, а на ее место приходит новый момент, и о способе, которым осознаются различия длящегося таким образом тона. Так, точка Теперь воспринимается, а истекшие интервалы осознаются в ретенции (удержании). Гуссерль говорит о перспективе времени, в которой прошлые моменты как бы сливаются и сжимаются. «Любое темпоральное бытие „является“ в каком-либо непрерывно изменяющемся модусе протекания»100. Это явление в модусе протекания настоящего и прошлого нельзя назвать сознанием, ибо в нем посредством явления предстает объект в каком-либо определенном модусе. Феномены, конституирующие имманентные временные объекты, оказываются явлениями другого сорта, нежели в сознании. Их Гуссерль называет «феноменами протекания» или «модусами временной ориентации»[13]. Эти феномены есть непрерывность постоянных изменений, образующих неразрывное единство. Части, отдельные моменты и фазы выделяются лишь в ходе целостного протекания. Однако можно зафиксировать исходную точку, с которой начинается существование имманентного объекта. Он характеризуется как Теперь. Но точка Теперь может восприниматься в модусе воспоминания, и этот способ схватывания есть как бы «ядро кометного ядра ретенции», к которому отнесены все предыдущие Теперьточки. При этом происходит постоянное отодвигание в прошлое, свидетельствующее об ограниченности временного горизонта.
Согласно Брентано, в основе схватывания времени лежит фантазия, характеризуемая как репродукция, с необходимостью указывающая на нечто первично данное, воспроизводимое. Но сфантазированное — это не представление и не образ. Сама фантазия может наблюдаться и восприниматься, т. е. схватываться в первичном акте самоданности. Поэтому Гуссерль утверждал, что «между заново воспроизводящей памятью и первичной памятью, которая расширяет Теперь-сознание, существует огромная феноменологическая разница»[14]. Между звучанием тона в воспроизведении и репродукцией репродукции — радикальное различие в содержании. В основе сознания, которое воспроизводит длительность, изменение, последовательность, лежит фантазм. Репродуцирование Теперь и превращение его в прошлое проходит ступени градации. То же самое можно сказать о непрерывности сознания-фантазии. Напротив, переход восприятия в фантазию, импрессии — в репродукцию имеет скачкообразный характер. Первичное протекание времени — нечто устойчивое, на что мы можем взглянуть. Напротив, воспроизведение — нечто свободное, осуществляемое то быстрее, то медленнее, отчетливо или неясно. Как таковое оно есть событие внутреннего сознания, и как таковое имеет свои модусы протекания, что отсылает к некому целому, которое ими воспроизводится. Нужно различать модусы ясности, жизненности и т. п., относящиеся к воспроизведенному и к актуальному переживанию воспроизведения.
Итак, есть протекание прошедшего и протекание переживаний о нем в настоящем. Эти последовательности могут отклоняться друг от друга. Если я осознал временную последовательность, то она несомненна, но это не значит, что некоторое событие действительно имело место в том смысле, в каком я его схватываю. Поэтому сохранение предметной интенции в сознании времени ошибочно. Мы должны ограничиться последовательностью представляющих содержаний или явлений. То есть феноменология ведет речь о последовательности явлений, а не событий. Первичная очевидность протекания явлений может сохраняться в репродукции, если совпадают репродуктивное и ретенциальное протекания. Речь идет о необходимости повторения в пока еще свежей памяти воспринятой последовательности. Как может репродуцированное Теперь репрезентировать прошлое? Переживания Теперь и Только-что-ирошедшего — разные интенциональные акты. По мнению Гуссерля, они взаимодействуют на уровне конституирования как Теперь, так и Прошлого. Отдельный момент воспринимается как элемент потока происходящего и, следовательно, содержит временной модус и обеспечение единства вспомненного. Воспоминание встраивается в единство переживания на основе интенции ожидания. Уже первичный конститутивный процесс оживляется протекциями. В воспоминании они тоже репродуцируются, но подвергаются обработке в том смысле, что суживают ранее ожидаемые возможности. «События, которые прежде лишь преду гады вались, теперь.
суть квази-настоящее" .
В отличие от Брентано, Гуссерль говорит о фундаментальности не фантазии, а ретенции. Обычно воспоминание характеризуют как менее интенсивное восприятие. Однако Гуссерль указывает на специфику ретенциальных «содержаний». Первично вспомненный тон — это вовсе не ослабленный реальный тон. Это, как и фантазия, есть совершенно своеобразная интенциональность, не сводимая к интенциональности ощущения. На самом деле Гуссерль исходит из первичности восприятия, а не ретенции. Память или ретенция при этом не являются образными восприятиями. Того, что вспоминается, нет и в памяти, оно дано не как настоящее, а как бывшее, поэтому сравнение того, что не воспринимается, но только ретенциально осознается, с чем-то вне его не имеет смысла. От первичной памяти — ретенции — Гуссерль отделяет вторичную память — воспоминание. Ее нельзя определять как репрезентацию, ибо в ней сплавляются первичная память и ожидание (ретенция и протенция). «Теперь-точка обладает для сознания опять-таки темпоральным обрамлением, которое осуществляется в непрерывности схватываний памяти»104. Однако воспоминание является специфической формой опыта времени. Прошедшее отошло и отзвучало, но еще остается в сознании, оно не предположено, а дано. В воспоминании же временное настоящее есть вспомненное, воспроизведенное, а не действительное настоящее. С другой стороны, настоящим становится само воспоминание, и в этом его специфика. Как такое настоящее оно, собственно, и встраивается в восприятие, конституируя таким образом единство длящейся предметности. Ретенция же лишь удерживает в сознании произведенное как «только что прошедшее», но не обладает продуктивностью.
То, что сделал Гуссерль, можно представить в сравнении с психологическим анализом времени, которое опиралось на математическое понимание длительности как последовательности отдельных моментов. Решающей здесь была аналогия с числовым рядом. Время при этом сводилось к пространству. Несуразность такого подхода обнаруживалась при анализе объективного времени, которое выступает как становление, где решающим является не количественный рост однородных элементов, а качественное изменение и случайные флуктуации, коренным образом меняющие направление и характер последовательности. Время — открытая система, и по отношению к ней недопустимы принципы константности и однородности, словом, все те принципы, благодаря которым конституируется гомогенность мира. Это не время входит в мир, а он существует во времени, в нем случаются новые изменения, которые не были запланированы заранее. В русле этого подхода работали Дарвин и Ницше, Бергсон и Уайтхед, его развивает современный системный подход. Главная трудность состоит в том, что законы природы оказываются изменяющимися во времени, а оно не имеет устойчивых законов. Впрочем, попытка совладать с хаосом есть не что иное, как намерение описать его специфический порядок и таким образом ориентироваться в потоке становления.
Нечто подобное произошло и в теории сознания. В классической философии оно наделено вневременным характером, и это вызвано, прежде всего, абсолютизацией логики и математики. Именно их господство обусловливает гомогенизацию как бытия, так и сознания. Первоначально в психологии был поставлен вполне конкретный и на научной основе обсуждаемый вопрос о том, как сознание отображает время. Последнее сводилось к последовательности перехода от одного состояния к другому, что предполагало систематизацию становления в форме дискретного ряда определенных единиц. Объективное время течет, так сказать, в одну сторону. В нем, строго говоря, нет прошлого и будущего, а только настоящее, которое выступает как некая единица (Теперь), прибавляемая к ряду уже прошедших моментов. Точнее говоря, прошлое и будущее сводятся в таком количественно-математическом понимании времени к вычитанию или прибавлению дискретных «теперь». Поэтому становятся возможными как объяснения, так и предсказания, которые аналогичны по своей логической структуре, ибо ничего не убавляют и не прибавляют к самим законам, а лишь учитывают убывание или рост моментов времени, сводящихся к изменению количества материи или движения. Наука смотрит на мир как на насекомое, ползущее по бесконечной линии, и, считая себя «демоном Максвелла», подсчитывает его положение в любой точке этой бесконечной прямой. Если прошлое, настоящее и будущее симметричны и транзитивны с точки зрения механики, то кажется, что дело обстоит совершенно иначе с человеческой жизнью, где время необратимо, и где прошлое необъяснимо, настоящее непостижимо, а будущее непредсказуемо. Конечно, сознание обладает способами постичь время восприятием, памятью и воображением, но они не сводимы к четким логическим принципам, слишком капризны, чтобы на них можно было построить теорию времени. Тем не менее на такую научную теорию временных форм сознания и ориентировалась психология. Ее опорой являлась теория ассоциаций, служившая базисом понимания работы сознания в целом, на нее опиралась теория происхождения понятий и законов. Согласно ей, восприятие отражает моменты теперь, которые суммируются памятью, подвергаются логической обработке, и затем устойчивые компоненты экстраполируются в будущее. «Капризы» памяти, «ошибки» восприятия, «фантазмы» воображения, как свидетельствуют сами употребляемые эпитеты, считаются искажениями логики и фактов и нуждаются в коррекции, на что, собственно, и ориентировалась психология, ставившая своей целью лечение человеческого разума от описанных еще Бэконом «идолов». Однако логика нивелирует познание современного, припоминание прошлого и предвосхищение будущего, научное понимание мира делает все это ненужным.
Гуссерль доверял сознанию и считал, что все его способности необходимы и если нуждаются в корректировке, то ни в коем случае не в такой, которую осуществляет редукционизм, выделяющий в сознании мышление в форме понятий, понимающий остальные способности, и прежде всего восприятие, сугубо функционально. Опираясь на философскую психологию Брентано, Гуссерль развил принципиально новую теорию предметности, а также учение о конституитивных актах сознания. Время в его теории приобрело необычайно сложное строение, и решающим в его становлении оказалось сознание. Собственно, оно и конституирует время. Поток сознания, где переплетаются первичное схватывание, ретенция и протенция, где взаимопроникают друг в друга восприятие, воспоминание и фантазия, оказывается временным. Сознание конституирует время и само осуществляется как время. Может быть, еще одним важным мотивом было увлечение Дильтеем, которое привело к тому, что Гуссерль все сильнее втягивался в проблематику исторического понимания жизненного мира. Это обстоятельство и сделало актуальным теорию Гуссерля для Гадамера. Совершенно прозрачно в гадамеровской герменевтике проступают основные положения гуссерлевской феноменологии временного сознания.
Переплетение различных временных модусов сознания Гуссерль вынужден констатировать каждый раз, когда он хочет ограничиться описанием отдельных его способностей. Так, принципиально отделяя восприятие и воспоминание, память и предвосхищение, он фиксирует в качестве условия возможности восприятия ретенцию и протенцию и, наоборот, включает восприятие в память и фантазию. Конечно, значение Гуссерля состоит в том, что он не останавливается на констатации диалектики этих модусов сознания, а раскрывает тонкие различия и взаимосвязи между ними.
Время и бытие (Хайдеггер). Является ли время некой внешней рамкой, своеобразной сетью или измерительной системой, которая делает измеримым и исчислимым процесс становления? Даже если это так, то должно ли оно быть соразмерным измеряемому или же абсолютно произвольно? Да, мы меряем протекание самых различных процессов масштабом, в основе которого лежит вращение Земли. Но в принципе мы могли бы мерить его и частотой собственного пульса. Правда, ученые считают, что это было бы нерационально, ибо в зависимости от его ритма процессы то ускорялись бы, то замедлялись. Поэтому они выбирают приближающийся к идеалу ритмический процесс и, кажется, остановились на периоде полураспада радия, по сравнению с которым даже вращение Земли оказывается нерегулярным.
Философы, гуманитарии и историки возражают против такого определения времени. Одни видят в нем подмену времени отрезками пространства; другие возражают против онаучивания и рационализации времени, которое переживается по-разному разными людьми в различных обстоятельствах; третьи также считают, что механическое время, используемое для датировки событий, нивелирует историю, различные периоды которой несоизмеримы, ибо время их протекает совершенно по разному. Ведь нельзя думать, что прежде и теперь было одно и то же время. Прошлое, настоящее и будущее разделяются не только количественно, числом оборотов Земли, но и качественно. Точно так же человеческая жизнь не укладывается в ровное течение лет. Люди интуитивно разделяют жизнь на «до» и «после»,* имея в виду какое-то важное событие: взросление, работу, замужество, утрату близких, старость и т. п. В таком измерении времени значительным событием считается что-то внешнее. Но время выступает и как внутреннее становление, изменение человека. Оно не является пустым потоком — погружающийся в него человек основательно меняется. Стало быть, время — это и есть жизнь, которая формирует человека, оно неотделимо от свершающихся событий. Но и это еще не все. Некоторые люди действительно почти не меняются во времени, ибо остаются верными идеалам юности. Так они оказываются за бортом и уже не чувствуют себя укорененными в настоящем, создают себе убежище, где, как в резервации, консервируют прошлое в виде обломков прежних вещей и живут воспоминаниями.
Бытие во времени — вовсе не такое простое дело. Говорят, что время нам неподвластно. Но, к сожалению, мы редко убеждаемся в этом и живем так, будто бы нам отпущена вечность. Так что идеализированное представление о времени как о большом, растянутом «теперь», составленном из отдельных моментов, — это вовсе не абстракция механики. Изобретатели часов использовали, или, точнее, технически реализовали то, что было уже конституировано в повседневном жизненном опыте. И все-таки отличительная черта повседневности — это ее гетерогенность, создание и использование разных абстракций, каждая из которых употребляется в определенных границах. Эта черта повседневного сознания либо игнорируется (например, Гегель в работе «Кто мыслит абстрактно?» считал диалектику конкретной, а обыденное мышление — абстрактным), либо вызывает раздражение и критикуется из-за его всеядности и беспринципности. Таким образом, повседневное сознание не поддается определению, оно может быть как догматическим, так и релятивистским. Философская серьезность неоправданна в отношении повседневности, а поскольку обиды, как и несбывшиеся надежды, простить труднее всего, то неудивительно, что обратившиеся к повседневности в поисках твердого основания философы довольно часто разочаровываются, если, конечно, оказываются недостаточно твердолобыми, чтобы подчинить ее своим жестким схемам.
Как же осваивается, конструируется или конституируется время человеческим бытием? Свидетельствами, следами времени, своеобразным языком, которым оно сообщает о самом себе, является, конечно, смена дня и ночи. Природные процессы не противостоят, а образуют основу человеческого бытия. Сон и пробуждение, рождение и смерть вызывают различные чувства и переживания, связанные с ходом объективного времени. Оно не просто течет по кругу, но и неумолимо следует к какому-то концу, радикально меняющему и даже прекращающему человеческое существование. Время связано не только с ужасом конца, заботой о будущем и суетой в настоящем, но и с памятью и надеждой, с любовью и верой. У Хайдеггера время судьбоносно и трагично. Более легкое его восприятие расценивается как пустая трата времени. Так, он ничего не писал об игре и вообще о приятном времяпрепровождении, хотя об этом подробно писал близкий ему Э. Финк. Вообще говоря, время — страшная сила, от власти которой никто не может ускользнуть. Но именно поэтому попытки забыть о времени, скрасить его рутинный, не слишком торопливый и все-таки неумолимый и жестокий ход вызывают уважение. Нельзя все время думать о времени. Все-таки иногда оно течет незаметно, и, хотя достигает своего, однако человек, лишенный переживаний времени, оказывается свободным от него. Время, как мудро отметил Гегель, — это и есть дух. Это отождествление он осуществил на основании того, что оба они ничтожат и выступают силами отрицания. Время ничтожит настоящее, отодвигая его в прошлое и закрывая имеющиеся возможности. Дух отвергает позитивное знание и изменяет сложившиеся прежде убеждения. Время и дух связаны и более тесно. Каждое время имеет свой дух и выражается в нем, будучи схваченным мыслью. Точно так же переживания духа вызваны временем, ибо он, повторяя работу ничтожения, выступает отрицанием отрицания, отрицанием отрицающего и живет тем, что прошло.
Хайдеггер, несомненно, исходил или отталкивался от Гуссерля. Он получил в подарок часы за издание лекций своего учителя о времени. Но, тем не менее, ощутимы и различия. Прежде всего, Хайдеггер довольно много говорит об объективном времени. Кроме того, время для него — модус экзистенции. Конечно, несмотря на критику познавательного отношения к бытию как к предмету и негативное отношение к пониманию времени как субъективной формы представления мира, различие потока сознания, как оно дано в феноменологии и экзистенции, вовсе не так уж и радикально. Экзистенция — это обыденное сознание. Поэтому аналитика присутствия с его модусами брошенности и заботы, так или иначе, отсылает к временному опыту сознания, как его описывает феноменология. Важным для хайдеггеровского раскрытия существа времени являются занятия его историческим временем. Именно эти темы подхватил Гадамер и этим сделал «Бытие и время» актуальным для методологии гуманитарного познания. Любопытно, что главный груд Хайдеггера остался незавершенным, и что последние его главы посвящены Гегелю. Если учесть, что в последующей работе «Кант и проблемы метафизики» вновь разговор заходит о времени, то становится понятным, почему философ прервал эту тематическую линию. Ход по ней становился все более монотонным, а само направление—тупиковым. Время сознания становилось малоинтересным для Хайдеггера. Он искал время бытия, судьбу, которую оно посылает.
Бытие раскрывается не в познании, где оно представляется как предмет, а осваивается экзистенцией присутствия в мире, благодаря которому человек имеет «бытийную понятливость». Важнейшим модусом присутствия выступает забота, условием возможности которой и выступает временность. Временность Хайдеггер выявлял в рассмотрении «собственной способности присутствия быть целым»[15]. Эта целостность приводит к заботе и укорененных в ней смерти, вине и совести. Это требует отдельного анализа. Интуитивно ясно, что время проявляется по-«человечески», не через механические или иные часы. Память и ожидание у Гуссерля, забота и смерть у Хайдеггера—это временность человеческого бытия. И технический способ измерения времени не разрушает, а, наоборот, снабжает человеческую заботу средством подсчета экономии и рациональной траты времени. Изобретение часов преобразило человеческую жизнь, каждый их удар стал напоминанием о времени, которое нельзя растрачивать впустую.
Время — это, конечно, не количество прожитых лет. Важно то, чем оно наполнено. Суть его не в экстенсивности, а в интенсивности. Но то, что наполняет время, — это жизнь. Так получается и у Хайдеггера. Кажется, что он пишет вовсе не о времени, а о бытии, и даже не о бытии, ибо оно так же пусто и невыразимо, как и время, а о повседневном существовании, «аналитику» которого ему удалось раскрыть наиболее впечатляюще. Но не остались ли бытие и время столь же пустыми, как и были, некими горизонтом и местом мест? Они чаще всего схватываются в пространственных метафорах, и это не случайно. И все-таки Хайдеггеру удалось обнаружить интенсивность времени, выявить его наполненность. Время не просто вместилище событий, а их внутренняя связь, оно обладает некой целостностью, которая преобразует или модифицирует экстенсивный рост однородных «теперь» и поэтому, как всякое целое, не равно сумме своих элементов. Целостность присутствия определяется его началом — рождением и концом — смертью, оно протяжено между рождением и смертью. Так возникает временное сознание, состоящее из последовательности переживаний «во времени». Однако такое понимание временности присутствия как некого нахождения внутри времени предполагает нечто постоянное. Возникает дилемма: остается постоянным само время, в котором свершается экзистенция, или, наоборот, сквозь время «пропрыгивает», оставаясь неизменным в последовательной смене «теперь», само присутствие, понимаемое как целостная «жизненная взаимосвязь». «Присутствие, — писал Хайдеггер, — экзистирует не как сумма моментальных действительностей следующих друг за другом и исчезающих переживаний»[16]. Оно не наличествует и в некой «рамке», ограниченной рождением и смертью. Присутствие философ определяет как «протяжение», что можно понять как событие. «Фактичное присутствие экзистирует рожденно, рожденно оно также и умирает в смысле бытия к смерти»[17]. Присутствие как забота включает границы «между» ними.
Хайдеггер поднимает вопрос об онтологическом статусе историчности, который отодвигается в сторону в научных проблематизациях истории («Гносеология» Зиммеля и «историография» Риккерта.) История как объект науки возможна благодаря некой первичной укорененности историчности во временности. Хайдеггер исходит из феноменологической и экзистенциально-онтологической конструкции историчности, опирающейся на временность присутствия. Экзистенциальный набросок историчности присутствия исходит из заботы, которая подлежит надлежащему толкованию и размыканию. «Анализ историчности присутствия пытается показать, что это сущее не потому „временно“, что „выступает в истории“, но что оно, наоборот, экзистирует и способно экзистировать лишь потому, что в основании своего бытия временно»[18].
Приступая к экзистенциальной конструкции историчности, Хайдеггер анализирует расхожие определения истории, благодаря прояснению смысла которых он и достигает поставленной цели. «Среди значений выражения „история“, не имеющих в виду ни науку об истории, ни эту последнюю как объект, а само это не обязательно объективируемое сущее, на преимущественное употребление претендует то, в котором это сущее понято как прошлое»[19]. Здесь история понимается позитивно: не как безвозвратно прошедшее, но как еще воздействующее, хотя оно принадлежит более раннему времени, однако и сегодня еще в наличии. В определении истории как прошлого есть указание на происхождение и становление. Современное имеет прошлое и будущее, история здесь понимается как взаимосвязь событий. История означает также «целое сущего, изменяющегося „во времени“, а именно —в отличие от природы, которая равным образом движется „во времени“, — перипетии и судьбы людей, человеческих союзов и их „культуры“»[20]. Рассмотрев четыре «расхожих» определения истории, Хайдеггер пытается объединить их в том, что они исходят из понимания человека как субъекта истории. Для этого они нуждаются в прояснении, которое раскрывает историческое свершение как событие, принадлежащее присутствию. При этом встает вопрос, становится ли присутствие историческим благодаря вхождению в историю, в происходящее, или же бытие присутствия изначально исторично, и это делает возможным сами обстоятельства и истории.
Правомерность онтологической постановки проблемы историчности Хайдеггер демонстрирует при анализе древностей. Почему они, собственно, считаются историческими, ведь они существуют в настоящем? Что же изменилось, и почему эти вещи не являются сегодня тем, чем они были? Что же ушло? — спрашивает Хайдеггер — и отвечает: ушел тот мир, внутри которого они функционировали в озабоченном присутствии. Поскольку присутствие не является наличным, а экзистирует, оно, строго говоря, не может стать прошлым, оно сбывается «во временении своей временности», которую Хайдеггер называет бывшестыо, как единство временности присутствия. Он различает два смысла исторического. Во-первых, первично историческое присутствие, во-вторых, внутримирно сущее, которое Хайдеггер называет «миро-историческим», близким понятию всемирной истории. Сущее, отодвигающееся назад, не становится от этого историческим, отставание от «теперь» не является конститутивным элементом истории. Подлинно исторически сущее существует не «во времени», оно исходно временное.
Бытие присутствия очерчено как забота, которая основывается во временности. Последняя определяет историчность экзистенции, которая, по сути дела, оказывается конкретным проявлением ее временности. Эта временность первоначально проявляется как ориентация на способ собственного экзистирования, охарактеризованного как решимость. «Решимость была определена как молчаливое, готовое к ужасу бросания себя на свое бытие-виновным»111. Итак, временность присутствия изначальна, она раскрывается как постепенное приближение к концу. Онтологическая машина времени —это бытие к смерти. Она определяет все остальное. Любопытным образом Хайдеггер соединяет прямую и бесстрашную мысль с обходными путями языка, находя в последнем просветы, подтверждающие эту мысль. Итак, смерть —голая истина нашего бытия в мире. Но отсюда может следовать все, что угодно, в том смысле, что бытие бессмысленно: раз нет высшей правды, стало быть, все позволено. Как придать смысл кажущемуся самым бессмысленным — умиранию? Онтологически, т. е. по-старчески мудро и прямо, это вовсе не невозможно. То, что такой подход осуществим без каких-либо искусственных уловок, свидетельствует экзистенциальное неприятие бессмертия. Вечная жизнь —мечта, приближение к которой обещает наука, а полное исполнение — религия — на самом деле была бы ужасна. Однако эта догадка с трудом может быть выполнена в языке, особенно в русском, так как последний уже ориентирован на бессмертие в смысле загробного существования. Воскресение мертвых—вовсе не безумная идея Н. Федорова, она не случайный каприз, а глубочайшее чувство долга, неисполнение которого приводит к сознанию виновности.
Отличие Хайдеггера от философов жизни состоит в том, что в жизни человек теряет себя и лишь задним числом собирает свое единство, извлекает себя из рассеяния. Он придумывает при этом некое особенное предназначение. Затерянность в людях и озабоченность миром Хайдеггер охарактеризовал как бегство от смерти. Но отсюда начинается поворот. Ускользание от смерти говорит о первичности бытия к смерти, что и составляет суть заботы. Забота —это сама смерть. И решимость вводит это в собственную экзистенцию. «Событие же этой решимости, заступающе само-передающее возобновление наследства возможностей, мы интерпретируем как собственную историчность»112.
Историчность Хайдеггер раскрывает через решимость, мы бы добавили — верность и ответственность, потому что история означает верность преданию, сохранение наследия, ответственность перед будущим. Но экзистенциально важнее решимость, благодаря которой исток и рождение, предполагающие кончину, принимаются как брошенность своего здесь-бытия. Экзистенциальная решимость выступает как судьба. В расхожем, несобственном мирском понимании историчность, напротив, воспринимается как современность, в волнах которой каждый ловит свою удачу. Это есть предательство прошлого, которое характеризуется как старое, бывшее и теперь ненужное. Собственная историчность возникает как отречение от осовременивания прошлого и связана с пониманием истории как возвращением возможного.
Вопрос о соотношении религии, антропологии, морали и философии у Хайдеггера еще нуждается в прояснении. Вероятно, он хотел вернуть философии проблемы, окончательно захваченные моралью и религией, после того как философия все сильнее втягивалась в диалог с наукой. Во всяком случае, было бы опрометчивым сразу утверждать решающее влияние религии на философское творчество Хайдеггера. Да, его онтология чем-то напоминает ветхозаветную теологию. Но, может, дело обстоит как раз наоборот: философ ищет ответы своего времени на вечные проблемы. Философия может оправдать смерть тем, что подвергает вечную жизнь онтологическому сомнению. Но это радикально расходится с человеческими ожиданиями бессмертия. Поэтому религиозная конструкция справляется с этим иначе: смерть — искупление грехов жизни. Жизнь всегда греховна и виновна, она — преступление. И суть дела тут не в том, что «не обманешь —не продашь», а в том, и здесь русский язык очень точен, что преступление как источник вины связан с пере-ступанием, с переходом границ, с процессом становления, т. е. со временем. Жизнь как временной процесс —это становление и событие, т. е. свершение. Они предполагают отказ от былого, нарушение традиции, пере-ступание закона. Жизнь — это предательство, в том числе и самой себя. В этом и состоит ее временность. Неслучайно Гегель связывал время и дух как негативные силы.
Хайдеггер утверждает изначальную временность присутствия и выводит ее модусы из заботы. Речь идет не только об обычной озабоченности устройства собственной жизни и даже не заботы о себе или об окружающей среде. Эти виды заботы рассматриваются как знаки онтологии присутствия, которое имеет вид «вперед-себя-бытия»: «Вперед-себя-бытие означает не нечто вроде изолированной тенденции в безмирном „субъекте“, но характеризует бытие в мире. К последнему же принадлежит, что оно, вверенное самому себе, всегда уже брошено в некий мир. Оставленность присутствия на самого себя кажет себя исходно конкретно в ужасе»113. Фактическое экзистирование присутствия не есть индифферентно брошенная способность быть-в-мире, а осуществляется в конкретной окружающей среде, что Хайдеггер называет «падающим бытием при озаботившем внутримирном сподручном». Таким образом, основной экзистенциал «заботы» охватывает как заботу о себе, так и заботу о сподручном. Но речь идет не о жизненной, а об онтологической заботе, ибо жизненные проблемы, познание и переживание имеют опору в онтологическом устройстве присутствия. В повседневной заботе, в житье-бытье мир выступает как сцена, а бытие — как поток, в котором плывут люди. Разве то, что заботит людей, и то, что совместно пережито, недостаточно для фундамента истории? Хайдеггер относит историчность не к субъекту и не к объекту, а к сущему, которое экзистирует как бытие-в-мире: «Событие истории есть событие бытия-в-мире»114. Мир раскрывает себя, а это раскрываемое постигается экзистенцией. Именно благодаря этому книги и вещи имеют свои «судьбы», а природа становится «историчной».
- 1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотоп в романе // Вопросы литературы и эстетики / Отв. ред. И. 3. Басксвич. М., 1965.
- 2. Бергсон А. Опыт непосредственных данных сознания (идея длительности) // Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1992.
- 3. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
- 4. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994.
- 5. Делез Ж. Различение и повторение. СПб., 1998.
- 6. Молчанов В. Гуссерль и Хайдеггер: феномен, онтология, время // Проблема сознания в современной западной философии / Отв. ред. Т. А. Кузьмина. М., 1989.
- 7. Подорога В. А. Метафизика ландшафта. М., 1983.
- 8. Рикёр II. Повествовательная идентичность // Герменевтика, этика, политика / Отв. ред. И. С. Вдовина. М., 1995.
- [1] Бергсон А. Собр. соч. М., 1992. Т. 1. С. 85.
- [2] Там же. С. 87.
- [3] Там же. С. 88.
- [4] Там же. С. 89.
- [5] Там же. С. 93.
- [6] Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Собр. соч. М., 1994. Т. 1. С. 23.
- [7] Там же. С. 32.
- [8] Там же. С. 43.
- [9] Там же. С. 35.
- [10] Там же. С. 41.
- [11] Там же. С. 45.
- [12] Там же. С. 46.
- [13] Там же. С. 30.
- [14] Там же. С. 49.
- [15] Хайдеггер М. Бытие и время. С. 372.
- [16] Там же. С. 374.
- [17] Там же.
- [18] Там же. С. 376.
- [19] Там же. С. 378.
- [20] Там же. С. 379.