Социогенетическая концепция дефицитной патологии развития личности
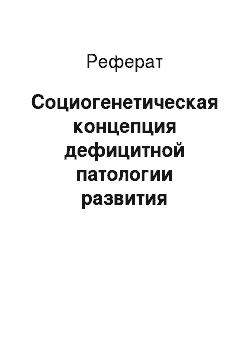
Для описания моделей коммуникативной ситуации развития личности нами используется факторный принцип. Это означает, что в качестве параметров, определяющих своеобразие коммуникативной ситуации развития личности, используется система определенных факторов. Идеи факторного анализа коммуникативных ситуаций можно найти в работах П. М. Ершова, создавшего уникальное учение о режиссуре сценического… Читать ещё >
Социогенетическая концепция дефицитной патологии развития личности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Социогенетическая концепция дефицитной патологии развития личности (ДПР) имеет два основания для ее обоснования.
Первое основание социогенетической концепции ДПР — это психологический механизм удовлетворения социогенных потребностей. Одним из существенных факторов развития личности становятся социогенные потребности. Они являются своего рода источником социогенеза личности и поэтому определяются нами как социогенные энергетические источники развития и социального функционирования личности.
Опираясь на трехфакторную модель детерминации взаимодействия личности, предложенную В. Шутцем, назовем в качестве основных социогенных потребностей, определяющих линию развития личности, признание, контроль и принятие. В трактовке А. А. Рукавишниковой, описавшей теории межличностных отношений В. Шутца, потребность в принятии определяется как потребность в аффекции.
Аффекция, в пояснении автора, понимается как совокупность эмоциональных компонентов, сопровождающих межличностное взаимодействие. Несмотря на то, что, как нам кажется, термин «аффекция» лучше отражает суть этой социогенной потребности, мы все же будем использовать в данной работе термин «потребность в принятии» как наиболее понятный по своей сути и не требующий дополнительных комментариев. Главное — это продемонстрировать социогенные потребности как детерминанты линий развития человека как личности.
Эти потребности проявляются в поведении человека по отношению к другим людям, в его чувствах к этим людям. Являясь, по сути, межличностными потребностями (удовлетворение социогенных потребностей одним человеком создает ситуацию удовлетворения социогенных потребностей другого), эти потребности вводят в действие, если так можно выразиться, психологические механизмы развития человека как психосоциальной системы. Они определяют его социальный статус и социально-ролевой репертуар.
Коренятся же социогенные потребности в образе «Я» самого человека, в его отношении к себе, к жизни, в том, кем он себя ощущает. Хотя эти потребности есть у каждого человека, люди различаются между собой способами удовлетворения своих социогенных потребностей. Специалистов в области педагогической психологии давно уже привлекает возможность использования трехфакторной модели взаимодействий личности в качестве объяснительного принципа своеобразия развития личности конкретного человека.
А. Л. Крупенин и И. М. Крюхина в книге «Эффективный учитель» при раскрытии технологии педагогического действия в воспитании детей полно исследуют роль родительского общения в формировании социогенных потребностей и дают развернутую их характеристику. Интерпретация такой характеристики, представленная ниже нами, дает представление о социогенных потребностях как детерминантах развития личности во взаимодействии с другими. При этом в своем изложении мы будем использовать феноменологические и морфологические характеристики социогенных потребностей, которые дают П. Бергер и Т. Лукман в своей уникальной монографии «Социальное конструирование реальности» и Э. Фромм в монографическом исследовании «Здоровое общество». Наше представление феноменологии и морфологии социогенных потребностей как индукторов развития личности оформлено в виде мини-моноисследований каждой из них. Начнем с описания потребности в признании.
Потребность в признании связана со стремлением человека быть замеченным другими людьми, быть значимым и ценным для них. Потребность в признании проявляется в желании принадлежать к какой-нибудь группе, — будь то, компания, семья, школьный класс или спортивная команда. Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, считались с его присутствием, признавали его «особость», «самость», лишь ему присущие черты.
Континуумы поведения в области удовлетворения потребности в признании включают в себя:
1. комфортабельные психологические связи с людьми в диапазоне от активного постоянного взаимодействия с ними до полного неинициирования такого взаимодействия;
- 2. психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от поддержания взаимодействия других людей с человеком до полного игнорирования попыток такого взаимодействия. На уровне чувств потребность в признании определяется как стремление к установлению и поддержанию общего взаимного интереса между людьми. Эти чувства включают:
- а) способность проявлять интерес к другим людям на удовлетворительном уровне;
- б) способность вызывать интерес у других людей к себе на удовлетворительном уровне.
В отличие от принятия, признание не включает сильных эмоциональных привязанностей, а в отличие от контроля, основной вопрос здесь не в том, кто главный, а в том, чтобы быть замеченным.
Признание означает, что человек существенно отличается от других, и он знает, что кто-то достаточно заинтересован в нем и обращает внимание на его уникальные качества. Включаясь в новую группу, он постепенно предъявляет эти свои качества и наблюдает, вызывают ли они интерес у членов группы.
К признанию относится стремление быть в группе, принадлежать к ней, быть с кем-то. Потребность в признании проявляется в желании внимания к человеку и взаимодействию с ним. Даже отрицательное внимание может удовлетворить эту потребность. Удовлетворение потребности в признании начинается с узнавания. Оно означает, что человека выделили из других людей, распознали. Он уже не просто человеческая особь, а некто, обладающий индивидуальными чертами. Не узнавание означает отсутствие интереса к нему. Максимум идентификации — заинтересованность в ком-то. Понимать кого-то, значит быть настолько в нем заинтересованным, чтобы обращать внимание на его особые личностные характеристики. Вместе с тем, этот интерес вовсе не предполагает наличия к этому человеку определенных чувств, равно как и уважения.
Затруднения или проблемы в удовлетворении потребности в признании могут проявляться в поведении человека, в его мимике, жестах и регуляции дыхания.
Межличностная потребность в контроле проявляется в поведении, связанном с установлением и поддержанием удовлетворительных отношений с людьми в области власти и влияния. Континуумы контроля включают в себя:
- 1. психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от полного контролирования других людей до полного неконтролирования чьего бы то ни было поведения;
- 2. психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от полного подчинения другим людям, разрешения им распоряжаться своей жизнью до полного запрета распоряжаться своей жизнью, полной независимости.
На уровне чувств потребность в контроле определяется как стремление к установлению и поддержанию чувства уважения, компетентности и ответственности в глазах других людей. Указанная потребность связана со:
- 1. способностью проявлять уважение на удовлетворительном уровне по отношению к другим людям;
- 2. способностью проявлять уважение на удовлетворительном уровне по отношению к себе самому.
На уровне самоощущения потребность в контроле воспринимается человеком как потребность ощущения себя компетентной, знающей, умеющей принимать решения, ответственной личностью.
Потребность в контроле проявляется в жажде управления, контроля власти над другими людьми и над их будущим. С другой стороны, она может выступать и в желании быть контролируемым, передать комунибудь ответственность за принятие решений. Жесткая связь между желанием контролировать и желанием подчиняться отсутствует.
Проблемы контроля проявляются в физическом облике человека. То, насколько человек может справляться с управлением своим телом, в определенной мере отражает, насколько он способен управлять событиями внешнего мира.
Межличностная потребность в принятии проявляется в поведении, связанном с установлением и поддержанием удовлетворительных отношений с людьми в области эмоциональной привлекательности и любви. Принятие всегда относится к диадным отношениям, к связи только двух людей. Континуумы принятия включают в себя:
- 1. психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от инициирования близких, личных отношений со всеми людьми до полного неприятия таких отношений с ними;
- 2. психологически комфортабельные связи с людьми в диапазоне от принятия попыток других людей установления близких, личных отношений с собой, до полного непринятия таковых.
На уровне чувств потребность в приятии определяется как потребность установления и поддержания чувства симпатии к окружающим и с окружающими. Это чувство связано со:
- 1. способностью любить других людей на удовлетворительном уровне;
- 2. способностью принимать любовь других людей на удовлетворительном уровне.
На уровне самоощущения потребность в принятии определяется как потребность ощущения себя способным к любви. Потребность в принятии проявляется только в диадных взаимоотношениях, тогда как потребности в признании и контроле могут давать о себе знать как в диадных, так и групповых отношениях.
Принятие подразумевает строгую дифференциацию людей. Перечисленные три базальные межличностные потребности предполагают установление некоего равновесия в трех областях между человеком и другими людьми. Это равновесие, по К. Хорни, выражается в трех базальных социально-психологических установках:
- 1) «к людям»;
- 2) «от людей»;
- 3) «против людей».
При нарушении этого равновесия у человека может возникать тревожность либо глубокие патологические расстройства психики. В зависимости от того, на каком возрастном этапе развития личности нарушено динамическое равновесие развивающейся личности, возникает конкретная форма дефицитной патологии развития личности.
Мы рассматриваем нарушенное динамическое равновесие личности и тех интроектов, с которыми она взаимодействует в качестве дефицита условий развития.
Если такой дефицит возник на ранней стадии развития личности (по периодизации возрастного развитии Д. Эльконина), то сложившийся в этой ситуации дефицит условий приводит к ненормативному развитию, суть которого в утрате общения, прежде всего, эмпатийного как основного условия полноценного персоногенеза личности.
Если дефицит возник в период школьной адаптации, то возникает ситуация неадаптивного развития. Если же дефицит проявляется в момент кризисов развития личности, то такая ситуация развития чаще всего приводит к отклоняющемуся развитию. Если же дефицит условий развития носит характер тотального и проявляется на уровне психологического насилия над развивающейся личностью, то налицо факт патохарактерологического развития личности.
В процессе нашего исследования выявлено, что возникшая вследствие дефицита условий развития ненормативная линия удовлетворения социогенных потребностей, формирующая социально-психологические деформации личности, по сути, предопределяет дальнейшее развитие дефицитной патологии личности в формах неадаптивного и отклоняющегося ее развития.
По тому, насколько успешно в жизни человека удовлетворяются основные социогенные потребности, можно выделить четыре типа развития личности во взаимодействии с другими людьми:
- 1. дефицитный — который характеризуется дефицитом необходимых психологических механизмов для конструктивного социального функционирования личности;
- 2. невротический — когда человек постоянно стремится и непрерывно пытается удовлетворить социогенные потребности через конфликтные формы социального функционирования как следствие интрапсихического конфликтного напряжения;
- 3. адаптирующийся — который характеризует оптимальную линию развития личности, когда успешно и соответствующим образом удовлетворяющий социогенные потребности человек сам конструирует акты своего взаимодействия и интериоризирует их конструктивные результаты для обеспечения динамики своего конструктивного развития и социального функционирования;
- 4. патологический — который определяет тип развития личности, удовлетворяющей социогенные потребности неадекватным образом, дает основание говорить о таком развитии, как патоадаптивное функционирование.
Для первого, второго и четвертого типов удовлетворение межличностных потребностей связано с повышением тревожности, тогда как третий тип способен удовлетворять эти потребности, не тревожась.
Если внимательно рассмотреть психологические характеристики дефицитного и патологического развития личности и сравнить их с представленными мной характеристиками феномена дефицитной патологии развитии личности, то можно уточнить предложенное ранее рабочее определение понятия психологическая теория дефицитной патологии развития личности.
Психологическая теория дефицитной патологии развития личности — это частная психологическая теория психологии развития, в которой дефицит условий удовлетворения социогенных потребностей рассматривается как условие патологии развития личности.
Психологический механизм удовлетворения социогенных потребностей во многом зависит от модели коммуникативной ситуации развития личности. (В последующем модель коммуникативной ситуации развития личности характеризуется мной как интеракционистская форма реализации развивающей установки).
Модель коммуникативной ситуации развития личности — второе основание социогенетической концепции ДПР.
Для описания моделей коммуникативной ситуации развития личности нами используется факторный принцип. Это означает, что в качестве параметров, определяющих своеобразие коммуникативной ситуации развития личности, используется система определенных факторов. Идеи факторного анализа коммуникативных ситуаций можно найти в работах П. М. Ершова, создавшего уникальное учение о режиссуре сценического общения как практической психологии. Исследуя параметры — факторы сценического общения, П. М. Ершов первым практически высказал идею о факторном анализе коммуникативных ситуаций. В публикациях М. В. Молоканова предложено двухмерное пространство коммуникативного взаимодействия. Основываясь на идеях факторного анализа коммуникативных ситуаций П. М. Ершова и используя двухмерный подход к моделированию коммуникативного взаимодействия, который предложил М. В. Молоканов, я разработал многофакторный принцип психоаналитического исследования коммуникативных ситуаций развития личности. Коммуникативная ситуация формируется воспитывающей личностью для реализации своих воспитательных целей.
Следуя мысли В. Н. Судакова, я рассматриваю воспитание как управление развитием личности. Это дает нам основание при обосновании факторов коммуникативной ситуации развития личности исходить из четырех основных гуманитарных теорий: теории личности, теории развития, теории общения, теории социального управления.
Каждый из факторов, которые используются при анализе коммуникативной ситуации развития, рассматривается мной как психоаналитический критерий. Это и обусловливает необходимость их детального представления.
Основным фактором коммуникативной ситуации развития личности является личностно-типологический фактор, характеризующий психологические своеобразие, психологическую типологию развивающей и развивающейся личности. Для исследования личностно-типологического фактора, в практической деятельности психолога-аналитика института психологии личности мной использовалась модифицированная методика определения психотипа личности, разработанная Дж. М. Олдхэм и Луи Б. Моррис. Солидаризируясь с авторами методики в том, что тип личности — это организующий принцип всех ее проявлений, можно утверждать, что он определяет своеобразие ее культурного потенциала.
Культурный потенциал личности проявляется в следующем:
- • познание, то есть путь постижения, интерпретации себя, других людей и событий;
- • эффективность, то есть колебания, импульсивность и свойства эмоционального выражения;
- • интрапсихическое функционирование личности, проявляющееся в способности управлять интрапсихическими конфликтами;
- • контроль над импульсивностью.
Культурный потенциал личности не только накладывает отпечаток на шесть жизненно важных сфер проявления личности: Я-концепцию, взаимоотношения, трудовую деятельность, эмоции, самоконтроль и сознание, но и определяет психологические ресурсы адаптивных возможностей личности.
Адаптация в данном случае может рассматриваться как результат соответствия культурного потенциала личности культурному эталону идентификации, который принят в конкретной интерактивной системе общества. Адаптация человека осуществляется в процессе его социального функционирования, своеобразие которого определяет функциональный потенциал личности. Его я определял при помощи методики Д. Кейрси, созданной на основе индикатора типов Майерс-Бригсс (MBTI).
Таким образом, личностно-типологический фактор коммуникативной ситуации развития личности определяется за счет выявления функционального и культурного потенциалов личности, что дает нам основание дать психологическую типологию развивающей и развивающейся личности.
Вторым фактором коммуникативной ситуации развития личности является фактор интереса воспитывающей личности к развивающейся. Кратко его можно определить как фактор интереса.
Фактор интереса, если следовать трактовке воспитания как управления развитием личности, определяет предмет формирующего воздействия воспитывающей личности. При духовно-личностном основании интереса к развивающейся личности воспитывающее воздействие строится с учетом ее «внутренней картины мира», «Я-концепции», субъективного восприятия себя и своего состояния.
При формально-функциональном основании интереса к развивающейся личности воспитывающее воздействие базируется на общих закономерностях коммуникативного взаимодействия при обязательноформальном соблюдении алгоритма этого взаимодействия.
Психологическим фундаментом фактора интереса является, следуя трактовке А. Адлера, социальный интерес. На страницах своего психологического бестселлера «Наука жить» А. Адлер пишет: «Так как мы считаем, что социальный интерес — это наиболее важный фактор в подходе к воспитанию и лечению, нам бы хотелось уже на первых страницах прояснить значение этого понятия. Только смелые, уверенные в себе люди, чувствующие себя в мире как дома, могут извлекать преимущества как из благ жизни, так и из ее трудностей. Они знают, что трудности существуют, но они также знают, что в состоянии их преодолеть. Они готовы к любым проблемам жизни, которые неизменно оказываются социальными проблемами. Чтобы быть человеком, необходимо быть подготовленным к социальному поведению».
В этой трактовке сущности понятия «социальный интерес» А. Адлер, по сути, раскрывает значимость фактора интереса в коммуникативной ситуации развития личности как критерия готовности личности к развивающему общению с другой личностью.
Фактор интереса в коммуникативной ситуации развития личности я измерял по оценке вектора доброжелательности в опроснике Т. Лири, по показателям теста «Родительских отношений», по уровню шкалы эмпатии.
Следующий фактор коммуникативной компетенции, определяющий уровень социально-психологической готовности развивающейся личности к использованию интерактивных техник психологического управления развитием личности, осветил Ю. Н. Емельянов, посвятивший разработке теории и практики формирования коммуникативной компетентности специальную работу. На страницах этой работы он пишет: «…если компетентность в различных областях деятельности обычно приобретается человеком через усвоение тех или иных текстов, то коммуникативная компетентность (КК) формируется благодаря интериоризации социальных контекстов».
Приобретение КК или, как ее еще называют, интерперсональной компетентности есть движение от интерк интра-, от актуальных межличностных событий к результатам осознания этих событий, которые закрепляются в когнитивных структурах психики в виде умений и навыков и служат индивиду при дальнейших контактах с окружающими.
Способность к участию в коммуникативных ситуациях возрастает по мере освоения индивидом культурных норм межличностного взаимодействия.
В познавательной деятельности человека существует специфическая сфера — понимание самого себя и себе подобных в постоянном видоизменении психических состояний и межличностных отношений. Эта сфера издавна привлекала к себе внимание теологов, философов и моралистов, но лишь в последние десятилетия стала центром интересов научной психологии.
Между тем человек с момента рождения общается с другими людьми. Он должен изучать правила взаимодействия с ними и между ними для того, чтобы стать социально полноправным членом общества. Эти правила не менее сложны, чем закономерности физического мира (установление объект-объектных отношений) и правила предметной, субъект-объектной деятельности. Более того, сама субъект-объектная деятельность, хотя и опосредованно, всегда предназначена для других (или против других), и, в конечном счете, имеет свой субъектно-субъектный аспект. Наконец, крайний случай субъект-субъектного взаимодействия — когда работа по самовоспитанию также адресована другим субъектам: «…то, что я делаю из моей особы, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное существо». Сферу возможностей субъект-субъектного познания индивида можно назвать его социальным интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события.
Формированию социального интеллекта способствует наличие сенситивности — особой, имеющей эмоциональную природу, чувствительности к психическим состояниям других, их стремлениям, ценностям и целям. Сенситивность, в свою очередь, предполагает эмпатию — способность чувствования, эмоционального резонанса на переживания другого. Онтогенетически эмпатия лежит в основе социального интеллекта, но с годами эта способность тускнеет, вытесняясь символическими средствами респонсивности (вербальным выражением чувств и т. п.).
В эмпатической способности лежат истоки морального развития индивида, которое до определенного уровня протекает параллельно с когнитивным развитием, а далее зависит от принимаемых индивидом общественных ценностей и идеалов, определяющих его идейно-нравственную зрелость. Социальный интеллект, имея общую структурную базу и с когнитивным развитием, и с эмоциональными основами нравственности, в то же время представляет собой относительно независимое праксеологическое образование — то, что нестрого можно определить как «дальновидность в межличностных отношениях» (Э. Торндайк) или «практически-психологический ум» (Л. И. Уманский).
Поэтому, изучая социально-психологические предпосылки и разрабатывая практические приемы развития и совершенствования КК, необходимо постоянно помнить, что в ее основе лежит не простое владение языком и другими кодами общения, а особенности личности индивида в целом, в триединстве его чувств, мыслей и действий, разворачивающихся в конкретном социальном контексте.
Основными источниками приобретения человеком КК являются жизненный опыт, искусство, общая эрудиция и специальные — научные методы.
Особое место в структуре жизненного опыта занимает опыт межличностного общения, который, с одной стороны, социален и включает интериоризованные нормы и ценности конкретной общественной среды; с другой — индивидуален, поскольку основывается на индивидуальных особенностях и психологических событиях личной жизни.
Искусство (точнее, эстетическая деятельность) двусторонне обогащает человека: и в роли творца, и в роли воспринимающего произведение искусства читателя, зрителя или слушателя.
Общая эрудиция — это запас достоверных и систематизированных гуманитарных знаний, относящихся к истории и культуре человеческого общения, которыми располагает данный индивид. Наконец, научные методы, предполагая интеграцию всех источников коммуникативной компетентности, открывают возможность описания, концептуализации, объяснения и прогноза межличностного взаимодействия с последующей разработкой практических средств повышения КК на уровне индивида, групп и коллективов, а также всего общества. Человек, вооруженный научной парадигмой, видит в окружающей коммуникативной реальности гораздо больше, чем обычный наблюдатель. Но он должен остерегаться позиции беспристрастного судьи, стоящего над человеческими взаимоотношениями. Напротив, нужно как можно полнее использовать ситуации общения с другими для изучения самого себя.
Понятие КК необходимо дополнить элементами, относящимися к осознанию деятельностной среды (социальной и физической), окружающей человека, и способностью воздействовать на нее для достижения своих целей, а в условиях совместной работы делать свои действия понятными для других (акциональный аспект КК).
Все это предполагает осознание:
- а) собственных потребностей и ценностных ориентаций, техники личной работы;
- б) своих перцептивных умений, т. е. способности воспринимать окружающее без субъективных искажений и «систематизированных слепых пятен» (стойких предубеждений в отношении тех или иных проблем);
- в) готовности воспринимать новое во внешней среде;
- г) своих возможностей в понимании норм и ценностей других социальных групп и культур (реальный интернационализм);
- д) своих чувств и психических состояний в связи с воздействием факторов внешней среды (экологическая психокультура);
- е) способов персонализации окружающей среды (материальное воплощение «чувства хозяина»);
- ж) уровня своей экономической культуры (отношения к среде обитания — жилищу, земле как к источнику продуктов питания, родному краю, архитектуре и т. п.).
Акциональный уровень общения представляет собой коммуникативное инобытие, действий, заданных целенаправленной коллективной деятельностью.
В конечном итоге коммуникативная компетентность рассматривается мной как психологическая категория, регулирующая всю систему отношения развивающей личности к природному и социальному миру развивающейся личности, а также к самой себе.
Коммуникативная компетентность определялась мной в процессе исследования по методикам, предложенным в исследовании коммуникативной компетентности учителя Л. М. Митиной.
Для психоаналитической оценки коммуникативной ситуации развития личности мной был избран еще один фактор — фактор коммуникативной позиции. Его сущность я рассматриваю в контексте психосценической модели общения, разработанной П. М. Ершовым. Согласно его взглядам, позиция личности проявляется в таком технологическом приеме взаимодействия, как «пристройка». Вот как характеризуют понятие «пристройка» А. П. Ершова и В. М. Букатов:
«Особый интерес представляет для наблюдателя то, как изменяется характер «пристроек» одного человека к другому или другим. Конечно, то, как приспосабливается физически, телесно один человек к воздействию на другого, в очень большой степени зависит от того, что это за воздействие (вопрос или ответ, поцелуй или удар, приказ или просьба и т. д., и т. п.). То есть одна общая для всех этих воздействий черта — представление одного человека о своем праве в данный момент именно так воздействовать на другого человека. Если воздействующий ощущает это свое право, то все его пристройки обладают чертами пристройки «сверху», если он ощущает свое бесправие, — пристраивается «снизу», в случае «золотой середины» — пристраивается «наравне».
Предложенный П. М. Ершовым критерий различия «пристроек» человека к человеку — сверху, снизу и наравне — очень прост и понятен в наблюдении, хотя достаточно сложен в обосновании. Почему в данный момент данный человек к данному партнеру «пристроился именно наравне», объяснить бывает трудно. А вот увидеть, узнать эту пристройку достаточно просто: человек не мобилизовался, не потратил ни одного лишнего УСИЛИЯ при обращении, вне зависимости от того, был ли он «открыт» пли «закрыт», он никак дополнительно не переприспосабливался.
«Пристройка» же «сверху» проявляется в распрямлении спины, «увеличении» роста человека, чтобы слова можно было посылать сверху вниз, чтобы послушание, поддакивание, исполнительность того, к кому человек обращается, последовали сами собой. Причем это «увеличение себя» совсем не обязательно связано с агрессией.
«Пристройка» снизу выглядит как тщательное приспосабливание говорящего к тому, от кого он ждет ответа. Человек старается занять как можно меньше места и уложиться в самое короткое время, возможно меньше беспокоить значительного для себя собеседника, чтобы тот без труда смог согласиться, выполнить просьбу, помочь.
П. М. Ершов в монографии «Технология актерского искусства», рассматривая психологическую антропологию сценической жизни человека, подчеркивает, что пристройка является своеобразным психологическим механизмом управления отношениями между людьми в коммуникативном взаимодействии и дает характеристику третьего вида пристройки — «пристройки наравне».
А так как пристраиваться «сверху» и пристраиваться «снизу» можно в разной степени, то легко себе представить некоторую среднюю, промежуточную пристройку — третью группу пристроек — «пристройку наравне».
«Пристраивается» ли данный человек для воздействия на данного партнера, с данной целью и в данных конкретных условиях «сверху», «снизу» или «наравне» — это определяется его представлением в данный момент о соотношении сил его и партнера.
Основательность и справедливость той или иной пристройки зависит не только от правильности представлений о качествах партнера, но и от основательности представлений о его собственных качествах (ума, силы и прочего).
П. М. Ершов указывает на то, что в пристройке реализуется система психологического опыта и уровня культурного развития личности.
В характере «пристройки» находят свое отражение внутренний мир человека и его жизненный прошлый опыт, и то, как он воспринимает и оценивает реальные, окружающие его обстоятельства.
Для более полного факторного анализа коммуникативной ситуации развития личности я использовал фактор психической мобилизации развивающей личности, который позволяет определять уровень психоэнергетических затрат или психоэнергетическую активность развивающей личности.
Психоэнергетическуто активность личности я рассматриваю с позиции интроспективной психологии, где психическая активность рассматривается сквозь призму апперцепции; и с позиции психологии воли, в которой психическая активность понимается как целенаправленная активность, осуществляемая по собственной инициативе и для устранения возникающих экзистенциальных барьеров.
Ориентация на интроспективную психологию дает нам возможность использовать феномен апперцепции как психорегулятивный механизм взаимодействия на основе сценариев личного опыта развития, который в ситуации принятия личностью роли воспитателя актуализируется. Опора на психологию воли в оценке психоэнергетической активности развивающей личности позволяет рассмотреть дефекты развивающих интеракций как компенсацию утраченной свободы воли.
В работе Н. С. Курека «Дефицит психической активности: пассивность личности и болезнь» отмечено: «В современном экзистенциальном неопсихоанализе в качестве симптомов утраты свободы воли рассматриваются конформизм, авторитаризм, садомазохизм (Э. Фромм). По его мнению, человек в ходе онтои филогенеза освобождается от зависимости, природы и других людей. Однако этот позитивный процесс вызывает негативные последствия: ощущения тревоги, беспомощности, одиночества. Это вызывает стремление к избежанию свободы непродуктивными способами: авторитарным садомазохистским слиянием «Я» с кем-нибудь или чем-нибудь внешним; разрушением внешних пугающих объектов; полной изоляцией от мира; психологическим самовозвеличиванием до такой степени, что мир, окружающий человека, становится мал по сравнению с ним; конформным принятием общепринятых шаблонов и уничтожением, таким образом, собственного «я». Этим непродуктивным способам Э. Фромм противопоставляет позитивную свободу, дающую подлинное слияние с другими людьми и природой. Такая позитивная свобода состоит в спонтанной активности целостной личности человека.
Э. Фромм пишет: «Спонтанная активность — это не вынужденная активность, навязанная индивиду его изоляцией и бессилием, это не активность робота, обусловленная некритическим восприятием шаблонов, внушенных извне. Спонтанная активность — это свободная деятельность личности, в ее определение входит буквальное значение латинского слова — сам собой, по собственному побуждению. Спонтанная активность — это, прежде всего, творческая активность, проявляющаяся в эмоциональной, чувственной, интеллектуальной и волевой жизни. Спонтанная активность возможна лишь в том случае, если человек не подавляет существенную часть своей личности, если разные сферы его жизни слились в единое целое».
Свобода воли является признаком и самоактуализирующейся личности. А. Маслоу считает, что самоактуализация — выбор, ведущий к росту, а не к защите, связанный с «Я» обязательно отличается также независимостью от других людей, нонконформизмом.
Существенным фактором, характеризующим своеобразие коммуникативной ситуации развития личности, является ролевой фактор, определяющий интеракции воспитывающей личности. О ролях воспитателей написано достаточно много, я же хочу остановиться на так называемых «патологизирующих ролях» воспитывающей личности.
О. В. Лишин, автор «Педагогической психологии воспитания», отмебб чает: «Одним из характерных нарушений семейных отношений психологи считают «патологизирующие роли», которые возникают в системе семейных отношений, чаше всего под влиянием одного из членов семьи, имеющего нервно-психическое расстройство и компенсирующего его ценой нарушения психического здоровья остальных ее членов. Как правило, потребности, удовлетворяемые «патологизирующей ролью», несовместимы с нравственными представлениями их носителей. Одна из таких ролей носит название расширения сферы родительских чувств. Ее вызывает к жизни нарушение взаимоотношений между супругами (развод, смерть, несоответствие характеров). Нередко при этом — чаще мать, реже отец — подсознательно возлагают на ребенка часть потребностей, которые в нормальной семье удовлетворяются в психологических отношениях супругов. Это может быть потребность во взаимной исключительной привязанности, частично это могут быть эротические потребности. Появляется стремление отдать подростку — чаще противоположного пола — «все чувства», «всю любовь». В детстве поощряется эротическое отношение к родителям — ревность, детская влюбленность. Мать нередко отказывается от вполне реальной возможности вторично выйти замуж. Когда ребенок достигает возраста подростка, у родителя возникает страх перед его самостоятельностью и возрастным «суверенитетом»; родитель пытается удержать ребенка с помощью потворствующей или доминирующей гиперпротекции (гиперопеки). Описанная роль, как правило, в сознание родителя не допускается. Ее можно уловить, в основном, косвенно, по высказываниям матери, что ей никто не нужен, кроме сына, в характерном противопоставлении идеализированных отношений с сыном отношениям с мужем, в ревнивых придирках матери к подругам сына и прочее.
Другая распространенная родительская «патологизирующая роль» носит название «предпочтение в подростке детских качеств», связанное с гиперпротекцией (гиперопека).
У гиперопеки есть и более отдаленные печальные последствия. Впрочем, и не такие уж отдаленные. Например, необдуманно ранние браки, лишь бы поскорее выпорхнуть из душного родительского гнезда. Но это еще не самое худшее. Давно известно, что именно маменькины сынки и дочки при первой возможности пускаются во все тяжкие. Неумение выбрать правильный путь в жизни, хронические личные трагедии, заброшенные дети, психические срывы, неудовлетворенность своей судьбой…
«Проекция на подростка собственных нежелательных качеств» — еще один вариант «патологизирующей роли», порождающий для подростка эмоциональное отвержение его родителями, иногда — жестокое их с ним обращение. Причиной этому служит болезненное угадывание (отцом чаще, матерью реже) в ребенке своих, полуосознанных и непринятых им самим качеств. Это могут быть агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, негативизм, вспыльчивость, несдержанность, неаккуратность и пр. Превращая воспитание в борьбу с такими, иногда истинно существующими, но чаще мнимыми качествами личности подростка, родитель извлекает из ситуации эмоциональную выгоду для себя.
Во-первых, он убеждает окружающих и, прежде всего, — самого себя в том, что сам-то уж он в этих чертах личности не грешен.
Во-вторых, он демонстрирует свою непримиримость к ним, атакуя «неисправимого» подростка в навязанной тому роли «хулигана», «психа», «недотепы», «лентяя». Такие родители много и охотно говорят об этой своей борьбе, о мерах и наказаниях, используемых ими, и о том, что это все безрезультатно из-за «порочной натуры» ребенка.
Проективный фактор в коммуникативной ситуации развития личности позволяет выявить две конкретные проекции: характерологические проекции воспитывающей личности и конфликтные проекции межличностных отношений воспитателей.
Характерологические проекции чаще всего проявляются в коммуникативных ситуациях развития личности только в том случае, если воспитывающая личность имеет акцентуации характера. Личность с акцентуациями характера в роли воспитывающей рассматривается мной как психопатическая. Определение психопатической личности представлено в работах В. В. Бойко.
Психопатический тип личности — это условно выделенная категория людей, которые проявляют схожие дисфункциональные стереотипы эмоционального поведения в своем аномальном характере, обусловленном органическими поражениями нервной системы или психотравмирующими дефектами воспитания.
Психопатия сопровождается специфическими дисфункциональными эмоциональными стереотипами поведения, которые обладают способностью мощного поражающего действия. В одних случаях энергия психопата сравнима с отравляющим веществом, поражающим его жизненное пространство; в других она подобна артиллерийскому снаряду, взрывающемуся в самых разных коммуникативных ситуациях. Но в любом случае от энергетики психопатической личности страдают близкие, коллеги, случайные партнеры — все, кто оказывается в зоне действия психического поражения. Страдает и сама личность, поскольку разрядка всегда оказывает дисфункциональное влияние на весь организм, травмирует нервную систему.
Психопаты обычно обладают исключительной способностью неосознанно нагнетать в себе, а потом посылать вовне психическую энергию.
Каждый психопатический тип личности имеет свои энергетические особенности. Одни типы основаны на мощной энергии эмоций, другие — на слабой; энергетика одних типов направлена преимущественно вовне, других — вовнутрь самой личности; одни вовлекают широкий спектр эмоций, другие — конкретную эмоциональную программу.
В ситуации интерактивного взаимодействия проецируются элементы, которые чаще всего характеризуют лишь некоторую степень психопатизации. Психопатизация — это состояние личности, определяющееся отдельными дисгармоничными проявлениями ее характера.
Степень психопатизации зависит от сочетаемости и выраженности ряда нарушений в поведении личности: изъяны обнаруживаются в моральной сфере. Отмечается пренебрежение принципами долга, понятиями чести и порядочности. При этом диапазон моральных отклонений может быть очень широким — от безразличия к судьбе ближних до нескрываемого цинизма и афишируемой безнравственности; дефектная сфера общения. Личность безразлична к мнениям окружающих, лицемерна, подозрительна, мстительна, характеризуется отсутствием душевного равновесия, постоянными и резкими переменами настроения. Верный признак психопатизации — вспыльчивость, невыдержанность, агрессивность, озлобленность. При этом эмоции отчетливо связаны с собственным «Я» — они возникают при малейшей попытке ограничить или игнорировать интересы и потребности личности.
Проекция конфликтных отношений в коммуникативную ситуацию развития личности характеризует воспитывающую личность как конфликтную. Вот как определяет конфликтность личности А. И. Захаров:
«Конфликтность личности» — постоянное чувство внутренней неудовлетворенности, обидчивость, недоверчивость, упрямство и негативизм. По данным характерологического опросника Лири, оба супруга внутренне конфликтны, с низкой степенью самопринятия. Негативно окрашенной «Я-концепции» противостоит «идеальная концепция Я», в которую они хотели бы, но не могут верить. В контрольных семьях муж и жена внутренне неконфликтны, без ощущения ущербности, степень самопринятия высокая, «идеальная концепция» совпадает с «Я-концепцией». Кроме того, в невротических семьях супруги менее зависимы от группы, чем в контрольных семьях, что указывает на нарушения общения, известную социально-психологическую изоляцию и развитие эгоцентрических тенденций. Затруднения в сфере общения не могут быть компенсированы в семье ввиду конфликтного характера семейных отношений, что еще больше усиливает самоизоляцию и связанное с ней чувство беспокойства.
Помимо особенностей личности, общих для обоих родителей, имеются черты, характерные для каждого родителя в отдельности.
Матери эмоционально-нестабильные (лабильные) и внутренне напряженные («взвинченные»). Среди них встречаются как матери с твердыми и доминантными чертами характера, так и матери с мягкими чертами характера, тревожные и неуверенные в себе. Наличие выраженной эмоциональной неустойчивости, нетерпеливости, повышенных претензий и эгоцентризма позволяет говорить о стигматизации их характера по истерическому типу, которая численно не преобладает в исследуемой выборке, но встречается значительно чаще, чем в контрольных семьях.
Отцы психомоторно-нестабильные, с мягкими чертами характера или контрастно-твердые по характеру, «сверхстабильные», обстоятельные, склонные к детализации и долго хранящие память на пережитое в прошлом.
По сравнению с отцами матери более эмоционально-лабильные, искренние, быстро реагирующие. В то же время у матерей чаще имеет место высокое внутреннее напряжение, неудовлетворенность, чувство вины, астения и невротические расстройства личности, обусловленные конфликтными отношениями в семье.
Помимо генетических механизмов, происхождение некоторых из вышерассмотренных черт характера родителей связано с неблагоприятными условиями их формирования в детском и подростковом возрасте. В большинстве прародительских семей отношения между родителями были конфликтными, особенно со стороны женщин. Наблюдалось значительное число неполных семей (у мужчин каждая вторая) вследствие развода или смерти отца. В отношениях родителей с детьми отсутствовал теплый эмоциональный контакт и между ними не было достаточного взаимопонимания. Бабушка ребенка обладала авторитарными чертами личности, отцы родителей, как у матерей, так и отцов ребенка, были повышенно возбудимыми и чаще, чем в контрольных семьях, злоупотребляли алкоголем.
Учет специфики в семьях прародителей помогает понять возникновение у них в дальнейшем ряда установок, облегчающих появление под влиянием сложных жизненных условий напряженных отношений в собственной семье. Это, прежде всего, стремление, компенсировать в браке травмирующий опыт предшествующих семейных отношений в детстве, которое проявляется в идеализации супруга в начале совместной жизни и повышенными в отношении его ожиданиями.
Фактор рефлексивности отражает уровень самоуправления интерактивного взаимодействия воспитывающей личности с развивающейся. Основой самоуправления является процесс осознания себя субъектом жизнедеятельности. Центральное звено этого процесса — рефлексия как познание и анализ человеком явлений собственного сознания (взгляд на собственную мысль «со стороны»), К сожалению, такая ценная форма самосознания, как рефлексия, все еще не стала элементом содержания образования ни в средней, ни в высшей школе, хотя имеется большое количество экспериментальных данных, прямо свидетельствующих о самой тесной связи рефлексии с творческими способностями, развитием способности к самоуправлению.
Известны различные типы и уровни рефлексии: мировоззренческая, методологическая, нормативная, аксиологическая, психологическая; которые реализуются в таких операциях, как проверка, обоснование, выбор, предпочтение, оценка и т. д. В частности, контрольная функция рефлексии направлена на выявление несоответствия новых результатов или новой ситуации действующему стилю взаимодействия воспитывающей личности с развивающейся личностью. Основными показателями, своеобразными индикаторами исследования фактора рефлексивности в коммуникативной ситуации развития личности являются:
- • критичность мышления;
- • стремление воспитывающей личности к доказательности, к обоснованию своей позиции;
- • способности и стремление воспитывающей личности ставить вопросы;
- • стремление и способность воспитывающей личности инициировать и вести дискуссию. Поскольку рефлексия — это дискуссия с самим собой, когда сам ставишь вопрос и сам на него отвечаешь, развитию рефлексии способствуют диалогические формы развития личности;
- • готовность к адекватной самооценке;
- • фактор стратегии развивающего воздействия.
В своей монографии «Введение в теорию и практику психологических технологий общения учителя как менеджера», которая была написана в соавторстве, я описал типологию психологического воздействия в коммуникативно-развивающей ситуации, опираясь при этом на исследования А. Г. Ковалева.
Психологическое воздействие — это системный, многоуровневый процесс, который обеспечивает детерминацию и регуляцию различных функциональных систем и состояний в единой психологической организации человека.
А. Г. Ковалев выделяет несколько взаимно опосредованных и взаимно обусловливающих друг друга классов психологического воздействия:
- 1) экономические воздействия, связанные с влиянием факторов окружающей среды на психику личности;
- 2) социальные воздействия, обусловленные принадлежностью человека к общественной системе и включенностью его в контакты и взаимосвязи с другими людьми;
- 3) культурологические воздействия, определяемые наличием исторически выработанных средств материального и духовного производства;
- 4) аутовоздействия, связанные с возможностями психической саморегуляции личности как относительно автономной системы и выступающие в двух планах: как средство мобилизации и развития собственных физических, психических и творческих возможностей личности и как индивидуальная система внутренней регуляции, определяющая внешние воздействия.
Выявленные классы психологического воздействия образуют два взаимосвязанных контура психологического регулирования — «внешний» контур психического воздействия, формирующийся из воздействия первых трех классов и определяемый нами как контур гетеровоздействия — «внутренний», который проявляется в форме самовоздействия и характеризуется как контур аутовоздействия.
Психологическое воздействие имеет свою типологию воздействия. Оно определяется в контексте существующих парадигм психологии. Эти парадигмы определяются следующим образом:
- 1) «объективная», или «реактивная» парадигма, в соответствии с которой психика рассматривается как пассивный объект воздействия;
- 2) «субъектная», или «акциональная» парадигма, основанная на активности отражения гетеровоздействия, где личность скорее сама оказывает преобразующее воздействие на поступающую к ней извне психологическую информацию;
- 3) «субъектно-субъектная», или «диалогическая» парадигма, где психика выступает в качестве открытой и находящейся в постоянном взаимодействии системы, которая обладает контурами гетерои ауторегуляции. Психика в таком случае рассматривается как многомерная система, а коммуникативно-развивающая ситуация — как психическая полисистема.
В контексте рассмотренных парадигм выделяются три стратегии психологического воздействия:
- 1) императивная — ориентированная на кратковременный эффект психологического воздействия и не затрагивающая глубинные структуры психической организации психики личности. Императивная стратегия наиболее уместна и эффективна в экстремальных ситуациях, где для сохранения системы психики требуется оперативное принятие и исполнение важных для сохранения системы психики решений в условиях временного дефицита. Психологические возможности приемов императивного воздействия исчерпываются подкреплением и усилением элементов структуры, уже имеющихся у личности, то есть определенной и специфической, субъективной организации индивидуальной системы психических установок и моделей поведения;
- 2) манипулятивная, способная существенно изменить психологическое поле личности с помощью приемов подсознательного стимулирования, действующих в обход психического контроля личности, а также при посредстве так называемых маскировочных и конверсионных техник, блокирующих системы защиты или их разрушения, выстраивая взамен новые психологические установки и модели поведения;
- 3) развивающая, в отличие от других двух стратегий психологического воздействия, актуализацию потенциалов собственного саморазвития каждой из взаимодействующих психологических систем в группе социально-психологического тренинга. Психологическим условием реализации такой стратегии является диалог, основным принципом организации которого служит открытость взаимодействующих психологических систем относительно друг друга.
Психологическое воздействие, осуществляемое в коммуникативноразвивающей ситуации, с позиции развивающей стратегии обеспечивает реализацию базового устремления человека — стать «полностью функционирующей личностью». Это понятие, введенное К. Роджерсом, во многом совпадает с термином А. Маслоу «самоактуализирующаяся личность», поскольку подразумевает задачу актуализации «Я».
«Полностью функционирующая личность будет личностью в процессе», — подчеркивает К. Роджерс, — «личностью, непрерывно меняющейся. Ее специфическое поведение невозможно описать заранее. Поведение личности всегда будет адекватно, адаптивно в каждой новой ситуации, и она будет непрерывно находиться в процессе дальнейшей самоактуализации».
А. Маслоу определил основные черты самоактуализирующейся личности. Среди них наиболее значимы:
- 1) более адекватное, по сравнению с обычными людьми, восприятие реальности и соответствующее этому восприятию отношение к реальности. Эти люди избегают иллюзий и предпочитают иметь дело с действительностью, пусть даже неприятной;
- 2) высокая степень принятия себя, других, в том числе различных сложностей человеческой натуры;
- 3) спонтанность;
- 4) фокусированность на проблемах вне себя;
- 5) высокая степень автономии, т. е. способность оставаться верным своей цели и перед большими социальными проблемами, с которыми личность сталкивается в процессе своего социального функционирования.
Рассмотренные факторы коммуникативной ситуации развития личности в процессе исследования, осуществленного в Институте психологии личности, фиксировались при помощи ряда методик. И, прежде всего, социометрическим тестом Дж. Морено и оригинальным опросником Э.-Г. Эйдемиллера «Анализ семейных взаимоотношений».
В ходе исследования нами установлено, что введенная категория «коммуникативная ситуация развития личности» с позиции полифакторного анализа дает возможность определить нормативность и ненормативность социоонтогенеза личности в развивающих интеракциях со значимыми для нее людьми.
Индикатором нормативности развития личности (подчеркнем, личности, а не психики) является сформированность у неё социального интереса.
Понятие, введенное А. Адлером и рассматриваемое в ряде его работ как социальное чувство, характеризует способность человека к адаптации. Именно адаптивные показатели социального функционирования личности и демонстрируют уровень формирования у нее социального интереса. Тестов на измерение адаптивности личности много. Среди множества методов наиболее оперативным является опросник социально-психологической адаптированности (шкала СПА, разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом). Используя этот опросник, я определил нормативный и ненормативные типы развития личности.
Взяв за основу индикатор нормативного развития личности, предложенный А. Адлером, я определил, что нормативный тип развития личности — креативный тип, формируется при наличии ярко выраженного социального интереса или интерактивной ориентации личности. При отсутствии интерактивной ориентации формируется ненормативный тип личности — аддиктив. Аддиктив как тип ненормативного развития личности формируется в условиях, когда по отношению к динамике ее развивающегося характера коммуникативная ситуация развития выступает в роли ингибитора спонтанной активности. Если же коммуникативная ситуация развития является для личности фасилитивной, то в результате нормативного развития формируется креативный тип личности.
Для решения задач формирования креативной личности необходим качественно новый тип развивающей личности. Это фасилитатор.
В коммуникативной ситуации развития личности фасилитатору отводится роль воспитывающей. От наличия или отсутствия у нее качеств фасилитатора зависит уровень развития социального интереса. Социальный интерес является целью воспитания психологической технологии управления развитием личности. Социальный интерес является основным продуктивным результатом интерактивного социогенеза личности, а коммуникативная ситуация — формой его достижения.
Дефицит социального интереса, который характеризуется мной как интерактивная ориентация личности, является социогенетическим фактором, определяющим ненормативность развития личности как одной из форм дефицитной патологии развития личности.
Несформированность социального интереса и социогенетическая потребность в персонализации (по А. В. Петровскому) создают интрапсихический конфликт, который не может быть разрешен продуктивно ввиду дефицита психокультурной зрелости. А это значит, что личность не овладела психотехникой регуляции интрапсихическими механизмами.
Объективно формируется предпосылка для социально-психологической деформации личности и, как ее следствие, переход личности на неадаптивный уровень развития.
Социогенетическая концепция формирования ДПР, по своей сути, раскрывает психологический механизм патологии персоногенеза.
Персоногенез выступает как системно-интегрированный процесс становления индивида личностью посредством реализации социогенных потребностей. Персоногенез в качестве феномена психологии развития выдвигается впервые. Его выдвижение в психологию развития позволяет интегрировать социогенез и психогенез личности в единый системный процесс развития личности — персоногенез.
Выдвижение персоногенеза как феномена развития и обусловило необходимость расширить рамки аналитического исследования и концептуального обоснования детерминант ДПР. Этим обусловлено обращение к психогенетической трактовке концепции развития ДПР.