Средовая адаптация несовершеннолетних и возрастная психология
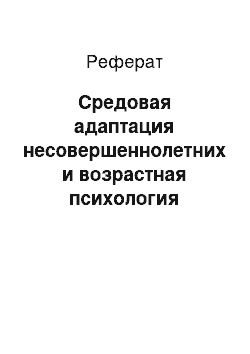
Возрастной кризис бывает вызван появлением новых потребностей, ориентирующих личность на достижение иных целей, ранее не актуальных, не замечаемых, а потому для него несущественных. Например, маленькие дети не стремятся к посещению организованного детского коллектива и ничуть не тяготятся постоянным общением с членами семьи. Нередко они капризничают и сопротивляются, когда их отводят в детский… Читать ещё >
Средовая адаптация несовершеннолетних и возрастная психология (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Следуя привычке «мерить все на свой аршин», мы нередко упускаем из виду, что порою самые безобидные, на наш взгляд, обстоятельства могут заставить страдать наделенного иной восприимчивостью человека, интересы, желания и стремления которого не совпадают с нашими. Попытки побудить его к деятельности, столь целесообразной, полезной и естественной с наших позиций, могут вызвать у него недоверие и даже враждебность, ибо нет ничего тягостнее, чем чувствовать себя жертвой неразумного и бестактного стремления помочь во что бы то ни стало. Внутренняя оппозиция добру, наделенному элементом принуждения, нередко служит причиной нарушения средовой адаптации человека в, казалось бы, обыденных житейских ситуациях.
Все сказанное целиком относится к умению соотносить наши действия с особенностями мироощущения несовершеннолетнего. Нужно знать типично возрастные и индивидуальные для каждого подростка источники чувств и побуждений, знать, что в этот период жизни составляет предмет желаний и что вынуждает тревожиться и опасаться. Необходимо соотносить воспитательные меры с его способностью понимать их смысл, возлагать на подростка лишь те обязанности, которые он в состоянии успешно выполнить. Другими словами, нужно постоянно следить за тем, чтобы средства воспитания соответствовали природе человека, его возрасту. В противном случае воспитание превратится в простое подчинение педагогическим сентенциям, а это, как указывал К. Д. Ушинский, «может убить в ребенке, особенно если у него натура живая, всякую возможность развития нравственного чувства, и такую ошибку может сделать воспитатель, незнакомый с физическими и психическими свойствами человеческой природы. Именно в таких случаях блестящее воспитание может сопровождаться самыми печальными результатами» [1, с. 360].
По развитию познавательных возможностей, содержанию ведущих потребностей, основным видам деятельности и способам установления отношений с окружающими возрастная психология выделяет несколько периодов в жизни человека: младенческий — до 1 года; ранний детский — до 3-х лет; преддошкольный и дошкольный — до 7; младший школьный — до 11; отрочества (иногда его называют подростковым) — до 15; подростковый (ранняя юность) — до 18 лет. Каждый из этих периодов заканчивается так называемым возрастным кризисом.
Возрастной кризис бывает вызван появлением новых потребностей, ориентирующих личность на достижение иных целей, ранее не актуальных, не замечаемых, а потому для него несущественных. Например, маленькие дети не стремятся к посещению организованного детского коллектива и ничуть не тяготятся постоянным общением с членами семьи. Нередко они капризничают и сопротивляются, когда их отводят в детский сад. Взрослые отлично знают, что если в данном случае идти на поводу у ребенка, он будет лишен необходимых для его психического развития навыков общения со сверстниками, дисциплины и привычки самостоятельно трудиться. Но приходит время, и потребность в общении делает новый шаг, вчерашние маленькие индивидуалисты с легким сердцем и большим желанием отдают школе время и привязанности. Или другой пример: до известного возраста дети признают за взрослыми безусловное право втягивать их в круг своих переживаний и применять методы воспитания, которые те считают наилучшими. Но приходит подростковый период, когда потребность самоутверждения начинает доминировать в мироощущении несовершеннолетнего, и не в меру экспансивные родители начинают понимать, что невинный шлепок, которым они привыкли подкреплять свои наставления, становится более чем неуместным, так как теперь оказывается задетым не только тело, но и личность.
Появление новых потребностей нарушает сложившееся равновесие в воспитательной ситуации. С одной стороны, сам ребенок не может продолжать прежние отношения, поскольку новые цели, способ достижения которых еще не известен, вызывают неизбежную растерянность перед открывающейся перспективой. С другой же стороны, у взрослых нарушается стереотип привычных оценок поступков своего ребенка. Расстройство средовой адаптации влечет за собой возникновение фрустрационного напряжения, пока все не «перестроится на новый лад». Недаром сами названия таких переходных моментов в развитии несовершеннолетних отразили проблемы воспитания этого периода (например, «период раннего детского упрямства», «подростковый кризис» и т. п.).
Ситуация особенно обостряется, когда естественно возникающую конфликтную ситуацию осложняет социально-педагогическая запущенность. Недостаточное внимание к духовному миру ребенка или подростка, пренебрежение к его внутренним конфликтам вынуждают его самостоятельно искать выход из создавшегося положения и могут послужить причиной выбора неадекватных и неконструктивных реакций. Чем раньше ребенок начинает самостоятельно проходить кризисные периоды своего развития, тем менее дифференцированы, мало осознаны и эмотивны бывают его защитные реакции. Вплетаясь в динамику дальнейшего развития личности, они могут существенно изменить отношение несовершеннолетнего к окружающим и самому себе, лишить его познавательную деятельность важных мотивов и проявиться в более позднем возрасте, казалось бы, внешне необоснованными поведенческими актами.
Предотвратить расстройства средовой адаптации как можно раньше — самый надежный путь профилактики трудновоспитуемое™, ибо на каждом последующем этапе восстановления гармоничных отношений между личностью и средой необходимо преодолеть те компенсаторные тенденции, которые уменьшили восприимчивость личности к воспитательному влиянию.
Первым этапом возрастного развития, на котором причины средовой дезадаптации и способы компенсаторного реагирования остаются более или менее однотипными, следует считать возраст до 3-х лет, т. е. до появления сознания как способности соотносить психические переживания со своим «я». Наиболее значимая потребность этого периода — так называемое эмпатийное общение со взрослыми. Ребенок находится под сильным влиянием инстинкта самосохранения, властно требующего присутствия взрослого человека, гарантирующего безопасность существования. «Мать была рядом, значит весь мир был ему другом». — точно подметил С. Томпсон состояние психики беззащитного детеныша, общее для всех младенцев [2, с. 82]. Дети, лишенные психологической защиты заботливых родителей, часто оставляемые в уединении, отличаются стремлением оградить себя от лишних впечатлений. На всякое изменение внешней обстановки они готовы ответить тревожной реакцией, быстро сменяющейся либо плачем, либо нарушением физических функций организма.
«Недостаточность эмпатийного общения в младенческой возрасте влечет в будущем недоразвитие таких качеств личности, как способность к соперничеству, сочувствие и сострадание к горю другого человека. Жестокость, равнодушие к чужой боли, холодность и пренебрежение интересами других нередко должны быть отнесены к свойствам, у истоков которых можно проследить равнодушие родителей к душевному состоянию своих малолетних детей» [3, с. 23].
Возраст 3 года — один из важнейших «критических» этапов развития ребенка. Самостоятельная предметная деятельность и усложняющаяся система речи и социальных контактов приводит в этот период к формированию таких психологических явлений, как творческая активность, мышление и самосознание, стремление утвердить свое «я», что фактически знаменует рождение личности [4, с. 57].
В дошкольном возрасте основной способ познания мира и проявления собственной психической активности — игра. В процессе игры формируется готовность к обучению, ибо усложнение игровых ситуаций обусловливает необходимость понимать роли участников, стремление к достижению общей цели, возникновение уважения к его правилам. Формирование способности к логической форме отражения действительности и нравственных установок (умение считаться с интересами других) входит в задачи дошкольного воспитания. Выбор между «хочу» и «надо» начинает служить источником противоречий в отношениях со взрослыми.
Дети, которые в дошкольном возрасте лишены необходимого общения со взрослыми, с которыми мало играют, начинают своеобразно отставать от сверстников в психосоциальном развитии [5]. Вынужденные самостоятельно строить свои отношения с окружающими, они оказываются в положении людей, действующих в незнакомой обстановке на «свой страх и риск». Порою мы, наблюдая за ежедневными многочасовыми играми детей, часто оставляемых без надзора взрослых, склонны думать, что они именно играют. Но стоит соотнести их занятия со способностью ребенка к условному восприятию игры, как сразу станет ясно, что в этом возрасте разделить понятия «игра» и «жизнь» еще невозможно. Предоставленные самим себе, дети живут, всерьез переживая радости и огорчения, условность которых очевидна только нам, взрослым. К тому же часто сопутствующее безнадзорности равнодушие родителей к физическому состоянию и здоровью детей вынуждает последних заботиться о себе, т. е. тратить душевные силы на удовлетворение элементарных жизненных потребностей.
Естественно, что в таких условиях вместо широкого (пусть даже поверхностного) знакомства с внешним миром ребенок остается в рамках стереотипных ситуаций и однообразного общения.
Вступая в школьный возраст, запущенные дети могут производить впечатление умственно отсталых: им недостает умения разделять условно-игровое (связанное с абстрактно-логическим) и житейское; их бывает трудно заинтересовать учебной ситуацией, лишенной сколько-нибудь заметной практической пользы, и лишь в том случае, когда процесс познания касается доступных им интересов, безразличие, раздражение, ответы наугад сменяются живой заинтересованностью. «До того апатичные, они становятся веселыми и сообразительными, активными и настойчивыми, заинтересованными как в выигрыше, так и в самом процессе решения задач» [6, с. 187].
Проблемы средовой адаптации в младших классах, как правило, связаны с отставанием в учебе. Причины его могут быть разные: и семейная запущенность в дошкольный период, и замедленный темп психосоциального развития с удержанием игровых интересов у инфантильного ребенка, и просто плохая сообразительность. Вследствие всего этого ребенок зачастую претерпевает со стороны взрослых психологическое давление, проистекающее из чувства разочарования, которое они не хотят или не могут скрыть. Не умея уловить способ, с помощью которого ребенок лучше всего усваивает учебный материал, многие родители с упорством, достойным лучшего применения, требуют от него, чтобы он непременно «делал как все». Будучи не в состоянии удовлетворить ожидания микросреды, ребенок вполне естественно проникается враждебностью к тому, что послужило причиной охлаждения отношений со старшими, т. е. к учебе. В то же время, дети очень долго не считают виновником своего положения самого учителя, и он продолжает сохранять для них притягательную силу лидера, примера, судьи, с мнением которого школьник не только считается, но и легко принимает его как собственное. Самые запущенные подростки, с которыми мне приходилось работать, в свои 13—14 лет на вопрос: «Когда тебя официально поощрили за что-нибудь в школе?» — почти всегда рассказывали о событиях, относящихся ко второму или третьему классу. С учетом того, что жизнь опрашиваемых детей последние годы была наполнена сильными впечатлениями совсем другого рода, такие ответы говорят сами за себя.
Для плохо успевающих младших школьников особенно характерно прибегать к помощи компенсаторного поведения, связанного со стремлением достичь успеха «в обход основного содержания предъявляемых требований». Нередко педагогов радует готовность не очень сообразительных или плохо воспитанных детей помогать в общественной (особенно в хозяйственной) работе. Их услужливость, подвижность, готовность «на лету» схватить суть порученного расценивается как признак доброй и отзывчивой натуры. Не заметив, что такая активность только маскирует проблемы самоутверждения личности (которые сам ребенок, как правило, и не осознает), некомпетентный педагог вскоре обнаруживает, что «характер ребенка начинает портиться». Это происходит, когда наступает второй вариант компенсаторного поведения: ребенок становится дерзок, груб, шаловлив, а порою жесток и мстителен.
Тем, кто работал с трудновоспитуемыми детьми младшего школьного возраста, хорошо известно, как болезненно дети реагируют, когда их всерьез принимают за хулиганов, как они податливы на добро и ласку, как быстро их озлобление сменяется стойкой привязанностью к взрослым, проявившим к ним сочувствие и желание прийти на помощь. Именно поэтому, оставшись без психологической поддержки семьи и школы, они ищут себе покровителей в неформальной среде. Чтобы снискать себе одобрение старших, они одинаково готовы как на хорошие, так и на неблаговидные поступки, однако охотнее делают то, что обычно похвально.
Наглядно проблемы средовой адаптации в воспитательной среде детей младшего школьного возраста можно представить в виде трех кругов, наслаивающихся друг на друга (схема 1).
В центре (вертикальная штриховка) окажутся дети, полностью адаптированные в школьном коллективе: они хорошо учатся, пользуются расположением учителей и приязнью товарищей. Такие дети уверены в себе, охотно посещают школу, с удовольствием участвуют в коллективных мероприятиях, однако постоянный расчет на одобрение и похвалу может отрицательно сказаться на широте натуры. Недостаток отрицательных стимулов и вызванного ими психического напряжения способствует стабилизации личностного развития.
Близко к ним располагаются учащиеся, проблемы адаптации которых выражены в какой-либо из сторон школьного общения (секторы с одинарной штриховкой). Как правило, им не нужно употреблять значительных усилий для того, чтобы компенсировать свою неудачливость, так как возможность найти адекватный выход из положения все-таки достаточно высока. Какой-то конфликт возможен лишь при усложнении воспитательной ситуации внешним фактором.

По периферии условно располагаются дети, адаптация которых осуществляется преимущественно за счет одной из сфер отношений, в которых они имеют известные преимущества, в то время как в остальных сферах либо терпят поражение, либо испытывают существенные затруднения. Для удержания своих позиций в коллективе они вынуждены максимально мобилизовать свои способности в адаптивной сфере отношений: блестящая учеба, позволяющая свысока относиться к неприязни со стороны товарищей и не особенно огорчаться недостаточным вниманием педагога; приязнь друзей, достигаемая с помощью бравады или сильного покровительства, благодаря которой наказание теряет свою подавляющую силу; самоотверженность в общественной работе во имя официального признания заслуг со стороны учителей.
Особенно нежелательно с педагогической точки зрения положение, когда ребенок приходит в школу без необходимых предпосылок к средовой адаптации хотя бы в одной из сфер отношений. Так бывает, когда дети воспитываются в очень неблагополучной семье или когда семья не замечает (или не находит нужным компенсировать) их нервно-психологические отклонения. Дети, предпочитающие узкий круг внешних впечатлений, настороженно воспринимающие любую инициативу, идущую извне, не умеющие пользоваться логической формой мышления, сильно затрудняются в определении мотивов поступков своих сверстников, чем вызывают к себе настороженное отношение со стороны учащихся, недоверие педагогов. В учебе они обычно отстают. Их педагогическая реабилитация требует активного поиска личной одаренности или преимущественного развития каких-либо способностей, позволяющих «начать движение с периферии адаптивного поля к его центру». Сосредоточение компенсаторных усилий на одной из сфер отношений в школьном коллективе позволит ребенку выбрать преимущественную форму поведения, с помощью которой ему будет проще осваивать и другие формы. Формальное предъявление к нему трехсторонних требований одновременно, как правило, влечет за собой быстрый переход к самому неблагоприятному варианту средовой дезадаптации — потере интереса к мотивам коллективного поведения.
Отроческий (ранний подростковый) возраст охватывает период развития от 11 до 13 лет, когда дети учатся в 5—7 классах школы. Усложнение личностных особенностей ребенка сильно разнообразит проявления средовой дезадаптации и выбор форм компенсаторного поведения.
В основе мотивообразования лежит потребность быть достойным и одобряемым членом коллектива, но понятие коллектива обычно выходит за пределы микросреды, что в известной мере снижает значимость ожиданий педагогов и их оценки для мотивов переживаний и поступков отроков, однако игнорирование личных достоинств, пренебрежение и порицание со стороны взрослых воспринимаются ими еще болезненно. Самое тяжелое испытание для самолюбия 11—13-летнего ребенка — попасть в положение аутсайдера. Любой из них, не колеблясь, предпочтет статус «лентяя» и «хулигана» статусу «неспособного», «тупого», «нуждающегося в помощи».
Существенно усложняет проблемы адаптации в этом возрасте обостренная чувствительность к оценке своей семьи со стороны общественного мнения. Стоя на пороге юности, когда им предстоит делать первые шаги в обществе «от своего имени», младшие подростки как бы выдвигаются на передний план во взаимоотношениях «семья — социальная среда». В данный период им необходима уверенность в надежности своего семейного положения, возможность гордиться своими родителями. Дети недостойных, порицаемых родителей склонны переносить их репутацию на себя. «Если бы меня спросили, что самое трудное в нашей работе, — писал В. А. Сухомлинский, — я бы ответил, это говорить с ребенком об отце и матери… Бывают обстоятельства, когда перед ребенком будто острое лезвие ножа; он в ужасе, все в нем замирает — такое чувство он испытывает в минуты обнажения семейных отношений, когда ребенку хотелось бы их скрыть» [7]. Критика в адрес родителей служит частой причиной драк между сверстниками или потери психологического контакта со взрослыми.
Если младший подросток спокойно выслушивает или высказывает критику в адрес родителей, можно не сомневаться, что отклонения его личностного развития вследствие нарушения средовой адаптации зашли далеко.
«Поражение в глазах общественного мнения» вызывает сильные и стойкие реакции средовой дезадаптации. Именно для данного возраста характерен широкий спектр протестных реакций: «балаганное» поведение на уроках, драчливость, грубость по отношению к старшим, уклонение от посещения школы и побеги из дома. Правильно развивающиеся дети, напротив, предпочитают больше времени проводить с родителями, охотно составляют им компанию, стремятся к подражанию и в своих капризах не заходят слишком далеко. В уличных же компаниях, выпадающих из-под педагогического контроля, объединяются отроки, как правило, сходные по условиям воспитания.
В тех случаях, когда меры средовой поддержки и педагогической реабилитации задерживаются или подменяются простым давлением для сохранения лишь внешне приемлемой формы поведения, внутреннее сродство со школьным коллективом подвергается серьезному испытанию. Оставшись один на один со своими проблемами средовой адаптации, дети испытывают сильное психическое перенапряжение и обычно активно противятся попыткам неумелого приобщения их к общественной жизни. Риск превратиться из «аутсайдера» в «отщепенца» значительно возрастает. Именно сейчас равнодушие к формированию потребностей и интересов ребенка может в сравнительно короткий срок заложить основы воинствующего индивидуализма с отказом от институциональной принадлежности и переходом на микросредовую систему ценностных ориентаций.
В отроческом возрасте становится заметна разница в проявлении отклоняющегося поведения между мальчиками и девочками. Девочки могут порою «лихачить», как мальчики, но все-таки преимущественно стараются совершать достойные и одобряемые взрослыми поступки. Они симпатизируют смелости сверстников, но сами предпочитают демонстрировать послушание, аккуратность и приверженность существующей системе управления. В отроческом возрасте девочек охотно выдвигают на руководящие посты школьного самоуправления, так как педагоги могут вполне положиться на их исполнительность. Тогда как «трудные» мальчики бравируют своим непослушанием, «трудные» девочки могут совсем не отличаться от своих подружек [8].
Различный стиль самоутверждения в отроческом возрасте нередко служит причиной столкновений и конфликтов между мальчиками и девочками. Чувства, возникающие при этом, — дух соперничества, любопытство к образу жизни друг друга. Если отроки и имитируют сексуальное поведение старших, то их «флирт», «любовные записки», любопытство к половым органам — не более, чем дурные наклонности.
За отрочеством наступает самая сложная пора в формировании человека как социального существа — ранняя юность (по другим классификациям этот период называется собственно подростковым). Мы будем называть несовершеннолетних 14—17 лет подростками. Этот период получил наибольшее число броских эпитетов, определяющих ведущие проблемы: «кризисный возраст», «критический период», «второе рождение», «возраст ошибок», «потемки юности» и т. д. Суть их сводится к тому, что взрослым становится трудно общаться с несовершеннолетними, а несовершеннолетним — со взрослыми. Мы признаем за молодыми людьми право вести себя необычно и бываем снисходительны к поступкам, которые ни за что не простили бы ни ребенку, ни взрослому человеку. Наступает время, когда прерогативы детства кончились, а прерогативы взрослого еще не доступны [9—11].
За четыре года, отведенных современной, цивилизацией на подростковый период, подражательное поведение отрока должно смениться внутренними убеждениями, опирающимися на представление о самом себе как личности. Человеку предстоит составить мнение о себе. Потребность в самоутверждении становится наиболее актуальной, именно с ней соотносятся мотивы поведения, именно она обусловливает стремление включиться в конкретно-историческую жизнь общества, которая позволила бы разрешить внутренние конфликты и противоречия, порожденные столкновением личности со средой в процессе становления первой. Поддержка требований, исходящих от среды, должна быть санкционирована собственным выбором. Это и предопределяет основную задачу воспитания.
Современная культура предоставляет подростку значительное время и возможности для того, чтобы активно искать свое место в жизни. Образно говоря, право на длительную юность — завоевание прогресса. Для примитивных форм государственности характерно, что «дети по достижении возраста полового созревания быстро переходят в статус взрослого человека. Их движение вперед быстро замедляется и усвоение традиционных штампов поведения происходит в течение короткого времени. Сроки юности у них оказываются сокращенными, так как потребности и способы их удовлетворения копируются по примеру ближайшего окружения взрослых» [12, с. 102]. У обычно развивающегося подростка период «психологического кризиса» продолжается около двух-трех лет. Ему свойственны многообразные проявления средовой дезадаптации, осложняющие общение со взрослыми, вызывающие чувство внутренней неудовлетворенности и сопровождающиеся многочисленными формами отклоняющегося поведения. Ни в каком другом возрасте человеку не дозволено вести себя так, как ведут себя подростки.
Снисходительность общественного мнения понятна, ибо всем известно, что юности свойственно ошибаться. Более того, когда подросток проявляет рассудительность, умеет обуздать свои стремления, излишне подчиняем и исполнителен, мы не без оснований предполагаем, что такое бесконфликтное приобщение к миру взрослых связано с примитивностью и ранней стабилизацией личности.
Нестабильность мотивообразующих систем, неустойчивость социальных идентификаций подростков, зависимость их представлений о самом себе от стечения внешних обстоятельств вызывают у взрослых вполне оправданное недоверие к серьезности и глубине испытываемых подростками чувств при внешней их яркости, экспрессивности. Народная мудрость гласит, что нет ничего менее надежного, чем клятвы юноши в верности на всю жизнь. «Ветреная молодость» неспособна долго следовать своим планам. Это недоверие, основанное на житейском опыте многих поколений, правильно отражает психологическую закономерность внутреннего мира подростка — зависимость его побуждений от средовых внеличностных влияний.
Период жизни, когда стремления определяются взаимодействием смутных (малодифференцированных) внутренних влечений и давления побуждающих сил, заложенных в свободном межличностном общении, получил название периода подростковых личностных реакций. Их появление хронологически связано с важнейшим периодом биологического развития организма — началом активного функционирования желез внутренней секреции, обеспечивающего выполнение детородной задачи. Именно сейчас, когда бурное развитие вторичных половых признаков приносит во внутренний мир новые переживания, происходит становление индивидуальности [13, 14].
Побуждения и стремления, обусловленные изменением обмена веществ, наполняют внутренний мир подростка поэтичными переживаниями: идеализированные образы, не окрашенные грубыми тонами плотского вожделения, придают романтическую окраску всему окружающему миру, а предмет любви имеет скорее аллегорическое значение, он свободен от соображений пользы или целесообразности. Недаром подросткам (и юношам, и девушкам) свойственно выбирать объект любви на большой социальной дистанции, гарантирующей от необходимости предпринимать конкретные действия и брать на себя реальные обязательства. Соединение идеального и сексуального в одном лице (если это случается) влечет сильное разочарование и нередко служит причиной невротической настороженности к данной стороне жизни на многие годы.
Начало подросткового периода знаменуется появлением потребности свободного волеизъявления, обусловливающим изменение стиля поведения, которое получило название «реакция эмансипации». Известно, что дети в принципе послушны. Они не стараются выйти из нашей воли и противоречат взрослым разве что по мелочам. Пребывание во власти взрослого человека не вызывает у них чувства протеста. Недаром, несмотря на все дебаты о недопустимости физического наказания, вряд ли найдется родитель, который в запальчивости или за неимением времени для убеждения не позволил себе шлепнуть своего расшалившегося ребенка, сопровождая наказание короткой, но убедительной сентенцией.
При этом родитель обычно уверен, что ребенок не обидится, поскольку наказан «за дело». И тот действительно не обижается, так как не пытается отделить свою волю от воли взрослого. Дети не хотят самостоятельности и не испытывают потребности в ней, но претендуют на родительскую любовь, время, приязнь, средства, не находя в этом чувстве «взаимной принадлежности» ничего противоестественного. Дети доверчивы и не скрывают своего внутреннего мира от взрослых, которых любят и которые умеют найти к ним подход.
Между тем наступает время, когда разгневанный родитель начинает чувствовать, что замахнуться, демонстрируя свою силу, и опустить руку на ребенка, демонстрируя свою досаду, — вещи разные. Наказание стало восприниматься как унижение, покушение на личность. Право совершать поступки по собственному усмотрению вышло за пределы каприза и заявляется всерьез. И мы, хотя и понимаем реальные возможности подростка, начинаем уважать само стремление его к самостоятельности и направляем свои усилия не на то, чтобы принудить его к тому или иному поступку, а на создание обстоятельств, располагающих к желаемой форме поведения. Убеждение, ирония, личный пример становятся ведущими инструментами влияния на мотивы поведения подростка.
Чем более развито общество, чем больше возможностей предоставляет оно молодежи, тем заметнее влияние психологического фактора реакции эмансипации на стиль отношений между сообществом взрослых и подрастающим поколением. Подростки претендуют на свою «субкультуру», отвечающую их представлению об эстетических ценностях: ритмичная музыка, динамичное развитие сюжета, яркие краски, нередко примитивизирующие художественный образ. В известной степени эти претензии распространяются и на этическую норму отношений. В свою очередь усвоение молодежного стиля как образа жизни способствует более раннему проявлению индивидуальной реакции эмансипации и видоизменяет традиционные ее формы.
Проблемы общения, вызванные реакцией эмансипации, находят отражение в эмоциональном и смысловом психологических барьерах.
Эмоциональный барьер внешне проявляется как эгоизм. Еще вчера добрые и отзывчивые, дети равнодушно относятся к попыткам старших вызвать к себе сочувствие или интерес к своим заботам. Происходящее в мире взрослых перестает интересовать подростков. «Я не хочу сказать, что существует заговор против стариков, — говорил один из участников дискуссии о причинах современных молодежных движений, — просто они любят другое и хотят, чтобы мы любили то, что им нравится». Такой раскол в сфере чувств понятен, ибо именно с подросткового периода человек вместо прежней ориентации на предшествующее поколение, в поддержке которого он нуждался, начинает ориентироваться на грядущее поколение, которое сам готовится произвести. Воплощаясь в разнообразных отклонениях от желаемого и ожидаемого поведения, он служит причиной взаимных претензий, огорчений и недоразумений.
В свете новых чувств доводы рассудка приобретают своеобразную окраску. «Попытки воздействовать на подростка в этот период представляются чрезвычайно затруднительными. То, что без затруднений доходило до сознания ребенка, как бы повисает в воздухе. Оно не воспринимается, так как не становится в сознании предметом обсуждения» [15, с. 73]. Ярче всего смысловой барьер дает о себе знать, когда бывает задето его самолюбие. В таких случаях после нескольких фраз он попросту перестает следить за ходом рассуждений своего оппонента. Однако и в обычном, доброжелательном общении любая попытка взрослого навязывать свое мнение, как правило, наталкивается на известное противодействие. Постоянная готовность отстаивать «независимое суждение» обусловливает специфическую черту подростков — активное стремление вступить в спор, используя для этого любую возможность.
Внешне такой спорщик производит впечатление уверенного, он сам провоцирует возникновение спора, но стоит внимательно выслушать его или просто присмотреться к мотивам его оппозиционности, как обнаружится тревожная настороженность, боязнь попасть в ситуацию, которая может поколебать создавшееся представление о себе. И как только неприкосновенность своего «я» оказывается под угрозой, психологические барьеры дают себя почувствовать. Их использование в сомнительных обстоятельствах напоминает истерическую манеру поведения со свойственным ей вытеснением из сознания переживаний, нежелательных для самомнения. Некоторая истероидность подростков обычно не ставится им в укор. Взрослые отлично понимают, что переход от детства к независимой позиции самостоятельного человека не может обойтись без эмоциональных перегрузок.
Изменение отношений со взрослыми сопровождается перестройкой общения в среде сверстников, что получило название «реакции группирования».
До начала подросткового периода выбор друзей во многом зависел от рекомендации старших, если не высказанных прямо («С этим мальчиком не играй!»), то достаточно ясно выраженных всей манерой отношения к друзьям ребенка. Обычно объединение детей для игры во внеучебное время существенно зависит от территории обитания. Причем более или менее стабильные группы с ежедневным общением, распределением ролей и устойчивой системой связей ниже рубежа 10—11 лет наблюдаются только у тех детей, которые воспитываются в обстановке пониженного семейного внимания.
С началом подросткового периода интимно-личностный характер дружбы позволяет преодолевать значительные дистанции во имя совпадения душевных склонностей и интересов. При этом речь идет не столько о сходстве взглядов на жизнь (свойственном дружеской привязанности взрослых), сколько о совпадении самой потребности в дружбе. Улавливая такую потребность, подростки быстро устанавливают коммуникации. Подростковая дружба напоминает первую любовь, для которой основное значение имеет не сам предмет выбора, а «смутное томление чего-то жаждущей души», готовое излиться на того, кто примет это без возражений.
Подростки в дружбе крайне требовательны, но при этом сами очень непостоянны в силу того, что новое увлечение бывает ничуть не менее искренним, чем предыдущее, а поэтому их «верность до гроба» редко обманывает достаточно опытного или просто проницательного человека, отлично понимающего, что юношеские порывы чувств редко имеют конкретный адрес и за очередным разочарованием обязательно последует новое увлечение. Однако, сколько бы ни были непостоянны дружеские связи подростков, в одном смысле они проявляют себя одинаково: все их привязанности направлены прочь от семьи. Общение реализуется либо вне дома, либо вне присутствия родителей, что доставляет последним немало огорчений, ибо, как известно, ни один из социальных навыков не дается с таким обилием ошибок, как овладение сложным искусством выбирать друзей.
Потребность в среде себе подобных становится особенно заметной, когда подросток по каким-либо причинам оказывается в изоляции. Тревожное беспокойство, неуверенность в себе, депривация настроения быстро убеждают в том, что «разбазаривание досуга на пустое общение», которое взрослые неосторожно пресекли ценой разрыва его коммуникации со средой неформального взаимодействия, нанесло чувственному миру несовершеннолетнего заметный ущерб.
Получив возможность общаться вне контроля взрослых, подростки спонтанно объединяются в группы, в которых характер межличностных связей, стиль общения, ролевые функции и проявления средовой зависимости создают специфическую микросоциальную среду, получившую название подростковой группы. Чувство принадлежности к ней, поддержанное аффилиативными[1] стремлениями и сопровождающееся конформным[2] давлением, становятся одним из сильнейших мотивообразующих факторов поведения несовершеннолетнего.
Прежде всего бросается в глаза своеобразие группировки девушек и юношей. Подростковая группа однопола. Юноши устанавливают свой круг общения, девушки — свой. Для того чтобы быть принятым в группу другого пола, нужно принять ее стиль: девушке держаться по-мальчишески или юноше подделываться под девичьи манеры. Исключение составляют криминогенные деформации группового общения, когда сексуально распущенные девушки вносят в юношескую группу женский элемент отношений, но они почти всегда остаются психологически чужеродным элементом, и их присутствие не означает полного присоединения.
По сравнению с дружескими связями девушек, редко охватывающими больше 2—4 подружек, объединившихся вокруг активной, сильной по характеру или обладающей другими престижными достоинствами личности, микросредовые отношения в группе юношей значительно сложнее. На их примере мы и проанализируем основные закономерности группового общения подростков.
Наиболее заметной чертой подростковой группы является ее ориентация на лидера. С появлением такового диффузный характер неустойчивых коммуникаций приобретает направленность, во многом зависящую от его личных волевых установок. Лидер — это сверстник (группа возникает из подростков примерно одного возраста и сопротивляется включению как более старших, опыт которых игнорируется, так и более младших, чьи интересы отвергаются). Его отличает способность (порою им самим не распознаваемая и во всяком случае не поддающаяся тренировке и социальному совершенствованию) влиять на окружающих. В общении с ним другие подростки без внутреннего сопротивления (даже с известным облегчением) принимают его стремления как свои. В нем наиболее ярко выражены черты, отвечающие ожиданиям членов группы. В ранней юности это смелость, решительность, способность противостоять мнению старших, помогающие остальным преодолеть естественную робость первых шагов на пути самоутверждения личности.
Стиль отношений в ранней подростковой группе отличается большей интенсивностью конформного давления. Установки лидера, поддерживаемые аффилиативным стремлением остальных примкнуть к ним, обусловливают манеру поведения каждого члена группы. Вот почему те, кто ощущает противоречие между «общим делом» и своими этическими, эстетическими и нравственными установками, редко бывают в состоянии преодолеть гнет конформного давления. При этом группа очень редко прибегает к прямому принуждению. Слабость личностных позиций, недостаток опыта и боязнь «диффузности идентичности» позволяет подростку принять мнение большинства как свое без разочарования в себе за соглашательство, которое обычно испытывает взрослый человек, вынужденный идти на поводу у большинства.
По этой причине нередко возникают педагогические эксцессы: воспитанные и вполне благополучные в отдельности подростки в группе вдруг совершают поступки, окрашенные жестокостью, цинизмом или хулиганством. Попытки выяснить их отношение к своему собственному дурному побуждению нередко наталкиваются на психологические барьеры, после чего следует скороспелый вывод об «отсутствии раскаяния» [16]. Так бывает, когда педагоги забывают о простой истине, что мотивация группового поведения не всегда доступна пониманию даже взрослого человека, поддающегося силам средового влияния помимо своей воли. Тем более трудно требовать такого отчета у несовершеннолетних, которым порой действительно непонятно впоследствии, «как это все произошло», особенно если деяние было скоротечным и совершалось в запальчивости.
Интересы группы подростков в основном ограничены самим общением, но по мере взросления их отношения начинают подчиняться более сложным мотивам. Группа распадается на мелкие, но прочные дружеские объединения по признаку духовного сродства. Монотонная оппозиционность прежнего лидера уже не устраивает большинство, и выбор падает на более умного, достаточно дипломатичного и способного объединить разнородные интересы человека. Для юношей старшего возраста становится привлекательной принадлежность к «престижной» группе, имеющей авторитет не только у сверстников, но и у взрослых. В значительной мере это усложнение требований обусловлено возрастающим вниманием девушек к тем, кто отличается умением «поставить себя» достойным образом. Начинается процесс «выделения звезд», популярность которых заманчива для окружающих. В дальнейшем появление взаимных симпатий между юношами и девушками ведет к активному распаду микросоциальных групповых отношений.
Потребность в популярности непосредственно вытекает из неопределенности социальных идентификаций и, если этими мотивами пренебречь, они обнаруживают себя, как писал А. Краковский, серией безрассудно дерзких выходок, единственное назначение которых — привлечь к себе внимание и сделаться «знаменитым» [17, с. 96].
Подростку, не имеющему статуса лидера или «звезды», престижная роль дается нелегко. Ему необходимо привлечь к себе внимание личной одаренностью, эрудицией, причудливым хобби, беззаветной отчаянной храбростью или чем-нибудь иным, а это в любом случае потребует значительного напряжения всех внутренних сил. Чтобы поддержать свое престижное положение, ему придется постоянно работать над собой. В дальнейшем это перерастает в волевые свойства личности, в способность преследовать все более отдаленные цели. Естественно, что в погоне за престижностью в разряд важнейших могут попасть мизерные цели, но и их влияние на душевное состояние подростка не следует недооценивать. «Представляете, моя мама не понимает, что есть вещи, без которых не обойтись не потому, что без них нельзя обойтись, а потому, что без них мальчики не обращают на тебя внимания», — говорит одна из героинь книги Г. Б. Башкировой, и автор ее понимает. Понимает, что модные босоножки не просто поднимает девушку на два лишних сантиметра над землей, они сообщают ей ощущение безопасности, в них она такая же, как все [18, с. 54].
Потребность в самовыражении в сочетании со слабой идентификацией личности обусловливает повышенную подражательность в поведении подростков, стремление к имитации манер и поступков типично молодежных «героев». Желание выделить себя как представителя самостоятельной группы населения (отказывающейся от прерогатив, предоставляемых детям, и эмансипировавшейся от условностей образа жизни взрослых) обусловливает широкое распространение подростковой моды. Быстро схватывая внешний рисунок поведения кинои телегероев, подростки усваивают определенную манеру держаться, одеваться, выражать свои мысли, а вместе с тем и элементы мировоззрения; интуитивно выбирают типичные черты, аналогичные их стилю восприятия жизни. Не в силах еще постигнуть истинную глубину чувств, скрытых за внешне спокойным поведением волевого человека с сильным характером, они ценят прежде всего решительность, смелость, активность, способность вступить в борьбу «за справедливость», как она понимается в этом возрасте. Подростковый герой примитивен, но искренен, потому что сам подросток еще не научился играть одновременно несколько социальных ролей. Ему пока недоступно сочетание таких противоречивых побуждений, как жестокость во имя справедливости, добро в ущерб самолюбию, слабость во имя сохранения личности другого человека. Должно пройти время, пока развитие нравственных начал личности откроет перед человеком ориентиры, достойные самопожертвования. А пока приходится примириться с тем, что сентиментальность принимается за доброту, грубость — за принципиальность, а безнадежный эгоизм — за романтичность натуры.
Скороспелое суждение некоторых взрослых об «измельчании идеалов молодежи» означает не более чем их недостаточную психологическую грамотность.
Наконец, рассмотрим личностную реакцию, доставляющую взрослым больше всего огорчений, получившую название «реакции оппозиции». Все мы знаем, что подростки склонны занимать по отношению к взрослым оппозиционное положение, но при этом зачастую не даем себе труда понять, против чего именно направлено сопротивление. Стоит присмотреться внимательно, и мы без труда заметим, что они охотно следуют за темп старшими, которые искренне заинтересованы их судьбой, открывают им ранее не известное содержание предметов и явлений, объясняют смысл межличностных отношений, знакомят с нормативами «взрослого» поведения. Но при этом очень чутко реагируют на способы, которым это знание передается. Безусловному отрицанию подвергается то, что утверждает, закрепляет или символизирует зависимое положение подростка. Оппозиционный настрой ориентирован на авторитарно-директивный стиль отношений с требованием безусловного и безоговорочного подчинения.
Следует признать, что такая реакция в своей основе рациональна и глубоко целесообразна с точки зрения развития личности, ибо для того чтобы занять достойное место среди взрослых, человек должен накопить собственный опыт верных и ошибочных суждений, правильных и неправильных действий, неудач и достижений, т. е. поучиться у самой жизни.
Отказ выполнять распоряжение старших в своей основе означает гораздо больше, чем просто упрямство и непослушание. Реакция оппозиции отражает фундаментальную потребность составить собственное мнение о границах дозволенного и недозволенного. «Массивность критического огня», под который попадают без разбора и положительные, и отрицательные моменты образа жизни взрослых, заставляет предположить, что дело не в объекте критики, а в потребности критиковать.
В сочетании с тенденцией к эмансипации реакция оппозиции обусловливает столь знакомый стиль поведения подростка, когда он начинает «пробовать на прочность» нормы и правила, ограничивающие свободу его волеизъявления. Именно сейчас, когда создаются «внутренние контуры личности, подросток получает уверенность в себе, наталкиваясь на сопротивление со стороны окружающий среды» [19]. Если же такого сопротивления не ощущается, он чувствует внутренний дискомфорт.
Испытание «свободной воли», которому подвергаются подростки, если их самостоятельности излишне доверяют легкомысленные родители, создает довольно значительную психологическую перегрузку. В обстановке повышенной дозволенности такие подростки чувствуют себя неуверенно, поскольку теряется адрес оппозиционного реагирования, расплываются контуры нормативных требований.
Для того чтобы составить верное представление о причинах отклоняющегося поведения подростков, необходимо установить, какую роль в их поступках играют психологические закономерности возраста и насколько они связаны с проблемами средовой адаптации на предшествующих этапах личностного развития. Ориентиром может служить характер отношений к главным ценностям, лежащим в основе мотивообразования.
Прежде всего, следует оценить сохранность привязанностей к семье. Нередко внешнее послушание и соблюдение ритуала почитания старших еще не говорит об истинной привязанности к родителям и может быть не лишено лицемерного подавления оппозиционных наклонностей. О духовной общности с родителями гораздо достовернее можно судить по косвенным признакам. Например, подросток критикует образ жизни родителей сам, но не допускает подобной критики со стороны, он снисходительно оценивает их успехи в жизни, но не сомневается в самой важности их труда (знает, где родители работают, как к ним относятся на работе). Он в курсе проблем семьи. Образно говоря, мерилом истинного отношения подростка к родителям бывает его уровень осведомленности о них, ибо для того чтобы знать, нужно интересоваться, быть заинтересованным, а значит, отвлечься от самого себя.
Другим важным показателем гармоничности развития является стремление продемонстрировать свое преимущество перед другими в трудовой, созидательной деятельности. Сам же призыв к труду, особенно если он звучит формально и неинтересно, может быть не услышан, как и похвала старших. Гораздо важнее пронаблюдать, как подросток использует имеющиеся у него трудовые навыки, особенно вновь обретенные. И когда он может рассчитывать на успех, такая ориентация личности служит надежной гарантией гармоничности дальнейшего развития.
Большое значение имеет и оптимизм в оценке жизненной перспективы в целом. В этом возрасте он находит отражение в намерении продолжить образование. Чем выше уровень образования, который подросток для себя планирует, чем длительнее срок, который он намерен употребить для достижения успеха и самореализации личности, тем выше подросток оценивает свои шансы в жизни.
И, наконец, наиболее объективным показателем успешности средовой адаптации являются реальные успехи в учебе, труде и общественной деятельности.
В тех случаях, когда субъективные и объективные показатели средовой адаптации позволяют предположить гармоничное развитие личности несовершеннолетнего, причины его отклоняющего поведения следует искать преимущественно в стечении внешних обстоятельств, с которыми он не смог справиться самостоятельно. Такого рода случайную делинквентность можно представить в форме нескольких стереотипов социально неадекватного поведения.
- 1. «Супермен». Не умея учитывать позиции окружающих, подросток проявляет агрессивность в силу того, что со своим эгоцентрическим мироощущением на короткое время увлекается ролью «сильной личности». Самолюбование вытесняет свойственные ему как личности доброту, сочувствие к слабому и способность к сопереживанию. Перевес мотивации в сторону демонстрации силы, как правило, длится недолго и заканчивается раскаянием, натолкнувшись на огорчение взрослых.
- 2. «Имитация ложного героя». Стремясь завоевать престижное положение в глазах сверстников и самоутвердиться в собственных глазах, подросток переносит внешнее поведение героя (например, экрана) в реальную жизнь, упуская из виду условность художественного произведения. Естественно, это нередко выливается в явно неадекватные, а порою и делинквентные поступки.
- 3. «Благородный разбойник». Из побуждений товарищеской солидарности, верности своей группе, защиты своего покровителя и лидера, подросток может на некоторый срок переходить на сторону микросреды, не замечая корыстных и низменных побуждений, которыми руководствуются его преступные товарищи или взрослые, сознательно использующие психологические особенности подростков для вовлечения их в противоправную деятельность.
- 4. «Отчаявшийся мститель». Попадая в обстановку унижения, угроз или преследования со стороны делинквентно ведущих себя подростков или взрослых, несовершеннолетний может затрудняться в выборе способа зашиты. Избегая помощи взрослых, обратиться к которым он считает ниже своего достоинства, он иногда выбирает меры, явно превышающие дозволенное.
- 5. «Конформист». Делинквентный поступок совершается под давлением группы вопреки собственному желанию из боязни противостоять активным и агрессивным сверстникам.
Случайность появления мотива отклоняющегося поступка, чуждость его основным установкам личности нередко препятствует осознанию своей вины. Подросток не признает за собой умысла, так как собственное побуждение вспоминает как возникшее помимо его воли, а себя считает жертвой обстоятельств. Поэтому у него преобладают чувство обиды и недоумения, а возмездие воспринимается как неизбежное (по разуму), но в какой-то мере не гуманное (по сердцу).
Подростки, воспитанные в обстановке семейно-педагогической запущенности, набравшие в детстве излишек жизненного опыта при общем отставании психосоциального развития, составляют среди несовершеннолетних с отклоняющимся поведением своеобразную группу. Суть проблем их средовой адаптации можно кратко сформулировать как отсутствие достаточной контральтернативы для преодоления подростковой оппозиционности. Изменение взаимоотношений в среде сверстников, связанное с отходом от семьи, группированием в неформальном общении, противопоставлением себя миру взрослых, не является для них чем-то качественно новым, а закрепляет уже сложившиеся привычки. Более того, теперь досрочно полученный опыт пребывания среди подростков дает им известные преимущества, так как «уличные» навыки приобретают большую ценность. Умение не растеряться в конфликтной ситуации, выносить физические страдания, решительность, делинквентность поведения делают их объектами подражания, так как остальным именно этого и недостает. Возможность на некоторое время достичь популярности привычным поведением, которое раньше не ценилось, закрепляет неверные ориентации несовершеннолетнего. Увлеченные своим «успехом», они теряют из виду ожидания макросреды и полностью переключаются на интересы подростковой группы. У таких подростков бывает обострено чувство клановой принадлежности к группе, в которой они видят гарантию своего самоутверждения.
Позднее, когда сверстники начнут взрослеть и будут строить свои отношения с окружающим миром на основе более сложных принципов, такие лидеры перестают нравиться друзьям. Стремясь удержать распадающуюся группу, запущенные подростки нередко идут на резкое усиление делинквентного поведения, стараясь прежним способом удержать свое влияние. Их правонарушения становятся демонстративнее, а конфликты свидетельствуют о желании доказать верность прежним принципам, «изменники» же подвергаются их преследованию.
Не в силах помешать естественному изменению отношений в среде своих сверстников, подростки, «стабилизирующиеся в своем развитии на уровне подростковых личностных реакций», нередко начинают объединяться в группы, специфические по составу и направленности интересов. Ведущими мотивами их поведения остается оппозиционность к предписываемым нормам поведения, а повзрослевший состав (16— 17 лет) группы и оттенок неудовлетворенности своим положением среди людей придают этой оппозиционности отчетливо криминогенный характер. Педагогически запущенные подростки сознательно увеличивают дистанцию между общепринятыми и групповыми нормами поведения. Нравы их общения все более отличаются низкой культурой использования досуга, употребление спиртного становится систематическим, а внутригрупповые отношения приобретают оттенок жестокости. Такая группа начинает включать в свой состав девушек, отличающихся распущенностью, что еще более усиливает настороженное отношение к ней со стороны окружающих. Под влиянием чувства досады на свое положение в обществе подростки продолжают вести себя не по возрасту демонстративно, а в ряде случаев — начинают активно искать повод для правонарушения.
И, наконец, одним из вариантов средовой дезадаптации в подростковом возрасте может быть продолжающееся девиантмое формирование характера, когда на предшествующих стадиях развития личности избирается пассивно-оборонительный вариант психологической защиты. Навыки общения ко времени достижения возраста подростковых личностных реакций страдают недостатком самостоятельности, а привычка к бездумному подчинению обусловливает повышенную зависимость от среды обитания. Появление новых потребностей, изменения в среде сверстников вызывает чувство растерянности. Тяга к общению вне семьи в сочетании с неумением отстаивать свои позиции служит причиной возникновения разнообразных проблем, решение которых оказывается не всегда им по силам. Иногда это ведет к разрыву связей со средой и появлению аномальных форм психологической защиты, но значительно чаще — к принятию личностью зависимого положения в подростковой группе. Соблюдение правил и ритуалов группы становится способом самоутверждения. Сила аффилиативных тенденций бывает столь значительной, что помогает без ущерба для самолюбия переносить насмешливое, небрежное, а иногда и издевательское отношение к себе лидеров. «Слепая приверженность» микросредовым нормам, упрямое подражание отрицательным образцам поведения производят на родителей и педагогов тягостное впечатление. Иллюзия послушного ребенка, внезапно рассеявшаяся «под дурным влиянием улицы», вызывает у них чувство недоумения и досады, тем более, что привычное наказание столь недавно гарантировавшее полное послушание, наталкивается на упорное сопротивление. Делинквентное поведение таких подростков бывает тесно связано с обстановкой в группе их неформального общения и сильно подвержено влиянию преобладающих в ней эмоций.
Приступая к перевоспитанию подростка или задаваясь целью оказать ему поддержку, необходимо иметь в виду наступающую перестройку мотивообразования. В отличие от взрослого, всегда имеющего о своем неблаговидном поступке (будь он совершен по умыслу или запальчивости) определенное суждение, подросток не всегда может подвергнуть мотив своего поступка ретроспективному анализу.
Последовательность реализации волевого действия от появления желания через стадию борьбы мотивов, формирование стремления и до его осуществления редко сохраняется в памяти как процесс сменяющих друг друга событий. Эмотивность, импульсивность поступка, недостаточно осознаваемая зависимость от обстоятельств, обусловливающая внезапную подражательность поведения, ставят несовершеннолетнего в тупик при необходимости логического обоснования ведущей линии своего поведения (особенно если речь идет о делинквентных или противоправных поступках). Поэтому, когда мы вынуждаем подростка следовать нашей логике рассуждений, он нередко выдумывает мотивы своего поведения. Здесь срабатывает любопытный побочный эффект воспитательной работы: чем больше проводится с трудновоспитуемым подростком прямолинейных воспитательных бесед по типу «лобовой педагогической атаки», тем более закрепляется его негативная самооценка.
В период, когда внутренние движения души недоступны рациональному рефлексированию, а средовая ориентация разрывается между групповыми и общепринятыми нормами, расчет на собственные силы несовершеннолетнего в преодолении проблем социальной адаптации нужно соотносить с реальными возможностями его личности.