Ансамблевая и художественно-образная система в народном искусстве Казахстана
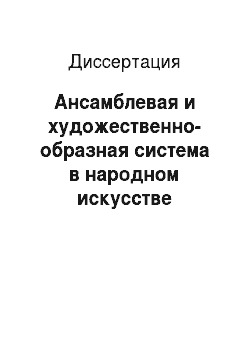
Исследованная система ансамблевого единства на материале костюмного комплекса позволила установить три важнейшие операционные художественные категории: функциональную, эстетическую, образно-символическую. Для ансамбля казахского костюма характерна ярусность членения формы, та же что и в жилище казахов, с подчеркнутостью космической символики верха. В народном костюме переплелись образные… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. ОБРАЗ МИРА В КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ
- 1. 1. Окружающий мир как элемент образной структуры в понятиях и определениях языка
- 1. 2. Космогоническая символика в конструкции казахской юрты
- 1. 3. Генезис орнаментальной традиции в казахском искусстве
- ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЙ ИДЕАЛ В
- ИКОНОГРАФИИ КОЧЕВНИЧЕСКОГО МИРА
- 2. 1. Художественно-образное содержание символа в предании и обряде
- 2. 2. Идейная и утилитарная природа символа как неотъемлемая часть художественной культуры номада
- 2. 3. Семантическая система казахского орнамента
- ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СТРУКТУРЕ КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА
- 3. 1. Вещность и образность в традиционной художественной культуре казахов
- 3. 2. Семиотические определения функции изделия в художественно-образном решении
- 3. 3. Ансамбль в прикладном искусстве казахов
Ансамблевая и художественно-образная система в народном искусстве Казахстана (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования. В силу причин исторического характера, связанных, прежде всего с ослаблением значения традиционного хозяйства и уклада народов, занимавшихся животноводством, закономерности искусства и художественно-образного содержания произведений становятся все менее понятными и «нечитаемыми». В широком смысле проблема обусловлена потребностью культурной идентификации, когда картина развития декоративно-изобразительного искусства иллюстрирует и древние универсальные способы отображения «картины мира» и своеобразие ее этнической формы, которая складывалась в процессе многочисленных контактов. Также особенности типологического характера отражаются на всех уровнях художественной структуры произведения. В искусствоведческом смысле своеобразие и красота казахского народного искусства не может быть понята без понимания его значения как научного, образовательного и воспитательного феномена. И это связано с необходимостью понять, особенности типологических и пластических закономерностей народного искусства казахов.
С научной точки зрения внимание общества к возрождению, сохранению и развитию богатейшей традиции культуры номадов составляет одно из звеньев общего отношения к народному искусству. Проблемой здесь является разрыв в методах исследования: этнографический подход к материалу не обеспечивает понимание художественных свойствособенности «чувственной интуиции», и ее связь с «интуицией интеллектуальной» (оба понятия принадлежат Н.О.Лосскому), важных для уяснения законов ансамблевого и художественно-образного единства искусства, красоты его форм, композиционного состава, а также целостности и завершенности отдельных фрагментов, экстраполяции планов содержания на планы изображения.
Искусство номадов — сложное многообразное явление художественного творчества, в котором традиции искусства того или иного этноса постоянно обогащались в результате тесного культурно-исторического взаимодействия. Данное исследование посвящено ансамблевому прочтению прикладного искусства казахов, сохраняющего в пространстве традиционной художественной казахской культуры насыщенность и генезис эстетического, символического, смыслового содержания. Строгий набор вещей в предметно-пространственной среде, четкая встроенность каждой их функции в систему упорядочения жизни, позволяет проследить искусство вещного мира как пласт образного означивания. При определении художественной структуры искусства, как регулирующего культурного фактора важно проанализировать обрядовую традицию казахов ее значение как системообразующего условия ансамбля в переносном жилище, казахском костюме, отдельных предметах прикладного искусства (тумар, саукеле, шанырак), где поэтическое-воспроизведение мира становиться главным образно-содержательным и стилевым принципом. Таким образом, актуальность темы обусловлена, систематизацией знаний о народном искусстве казахов и решение на этой основе новых типологических закономерностей, имеющее значение в широком спектре социокультурного развития.
Степень научной разработанности проблемы.
В истории, археологии, этнографии, искусствознании и ряде других отраслей науки на протяжении ХУШ-ХХ вв. шло накопление обширных артефактов и описательного материала по казахской народной художественной культуре и выработаны специфические ракурсы его исследования. Значительные сведения по культуре Казахстана содержатся в работах первых казахов, получивших европейское образование и служивших просвещению своего народа: Ч. Ч Валиханова, И. Алтынсарина, И.
Ибрагимова и др. Этнографами накоплен огромный эмпирический материал по традиционной культуре и искусству, проделана значительная работа по изучению прикладного искусства казахов, опубликованы фундаментальные 4 труды. Это работы: Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович JI. Б. Отрар XVI — XVIII веков по итогам раскопок 1971 — 1973 годов. — «Древности Казахстана». Алма-Ата, 1975; Они же «Позднесредневековый Отрар» Алма-Ата, 1981; Акишев К. А. Курган Иссык — Issyk mound: Искусство и мифология саков Алма-Ата, 1984; Аргынбаев Х. А. Казахское прикладное искусство: альбом Алма-Ата, 1987; Джанибеков У. Д. Эхо по следам легенды о золотой домбре. Алма-Ата, 1990; Джанибеков У. Д. Культура казахского ремесла. Алма-Ата, 1982; Муканов М. С. Казахская юрта. — Алма-Ата, 1981 последняя монографическая работа дает представление о казахской юрте и войлочных изделиях.
Книги У. Джанибекова знакомят с историей и этнографией казахского народа. Прослеживается эволюция и преемственность историко-этнических и культурных процессов на территории Казахстана. Привлекают внимание материалы об оседлых земледельческих хозяйствах казахов в дореволюционное время, о народных промыслах. Интересны раздумья автора о путях дальнейшего развития народного костюма, традиционного жилищного зодчества.
Первая попытка создания целостного представления о казахском* ювелирном искусстве успешно предпринята Тохтабаевой Ш. Ж. Казахские ювелирные украшения. Из собраний Государственного музея искусств КазССР им. А Кастеева и Центрального государственного музея Казахстана: Альбом / Сост. Ш. Ж. Тохтабаева. / - Алма-Ата: Онер, 1985. В альбоме показано все многообразие стилистических проявлений в национальном ювелирном искусстве, положено начало системному изучению художественных традиций и семантического содержания на материале традиционных женских украшений XVIII—XX вв.еков.
Исследуемая проблема находит свое освещение в обширном круге научной литературы. Общеметодологические основы изучения культур кочевых народов представлены в работе Г. Гачева: Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, земледельца и горца // Г. Гачев — М., 1999, 5 где автор пытается по-новому раскрыть и описать мировоззренческие истоки культуры кочевников. Национальный мир и национальный ум явлены в научной концепции как некий инвариант на разных уровнях в быту, языке, религии, в искусстве и т. д.
Следующие мнографии стали заметными вехами в научной интерпретации сложных явлений евразийского культурогенеза в аспекте рассматриваемой нами научной проблемы: Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии / А. Д. Грач. — М., 1980; Крадин H.H. Кочевые общества Владивосток 1992. В последней монографии характеризуется состояние дискуссии о структуре общественных институтов в кочевых этнообразованиях.
В-другом научном исследовании Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества / Н. Э. Масанов. -Алматы-Москва, 1995) анализируется экономический, базис номадизма, его социальная составляющая и формы, политической организации;
Среди многочисленных российских ученых, посвятивших своинаучные труды общим проблемам семиотики, выделяется группа исследователей культурных феноменов в семиотических аспектах: Лотман;
Ю.М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т.5- Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976; Топоров В. Н. Пространство и текст// Текст:
Семантика и структура. М., 1983 и др. Особенно следует отметить в этом направлении научного поиска работы Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры: Сб.ст. — Д., 1989; Пропп В. Я., Городцов В. А., Бобринский A.A. О некоторых символических знаках общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. // Труды Ярославского областного съезда. — М.:
1902; Каган М. О прикладном искусстве (1961), Морфология искусства.
1972) — Лободанов А. П. Прикладные искусства: лекции по семиотике.
Выпуск III. — М., 2007. В ряду работ, посвященных семиотике культуры 6 тюрок, следует выделить монографию Сагалаева А. М и Октябрьской И. В. Традиционное мировоззрение тюрок Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск. Наука. 1990, где авторы приводят большой фактический материал, рассматривают различные модели Космоса и Социума тюрок. Рассмотрены различные ритуалы, как знаковые системы.
В казахстанской науке одним из первых обратился к изучению семиотического статуса вещей Б. К. Ибраев. В небольшой, но емкой статье «Космогонические представления наших предков» Декоративное искусство.-1980, он как бы сформулировал основные вопросы семантического подхода к изучению казахской культуры. Шаханова Н. Ж. в своих работах широко использует методы семиотики. Так, жилище казахов — юрта, рассматриваетсякак знаковая система в книге «Символика традиционной культуры казахов (этнографические очерки) Алматы 2004: Шахановой Н. Ж. поставлена и решена проблема введения' феномена казахской традиционной культуры в парадигму культурологической герменевтики. Корпус составляющих ее элементов атрибутирован как целостная знаковая система, несущая в себе информацию не только о фактах, наличествующих в укладе традиционной жизни этноса, но и о множественных символических значениях, свидетельствующих о чувствующем и мыслящем человеке, о его связях с себе подобными, с обществом, природой, космосом.
Работы Галиева A.A. посвящены реконструкции моделей Космоса и Социума различных тюркоязычных народов. Модель мира гуннов, реконструируется в его книге «Моде-каган» (Алматы: Аруна, 2003).
В книге Уарзиати B.C. и Галиева A.A. «Символы и знаки Великой степи (История культуры древних номадов)» Алматы, 2006 реконструируются модели мира скифо-саков, хунну, тюрок, кыпчаков. В частности показано, что в основе модели мира средневековых кыпчаков лежали представления о Мировом Дереве. Археолог Самашев 3. рассмотрел наскальные изображения в Восточном Казахстане и показал, что многие из них имеют знаковый характер (Самашев 3. Наскальные изображения 7.
Верхнего Прииртышья. Алма-Ата, Гылым. 1992). Акишев А. К. в книге «Искусство и мифология саков» Алма-Ата 1984 реконструировал мировоззрение и мифологию саков, народа близкого по языку и культуре скифам. Для этого он обратился к семантике образов искусства «звериного» стиля. Главный объект исследования — Золотой человек — сакский вождь, погребенный под курганом Иссык (Алма-Атинская обл.). Автор показал, что кулах (головной убор) вождя является моделью Космоса, воплощением Мировой горы. Четыре стрелы в кул axe символизируют четыре стороны света. В костюме имеются изображения Мирового дерева и различных животных. Автор рассмотрел значение образов животных в искусстве саков и цветосимволизм в их. мировоззренииТаким образом, костюм Золотого человека является моделью Космоса, а сам вождь — сакральной фигурой.
Семиотические исследования получили развитие и в Кыргызстане. Акмолдаева Ш. Б. в монографии Древнекыргызскаямодель мира- (на материалах эпоса «Маиас») (Бишкек. 1996) на обширном материале текстов «Манаса» реконструирует древ’некыргызскую модель мира в ее пространственно-временном и социальном аспектах. Автором выявлено структурообразующее начало в древнекыргызской картине мира: Манасмировое дерево. Рассматривается мир людей, этические воззрения-древних кыргызов, вещный мир. Особое внимание, уделено проблеме этногенеза кыргызов, происхождению «Манаса». Осуществлен сопоставительный анализ «Манаса» и древнеиндийской мифологии. Освещена историография текстологических, культурологических, историко-этнографических исследований «Манаса». На материалах эпической культуры кыргызов подобное исследование предпринято было впервые.
Также в процессе наших исследований были проанализированы работы, связанные с изучением декоративно-прикладного искусства различных национальных традиций (киргизкой, дагестанской, татарской, ногайской, каракалпакской, удмурской, орнаменты северных народов):
Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера. Гос. Арх. Изд., 8.
М. 1948. Киргизский национальный узор (материал собран М. В. Рындиным), под общ. ред. акад. И. А. Орбели. Вступ. ст. А. Н. Бернштама. Киргиз, филиал АН СССР и Гос. Эрмитажа, Ленинград — Фрунзе, 1948. Сперанский П. Т., Татарский народный орнамент, под ред. Н. И. Воробьева и ввод. ст. П. М. Дульского, Татгосиздат, Рязань, 1948 и др.
Анализ трудов перечисленных авторов показывает недостаточность работ теоретического и аналитического характера, посвященных семиотическому исследованию и художественному феномену казахской культуры. В связи с этим необходимо решение теоретических задач, что позволило сформулировать объект, предмет, цели и задачи данного исследования.
Объектом исследования является традиционная художественная культура Казахстана и произведения народного искусства, составляющие ансамбль в предметно-пространственной среде.
Предметом исследования являются принципы и взаимосвязи орнаментально-декоративной и функционально-прикладной традиции в казахском искусстве с точки зрения художественно-композиционных факторов, образующих основание для выявления ансамблевой природы феномена традиционного искусства.
Цель диссертационного исследования заключается в системном, целостном представлении художественно-символического плана казахской культуры, на основе объектов предметно-пространственной средыпреимущественно казахской юрты и костюма — квинтэссенцией которой выступает декоративно-орнаментальные структуры, понимаемые в связи их ансамблевой и художественно-образной природы.
Для достижения цели исследования в диссертационной работе необходимо решить следующие задачи:
1. рассмотреть пространство традиционной казахской культуры в условиях общественного развития контактных и природных факторов;
2. рассмотреть вопросы истоков, генезиса художественной среды, эволюции орнаментальных форм в казахском народном искусстве;
3. исследовать символическую природу образов с точки зрения художественной образности пространства обитания и генезиса национальных архетипов художественной формы;
4. проанализировать иконографию кочевнического мира с точки зрения его образного содержания, связанного с местом и ролью символа в предании и обряде;
5. рассмотреть понятия «вещности» и «образности» и интерпретировать особенности традиций производства в изделиях народного ремесла;
6. систематизировать связи функций изделия и образ вещи, отражающей различные формы жизнедеятельности номада;
7. типологически упорядочить материалы прикладного искусства с точки зрения эволюционных процессов в доисламской и исламской культуре народа;
8. систематизировать орнаментальные структуры с точки зрения их построения и образности, закономерностей пространственной протяженности;
Методологическая основа и методы исследования.
Постановка вопросов диссертации решается на уровне взаимодействия нескольких методов: метод комплексного исследования учитывает знания смежных с искусствоведением дисциплин: в областях археологии, истории, лингвистики, фольклористики, этнографии. Задачи диссертации решаются с привлечением общенаучных подходов: сравнительно-исторического, функционально-эстетического, иконографического, формального анализа, позволяющих детализировать исследование по отношению к конкретным задачам. Кроме того, использовались специальные приемы — семантический и структурно-семиотический методы. Сочетание и взаимное дополнение.
10 этих методов обусловлено предметом изучения, его природой, существующими теоретическими концепциями.
Необходимым условием является определение основного метода темы — выделение в художественной традиции двух типологических форм искусства доисламской и исламскойих синтезированиеопределение символически-художественных коммуникаций, обуславливающих емкость художественных пластических решений.
Источниковедческой базой исследования стали: литературные, архивные источники, полевые исследования, докторские и кандидатские диссертации, научные монографии, статьи из сборников, материалы научных конференций и семинаров по проблемам искусства и искусствоведения, культуры, философии, эстетики, теории и истории народной художественной культуры, народного искусства. В работе проанализированы изделия народного искусства. В приложение вошли 153> иллюстрации (элементы декора — всего 167 изображений), привлекались фольклорные данные. Приложение состоит также из 23 таблиц- (сравнительная схема языковых обозначений, виды казахского орнамента, казахские меры измерения, устройство и конструкция юрты).
Отбор литературных источников, на которые опирался автор в исследовании, связаны, прежде всего, с темой формирования научных методов и методик изучения народного искусства. Первым обобщением истории науки о народном искусстве является труд Т. Д. Зубовой, исследования которой были обращены к творчеству В. С. Воронова, А. И. Некрасова, А.В.БакушинскогоОна указала на семь положений «теоретико-методологического характера научных исследований"1.
Зубова Т., Изучение народного искусства в 20−30-х гг. (В.Е.Воронов, А. И. Некрасов, А.В.Бакушинский): Дис.. канд. искусствоведения. — М., 1977. — В надзаг.: МГУ им. М.В.Ломоносова).
Реферативный обзор «истории знания о народном искусстве» с первой половины XVIII — до конца XX в. выполнен В. Б. Кошаевым.2.
Важное значение для исследования имеет понятие «ансамбль как образная система», которая рассматривалась М. А. Некрасовой, Г. К. Вагнером и др., в результате чего определились идеи целостности искусства, которые получили в дальнейшем свое развитие. Для нашей работы понятие ансамбля имеет значение единства системы как совокупности входящих в ее комплекс элементов, и понятие целостности, являющейся основной идеей и целью художественного произведения.
Одним из важных положений являются показанные А. К Чекаловым закономерности декоративно-прикладного искусства, которые являются эстетизированной формой отдельного предмета, среды бытования и образа эпохи.
В своей работе мы опирались на идеи о дифференциации художественно-образных процессов в пунктах: а) сущность явленияпроцесс непрерывного становления художественного пространства: характер социоприродного синтезаб) функция феномена — принципы гармонизации и ансамблевость образной системыв) метод — как проблема классификации феномена: типологизация и периодизация художественно-образной модели, ее структурно-типологические составные"3.
Литература
казахстанской науки посвящена преимущественно вопросам этнографии, которая до настоящего времени определяет специфику искусствоведения в его описательном виде. Этот материал представлен в трудах исследователей А. К. Акишева, Б. К. Ибраева, А. Т. Толеубаева, A.A. Галиева, Э. М. Байтенова и др. В работе предпринята попытка расширить исследовательское пространство эмпирического искусствоведения за счет использования смежных с искусствоведением дисциплин — философии и.
2 Кошаев В. Б. Композиционные взаимосвязи форм декора в русском народном искусстве: Дис.. канд. искусствоведения. — М., 1987. — В надзаг.: МГХПУ им. С. Г. Строганова.
3 Кошаев В. Б. ДОМ — ОБРАЗ. Художественно-образные процессы сложения традиционного жилища Западного Приуралья (Дисс. доктора искусствоведения). М. МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2001. — С. 9. семиотики. Так, понятие «искусство как текст», стало появляться в 20 — 30 гг. XX в. Э. Кассирером издана книга в трех томах «Философия символических форм» (1923 — 1929), в первом томе которой излагаются пути семиотического подхода к анализу произведения. Положительное значение в этом отношении имели для автора труды представителей российской и зарубежной науки: А. Ф. Лосева, В. Н. Топорова, А. К. Байбурина, Ю. В. Рождественского, А. П. Лободанова, Н. Л. Павлова, К. Леви-Стросса, М. Шапиро, А. Хеддона и др.
Важным источником исследования явились археологические материалы, подлинные образцы традиционного искусства: около 400 экспонатов, хранящихся в Музее археологии и этнографии Карагандинского Государственного университета им. Е. А. Букетова, более 2000 предметов в-областном историко-краеведческом музее (г. Караганда), Президентском центре культуры РК (г. Астана). Кроме государственных музеев: — автором были непосредственно изучены на. местах коллекции и собрания памятников народного изобразительного искусства историко-краеведческих музеях с. Бухар-Жырау, с. Егиндыбулак Карагандинской области (коллекция деревянных изделий). Ряд произведений из частных собраний публикуются впервые (уникальные образцы войлочных и ковровых изделий — сырмаки, тускиизы, курак корпе). Кроме того, автор знакомилась с коллекциями казахского прикладного искусства в фондах Музея искусств народов Востока (г. Москва). Представленные в исследовании материалы декоративного искусства также взяты и из литературных источников.
Положения, выносимые на защиту.
• Казахское народное искусство представляет собой единый самобытный художественно-эстетический феномен, специфика которого обусловлена особенностями ансамблевого выражения художественного образа мира в формах его вертикального и горизонтального моделирования;
• Художественно-символические структуры декоративноприкладного искусства (в керамике, ковроткачестве, ювелирных украшениях,.
13 древних сооружениях и др.), отвечают представлениям казахского народа о мире, носят типологический характер: до VII в. (доконфессиональные воззрения) и до первой трети XX в. (конфессиональные) и, в определенной степени их синтез, когда центр мироздания занимает идея единого Бога, а периферию родовые святыни;
• В декоративно-прикладном искусстве образные и орнаментально-художественные начала находятся в живом взаимодействии. Их отношения основываются на проникновении структур коммуникаций в широком смысле (социальных и трансфизических) и едином • эстетическом идеалехудожественной целостности мира;
• Произведения декоративно-прикладного творчества казахов (ковроткачество, народный костюм, ювелирные украшения и др.) и их типологическая проявленность, отвечают указанным выше причинам и выражают опыт коллективного мифологического сознания, в прикладной деятельности казахских мастеров и мастериц и отвечают понятию стиля казахского народного искусства и его графического и пластического выражения.
Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в следующем:
• впервые казахское народное искусство представлено в его ансамблевой целостности, самобытной художественной нераздельности;
• определено художественное значение народного искусства в организации пространства казахов как основы длярешения конкретных эстетических задач в повседневной и социокультурной проблематике;
• впервые знаковый характер культуры казахов представлен в факторах художественной упорядоченности и соподчиненности всей системы онтологии искусства. Духовные традиции казахского народа понимаются как основная проблема, лежащая в основе ансамблевого характера предметно-пространственной среды, что позволяет ввести новый уровень их понимания и социокультурной трансляции;
• новыми являются сами аналитические подходы к произведениям казахского народного искусства на основе его внутренних художественных структур, изобразительно-пластического метода их изучения, раскрытие образной системы в художественном ансамбле народного костюма, а также рассмотрение связи сакральных и художественных значений в произведениях декоративно-прикладного творчества казахов;
• в раскрытии метода анализа художественного потенциала казахской художественной культуры на основе типологических (доисламское и исламское) и содержательных (художественных и семантических) аспектов декора, когда появляется возможность существенно обогатить представление о функционировании категорий народной эстетики.
Практическая значимость исследования:
• теоретические положения исследования являются материалом для дальнейшего изучения народного искусства-как научного объекта, при составлении образовательных программ, спецкурсов по материальной и художественной культуре Средней Азии и Казахстана, подготовки учебных пособий по декоративно-прикладному искусству, а также по проблемам общегуманитарного характера, где художественная культура казахов должна быть представлена самостоятельным разделом;
• приемы сопоставления данных языка дают возможность сравнить некоторые термины тюркоязычной зоны: Южной Сибири, Ближнего Востока и др., составляющих своеобразный языковый каркас искусства, его содержания и позволяет дополнить источники искусствоведения. Это может служить основой изучения художественно-образного своеобразия традиционной казахской культуры во взаимодействии с сопредельными культурами;
• систематизированный материал и полученные результаты проведенного исследования будут полезны в творческом осмыслении перспективы художественных традиций, в понимании взаимодействия народного и профессионального искусства, развитии изобразительно-пластического языка современного искусства.
Апробация работы и использование результатов.
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на российских и международных конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах по списку ВАК, рассмотрены на заседании кафедры семиотики и общей теории искусства Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Диссертация изложена на 134 страницах машинописного текста, список используемой литературы содержит 130 наименований. Приложение состоит из 23 таблиц, 153 иллюстраций.
Выводы по III главе:
1. Специфика кочевого уклада, своеобразное мировоззренческое представление, породившие эстетику номадизма, обусловили высокий семиотический статус вещей, характеризующихбыт казахов.
2. Семиотические определения функции как знака отражают различные формы жизнедеятельности, где конструктивная логика объекта в народном искусстве, его цельность и завершенность достигается приемами пластических решений формы, которые лежат в основе художественного.
121 конструирования, удобства обращения с предметом и рациональных приемов обработки материала, благодаря которому и раскрывается полнота содержания художественного образа.
3. При рассмотрении ансамбля казахского женского костюма отмечается его создание по единому художественному замыслу, где все детали согласовываются между собой и подчиняются единому замыслу. Также нужно отметить, что весь комплекс казахской женской одежды был призван передать структуру Вселенной, где осмысление мира связывалось со схематичными образами древа жизни, мировой горы и солярными мотивами. Важнейшая функция данных образов в концентрированном виде воплощало собой идею плодородия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Изучение материала показало, что казахское художественное творчество, как местная (региональная) традиционная культура, органично входило в народный быт и отвечало практическим целям и сакрально-эстетическим запросам народа. Тесно связанное с жизнью, казахское искусство одухотворяло ее, выражало мировоззрение народа, широко охватывая все стороны быта.
• Анализ традиционного народного искусства Казахстана в контексте социально-экономического, культурно-исторического процесса в докочевнический период, эпоху ранних кочевников и эпоху средневековья позволяет выявить эволюционный характер «Образа Мира» в тюркской традиции, соотносимого с преимущественно тернарной вертикальной моделью, где три уровня вертикального развертывания «Образа Мира» состоят из горизонтально-протяженных сред, каждый из< которых существует самостоятельно. Особое яркое воплощение «Образ Мира», получил в ансамбле казахской юрты и традиционного женского костюма.
• Рассматривая спектр вопросоворнаментальной традиции, нужно отметить, что знак в народном' искусстве оказывается строго функциональным, он явлен не как некая материальная данность, а предстает как потребность сознания, порожденная процессами осмысления внешних ивнутренних (метафизических ифизических) процессов бытия (онтологии), и одновременно находит приемлемую форму выражения как условие синтеза в композиционной форме и предметно-пространственной среде. Будучи способом идеофикации и упорядочения представлений о связи мира земного и мира небесного синтез основан на создании орнаментальных ритмов, как факта эмоциональной выраженности взаимоотношений человека и природы.
• Обряды и предания в ходе анализа иконографии кочевнического мира свидетельствуют, что они отвечают условию эволюции семантических, синтактических, прагматических законов изображения, которые.
123 раскрывают содержание текстовой природы декоративного искусства и характеризуют знаковый способ художественной организации материальной среды, «родовым» основанием которого является социум.
Использование формального и структурного методов позволило интерпретировать изделия прикладного искусства в понятиях вещности и образности, необходимые для установления принципов взаимосвязи формы и содержания в рассматриваемых предметах народного творчества.
Функция изделия в виде образа вещи отражает различные формы жизнедеятельности, где конструктивная логика объекта в народном искусстве, его цельность, и завершенность достигается приемами пластических решений формы, которые лежат в основе художественного конструирования, удобства обращения с предметом и рациональных приемов обработки материала, благодаря которому и раскрывается полнота содержания художественного объекта.
Пришедшее в VII веке мусульманство, становясь внутренней духовной жизнью людей, не исключало из их мировоззрения языческие мироустановления, но синтезировало их. В конфессиональном воззрении сложилась норма использовать в мусульманстве в качестве особой формы воплощения уже имеющиеся языческие представления. Этот контекст, прежде всего, связан с тем, что: доконфессиональное мировоззрение, готовое к позитивному восприятию ислама, в течение длительного времени остается доминирующим и интегрирует мусульманские воззрения как продолжение прежних воззрений (тумар — амулет) — адаптация драматургии языческих празднеств к новому прочтению в мусульманской среде (жарапазан — мусульманский пост Ораза) — передача функции традиционных языческих божеств мусульманским святым, так, народное суеверие соединило функции аграрного божества в образ «святого» — Кыдыра. Искусство, сохраняя принципиальные решения доисламского периода оказалось способным стать основой нового прочтения образа вещи, а также наполниться рядом новых идей и атрибутов мусульманства.
В классификации графических орнаментальных структур с точки зрения их построения и образности рассматривается традиционное деление на: зооморфный, где формообразующим элементом является рогообразный завиток. Модификации Мирового пространства проявляются в образе Мирового ДреваОбраза Горысимволов изобилия, размножения, оберегарастительный, где наблюдается цветочная стилизация — символы жизни, на землекосмогонический солярные знаки: круги, полумесяц, розетки, кресты — символы небесных светилгеометрический волнистые ломаные линии, ромбы — символы Земли, знаки плодородия;
Исследованная система ансамблевого единства на материале костюмного комплекса позволила установить три важнейшие операционные художественные категории: функциональную, эстетическую, образно-символическую. Для ансамбля казахского костюма характерна ярусность членения формы, та же что и в жилище казахов, с подчеркнутостью космической символики верха. В народном костюме переплелись образные и хронологически разноэтапные мифологические представления о Вселенной. Это явление интересно представлено в орнаментации ансамбля казахского женского костюма, где каждому ярусу присущи, только ему характерные орнаментальные мотивы, прежде всего солярные, зооморфные символы, затем растительные, отражающие представления о всех уровнях мира. Одежда ярко и полно отражала национальный эстетический идеал и его понимание красоты, которая выражается в особой стилистической трактовке головных уборов: вертикальной устремленности, изысканности элементов обрамления, насыщенностью фактурных и технологических решений.
Список литературы
- Агапов П. М. Кадырбаев М. К. Сокровища Древнего Казахстана. — Алма-Ата: Жалын, 1979. С. 250.
- Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Отрар XVI XVIII веков по итогам раскопок 1971 — 1973 годов. — «Древности Казахстана». А. -А., 1975.
- Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Позднесредневековый Отрар. А.-А., 1981.
- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. — Алма-Ата: Наука КазССР, 1984. С. 176.
- Акмолдаева Ш. Б. Древнекыргызская модель мира (на материалах эпоса. «Манас»). Бишкек. 1996.
- Амброз А. Раннеземледельческий культовый символ / ромб с крючками. Сов. Археология, 1965 № 3.
- Аргынбаев X.А. Казахское прикладное искусство. Алма — Ата, 1987.
- Асанова Б.Е. Казахский художественный войлок как феномен кочевой культуры. Алматы, 2007. С. 275.
- Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М.: Наука, 1981. С 144.
- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 191.
- Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989. С. 300.
- Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-емантический анализ восточных обрядов. СПб.: Наука, 1993. С. 240.
- Байтенов Э. М. Мемориальное зодчество Казахстана: эволюция и проблемы формообразования: Диссертация доктора архитектуры: М, 2004.
- Басенов Т. К. Орнамент Казахстана в архитектуре. Алма-Ата: изд. АН КазССР, 1957.
- Баскаков H.A. Тюркские языки. М., 1960. С. 242.
- Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая: (термины, их значения, этимология) // Советская этнография, 1973. № 5.
- Бартольд В. В. К истории орошения Туркестана. СПб., 1914. С 174.
- Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. Л.: Изд. во АН СССР, 1927. С. 256.
- Бернштам А. Н. Киргизский народный повествовательный узор. — В кн.: Киргизский национальный узор. Л.- Фрунзе: Киргизский филиал АН СССР и Госэрмитаж, 1948.
- Бобринский, А А. О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. — В кн.: Труды Ярославского областного съезда исследователей истории и" древностей Ростово-Суздальской области. — М., 1902.
- Вагнер Г. К. Древнерусский ансамбль как образ мира // Искусство ансамбля, художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. М.: Изобраз. искусство, 1988.
- Васильева Г. П. Головные и накосные украшения туркменок XIX -первой половины XX в. // Костюм народов Средней Азии. Москва, 1979. С. 201.
- Валиханов Ч.Ч. Следы шаманства у киргизов // Собр. Соч. в 5 — ти т. -Алма-Ата, 1961. Т.1.
- Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. М.: Искусство, 1956. С. 371.
- Гаген-Торн Н. И. Женская одежда Поволжья. Чебоксары. 1960. С. 226.
- Гаген-Торн Н. И. Магическое значение волос и головного убора в свадебных обрядах Восточной Европы // СЭ. № 5 6. 1933.
- Галданова Г. Р. Культ огня у монголов. Исследования по истории и филологии Центральной Азии. Улан — Удэ, 1996. С. 197.
- Галиев A.A., Кумеков Б. Е. Моде-Каган. Алматы, Аруна, 2003.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Евразия космос кочевника, земледельца и горца. -М., 1999.
- Гафурова JI. X. Бытовая лексика современного узбекского языка. — Ташкент, 1991. С. 78.
- Глотова Г. А. Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза человека. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, — 1990. С. 256.
- Грамм М.И. Занимательная энциклопедия мер, единиц и денег. Ч.: изд. «Урал LTD», 2000. С. 411.
- Грач А.Д. Произведения скифо-сибирского искусства в пределах этнокультурных зон азиатских степей // Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии. -М., 1972,
- Григорьев А.П. О местонахождении Сарая, столицы Золотой Орды. -СПб.: МВД, 1845. Ч. 9−10.
- Джанибеков У. Д. Эхо.по следам легенды о золотой домбре. Алма -Ата: Онер, 1990. С. 301.
- Диваев A.A. Колыбельная песня // Казахская народная поэзия: (Из образцов, собранных и записанных А.А.Диваевым). Алма-Ата, 1964. С. 256.
- Диваев А. Легенда о Казыкуртовском ковчеге // Народный университет. 1918. № 4.
- Древнетюркский словарь. Л., 1969. С. 471.
- Зубова Т.Д. Изучение народного искусства в 20−30-х гг. (В.С.Воронов, А. И. Некрасов, А.В.Бакушинский): Дис. канд. искусствоведения. МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1977.
- Зуев Ю.А. Историческая проекция казахских генеалогических преданий (К вопросу о сущности и пережитках триальной организации у кочевых народов Центральной Азии)//Казахстан в эпоху средневековья. Алма-Ата, 1981.
- Ибраев Б.А. Космогонические представления наших предков // Декоративное искусство. — 1980. № 8. С. 40 — 45.
- Ибраева К.Т. Казахский орнамент. Алматы: Онер, 1994. С. 128.
- Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
- Иванов М. С. Очерки истории Ирана. М.: Госполитиздат, 1952. С. 35.
- Иванов С. В. Киргизский орнамент как этногенетический источник. // Труды Киргизского археолого-этнографической экспедиции. Т. З. Фрунзе, 1959.
- Иванова И.Ю. Образ в искусстве орнамента: Дис. канд. искусствоведения: М, 2004.
- Каган М.С. Морфология искусства J1, 1972. С. 360.
- Кажгали улы А. Органон орнамента. Алматы, 2003. С. 456.
- Казахские ювелирные украшения. Из собраний Государственного музея искусств КазССР им. А. Кастеева и Центрального государственного музея Казахстана: Альбом/ Сост. Ш. Ж. Тохтабаева/. Алма — Ата: Онер, 1985.
- Каскабасов С.А. Казахская несказочная проза. Алма — Ата: Наука КазССР, 1990. С. 201.
- Калыбекова А. Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов. Изд.2-ое. Алматы: БАУР, 2006. С. 364.
- Каракалпакско-русский словарь / Под ред. H.A. Баскакова. М., 1958. -415.
- Кецесбаев I. К, азав- тшшщ фразеологияльщ сездт Алматы, 1977.
- Киргизский национальный узор (материал собран М. В. Рындиным), под общ. ред. акад. И. А. Орбели. Вступ. ст. А. Н. Бернштама. Киргиз, филиал АН СССР и Гос. Эрмитажа, Ленинград Фрунзе, 1948.
- Концепт движения в языке и культуре / Отв. ред. Т. А. Агапкина. М: Издательство: «Индрик», 1996. («Библиотека института славяноведения и балканистики РАН. 5″.) С. 384.
- Кошаев В.Б. Композиционные взаимосвязи форм декора в русском народном искусстве: Дис. канд. искусствоведения. М., 1987. — В надзаг.: МГХПУ им. С. Г. Строганова.
- Кошаев В.Б. ДОМ ОБРАЗ. Художественно-образные процессы сложения традиционного жилища Западного Приуралья Дисс. доктора искусствоведения. М. МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2001.
- Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева). М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, — 2006. С. 120.
- Кошаев В.Б. Онтология народного искусства. „Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ"/Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. :МГХПУ, 2010. -№ 1.
- Климов K.M. Ансамбль как образная система в удмурском народном искусстве XIX XX вв. Монография. Ижевск: Издательский дом „Удмурский университет“. 1999. С. 320.
- Клюева Н.И., Михайлова Е. А. Накосные украшения у сибирских народов // Сб. МАЭ. Т. XLII. Ленинград, 1988.
- Кручкин Ю. Н. Большой современный русско-монгольский' -монгольско-русский словарь. М.:АСТ: Восток Запад, 2006. 921
- Леви Стросс К. Первобытное мышление. — М., 1999. С. 392.
- Леруа —Гуран А. Жест и слово. 1965. Т. 2. С. 167.
- Лободанов А.П. Основы семиотики. Семиотика искусства: лекции по семиотике. Выпуск I. М, 2007. С 215.
- Лободанов А.П. Прикладные искусства: лекции по семиотике. Выпуск III. М., 2007. С. 200.
- Лосев А.Ф. Вещь и имя. М., 1929.
- Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Изд-во: Терра-Книжный клуб Библиотека философской мысли, 1999.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. С. — Петербург: „Искусство — СПБ“, 2000. С. 704.
- Лотман 10. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5. С. 152. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 284).
- Маргулан А. X. Бегазы-дандыбаевская культура. Алма Ата, 1979.
- Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. Алма -Ата, Т.1. 1986. С. 256.
- Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. M.-JI. Наука, 1964.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.
- Муканов М. С. Казахские домашние художественные ремесла. Алма -Ата: Казахстан, 1979.
- Муканов М.С. Казахская юрта. Алма — Ата, 1981. С. 224.
- Мустафина P.M. Представления, культы, обряды у казахов. Алма -Ата, 1992. С. 176.79. 79. Некрасова М. А. Ансамбль как образная система // Искусство ансамбля, художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. М.: Изобраз. искусство, 1980.
- Некрасова М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве // Искусство ансамбля, художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. М.: Изобраз. искусство, 1988.
- Нуржанов Б.Г. Город и степь // Евразийское сообщество. 1997. — № 3. С. 183 — 197.
- Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии. Л.: Наука, 1980.
- Оралбаева Н. Ka3Ipri казак тшшдеп сан ecIMHIH, сезжасам жуйес1 — Алма-Ата, 1988.
- Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа, Храм. М: Олма Пресс, 2001. С. 316.
- Петенева Г. Г. Бинарные изображения птиц на предметах художественной металлообработки средневековых кочевников // Известия HAH PK. Серия обществ, наук. 1995. — № 4.
- Петри Б. Народное искусство в Сибири. Иркутск, 1923.
- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии: Древность и средневековье. М.: Искусство, 1982. С. 203.
- Потанин Г. Н. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки. Пг., 1917.
- Пропп В. Я. Морфология сказки. — М.: Наука, 1969.
- Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История и теория построения. Ташкент: Гослитиздат Уз. ССР, 1961.
- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М. — Л. 1960. С 141 — 142.
- Сагалаев A.M., Октябрьская И. В., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек и общество. Новосибирск, 1989. С. 151.
- Самашев 3. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата, Гылым. 1992.
- Севортян Э.В., Левитская Л. С. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы „ж“, „и“. М., 1989. С. 262.
- Семенов В. А. Курган Аржан пространственная модель мира ранних скифов Центральной Азии // Структурно-семиотические исследования в археологии. — Донецк, 2002.-Т. 1. С. 207−215.
- Смирнов К. Ф. Савроматы. Раняя история и культура сарматов. М.: Наука, 1964. С. 244,
- Сперанский П.Т. Татарский народный орнамент/Ввод.ст. П.М.Дульского-Под ред.проф.Н. И. Воробьева. Казань: Татгосиздат, 1948.
- Сухарева O.A. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии // ТИЭ АН СССР. Т. XXI. Москва, 1954. С. 302.
- Тараян 3. Семантические качества армянского орнамента. Ереван, 1978. С. 198.
- Толеубаев А.Т. Пережитки магии в традиционной детской обрядности казахов в начале XX века // Изв. АН Каз ССР. Сер. Общ. Наук. 1978. — № 1.
- Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX начало XX в.в.). — Алма-Ата, 1991.
- Толковый словарь казахского языка. Т. 6. С. 532 533.
- Топоров В.Н. Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии. В кн.: Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. -М.: Наука, 1981.
- Топоров В.Н., Мейлах В. М. Круг// Мифы народов мира. М., 1982. Т.2.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура, М., 1983
- Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией мирового дерева. Труды по знаковым системам. -Тарту, 1971, V.
- Тохтабаева Ш. Ж. Обряды и обычаи казахов, связанные с произведениями прикладного искусства // Обычаи и обряды казахов в прошлом и настоящем. Алматы, 2001.
- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. М., 1989. С. 157.
- Троицкая A. J1. Некоторые старинные обычаи, обряды и поверья таджиков долины Верхнего Зеравшана // Занятия и быт народов Средней Азии. -ТИИЭ, н. серия., Т.97. Л., 1971. С. 249.
- Турецко-русский словарь. М., 1977. С. 577.
- Уарзиати B.C., Галиев A.A. Символы и знаки Великой степи. Алматы, КазАТиСО, 2006.
- Узбекско-русский словарь / Гл. ред. А. К. Боровков. М., 1959. С. 632.
- Усманова Э. Р. Костюм женщины эпохи бронзы. Опыт реконструкций. Лисаковск — Караганда, 2010. С. 176.
- Цагараев В. Золотая яблоня нартов: История, мифология, искусство, семантика. Владикавказ, 2000.
- Федоров Давыдов Г. А. О сценах терзания и борьбы зверей в памятниках скифо-сибирского искусства. — Л., 1975. С.23
- Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С.254
- Хеддон, А Эволюция искусства, Лондон, 1895. Haddon А. С. Evolution of Art, London, 1895. P. 308−309.
- Чекалов A.K. Искусство в быту M., 1961.
- Чекалов A.K. Основы понимания декоративно-прикладного искусства — М., 1962.
- Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения М.: Наука, 1977. С. 21 -22
- Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака образа / М. Шапиро // Семиотика и искусствометрия. Сб. переводов. Под ред. Лотмана Ю. М. — М., 1972. С. 136- 164.
- Шаханова Н.Ж. Символика традиционной казахской культуры: Учебное пособие. Алматы: К^азак университет^ 2004. С. 232.
- Шер Я. А. Петрогифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980.
- Шилова Е.Н. Словарь Тюрксизмов в Русском языке. Алма Ата, „Наука“ КазССР, 1976.
- Шубников А.В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. С 560.
- Ыскаков A. ICa3ipri казак TUii. Морфология Алматы, 1991.
- Этнография каракалпаков XIX начала XX в.в. — Ташкент, 1981.
- Юдахин К. Киргизско-русский словарь. М.: „Советская энциклопедия“, 1965. Книга 1 (А-К) С. 503. Книга 2 (Л-Я). С. 475.
- Лицо, как часть тела общ.тюрк. -лицо, лоб лицо, лик, щекаалт. хак. тув. каз. кирг. монг. араб. иран. чус (груб.-морда) арын (алын) бет, жуз бет, жуз нуур
- Вид лица, черты лица семантическое значение „внешность"чырай сырай шырай шырай чырай — цвет лица, облик, выражение лица, здоровый вид ажар -(честь, автори тет) ажар, дидар-(лицо, физион омия) царай рабай рец, апт1. Табл.1
- Названия внутренних органов человекаалт. хак. 1ув. каз. кирг. монг. араб. иран. урек чурек журек журек журек зурх
- Сердце характеризует эмоциональное состояние близкое к термину созначением „сердце“ тын чаан — тын жан — жан ат1 (п) — зэре — джан —живое живое душа жизнь, частичка, дыхание, существо существо дыхание пылинка душа1. Табл.2
- Древнее представление душиалт. хак. тув. каз. узб. турец. араб. каракалп.
- Жизнен kut barakat gutная уд1 УД сунезин K-Y'i“ пиша, доброе благослове амулетсила, пропит предзнаи ние, охраняющдуша, ание2 менование3 изобилие, ий скот, счастье умножени, прибыль счастье41. Табл. 3
- Наиболее активным термином выше названных во всех рассматриваемых языкахявляется термин „глаза“. алчность“ каз. K03i, кыз,(кызьщ) „сильное желание чего-либо“ (заинтересоваться)кезш суз „очень сильно хотеть“
- Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая: (термины, их значения, этимология) // Советская этнография, 1973. № 5. С. 109.
- Узбекско-русский словарь / Гл. ред. А. К. Боровков. М., 1959. С. 632.
- Турецко-русский словарь. — М., 1977. С. 577.
- Каракалпакско-русский словарь / Под ред. H.A. Баскакова. М., 1958. С. 415.
- Шилова E.H. Словарь Тюрксизмов в Русском языке. Алма-Ата, „Наука“ КазССР, 1976.
- Кручкин Ю. Н. Большой современный русско-монгольский монгольско-русский словарь. М.:АСТ: Восток — Запад, 2006. 921
- Этот элемент орнамента встречается в узорной циновке — ши, в украшении верхней одежды11.
- Верблюд для казахов является символом гармонии, данный элементиспользовался в качестве оберега от сглаза
- Применяется в украшении верхней одежды, вышивке, баскурах12.
- Ит куйрык» -собачий хвост, «Ит -табан» — собачий след1. Роль оберега
- Верхняя одежда, вышивка, резьба по дереву ножки кровати, входная дверь, напольные изделия.13.
- Элемент используются при украшении ювелирных изделий, в вышивке
- Кажгали улы А. Органон орнамента. С. 11−15.
- Данный элемент орнамента символизирует удачу, потомство, также используют в качестве оберега
- Используется при украшении тускиизов, дубленок, сырмаков, килимов, текеметов, в архитектуре и зодчестве.15.
- Сыньщ мушз" — сломанный рог. Орнамент представляет собой изломанный прямоугольник, четыре раза загибающийся внутрь.1. Значение оберега, материальныйдостаток
- Этот элемент орнамента применяется для украшения ковров, изделий из чия, баскуров и алаша, а также различных сумок. Внешний вид орнамента напоминает сломанный рог животного.16.
- Туйе — мойын" -верблюжья шея. Орнамент похож на верблюжью шею. Концы его завершаются роговидными элементами.1. Значение оберега
- Данный элемент орнамента встречается обычно в совокупности с другими роговидными орнаментами, хотя и выделяется своими особыми линиями, напоминающими длинные верблюжьи шеи.17.1. Мушз" — рога
- Символ изобилия и защиты от злых сип
- Применяется для украшения войлока, текемета, изделий из чия, баскуров и алаша, а также различных сумок18.1. Мушз" — рога1. Значение оберегов
- Элементы «мушз"-рога или пальметтовидные и облакообразные мотивы Символ единства, согласованности Применение в вышивке
- Элементы „мушз“ — рога или пальметтовидные и облакообразные мотивы Переплетения с листьями, цветами символизировало единство Данный элемент применялся в вышивке тамбурным швом: тускиизов, одежды, аяк капов. растительный
- Жапырак» — лист Символ единства Девичий головной убор, вышивался верх и тулья42. 6 «Гул» — цветок, ветви Символ — вечности бытия Вышивка одежды: белдемше (распашная юбка), шалбар (верхние штаны)
- Это орнамент следует до бесконечности. Один и тот же элемент повторяется множество раз. Им украшают края изделий: одежды рукава, подол, многочисленные оборки, ворот, деревянных дверей, текеметов, сырмаков, кебеже, посуды и т. д.
- Этот орнамент используется в украшении тускиизов, аяккапов, середины круглых столов.
- Тумарша" — амулет. Орнамент треугольной формы, похожий на амулет.1 .Амулетытреугольнойформы, предохраняющие от злого сглаза
- Идея созидающей божественной силы, вознесения, близости к верхнему миру, и, соответственно, егопокровительства3. Активное мужское начало
- Этот орнамент используется в окаймлении кошм, ковров, гекеметов, также в центре этих изделий- прикрепляли не т олько на одежду человека, но и на юрты и животных.72.хг/1
- Треугольник вверх — символ мужского начала треугольник, обращенный вниз является женским символом. Соединенные вместе, они давали начало новой жизни.
- Характерен в орнаментации деревянных изделий — бакан, адалбакан, сундуков, кроватей.73.
- Бакан ернек" — вертикальный узор.
- Символ оберега, вертикаль, соединяющая верхний и нижний миры.
- Вертикальная композиция — символ знаков внимания, пожелания счастья, благополучия потомству.
- Омирбекова М.Ш. Традиционная культура казахов Алматы, 2004. С. 39 — 52.1. Казахские меры измерения9
- Ыскаков A. K^a3Ipr? казак тип. Морфология Алматы, 1991.
- Оралбаева II. K^a3Ipri казак тшндеп сан еЫмнщ сезжасам жуйеЫ — А., 1988.
- Тенгри (дух неба) Зооморфный код Мировая ось1. Верхний мир
- Умай (женское божество, любимая жена Тенгри) Солнце (сын Тенгри и Земли) Огонь (сын Солнца) духами «верхнего»
- Луна (дочь Тенгри и Земли) мира также чаще всего1. Звезды были птицы
- Воздух божество находится между Небом и Землей
- Срединный мир духи «среднего»
- Йер -суб 1) великое божество 2) видимый мир в образе Родины мира— рогатые животные
- Земля мать, Земля — жена Вода-старшая сестра Земли
- Духи хозяева гор, лесов, вод, перевалов, источников
- Подземный мир водная стихия, змеи
- Эрлик хан (владыка подземного царства)1. Табл. 9-----Север1. Восток Нижний мир
- Табл. 11. План казахской юрты.
- Детали деревянного каркаса казахской юрты
- Название деревянных деталей юрты
- Образные выражения деревянных деталей юрты
- Изображение деревянных деталей юрты1. Деревянный каркас юрты
- Уйдщ суйегI — скелет, костяк юрты-
- Алды — перед, передняя часть юрты-
- Арцасы — спина, задняя часть юрты-
- Жапбас — таз, тазовые кости, боковые решетки-
- Юпдгк — пуповина центр помещения1. Основание уыка карын-1. Жердь купола юрты уык
- К^арыи живот основание уык- Коалам — ручка, заостренный срез уыка
- Уьщ квз — глаза, купольные рейки вставляются в круговое навершие юрты-1. Секция кереге юрты канат1. Керегеподразделяется на: керегетц басы -голова кереге-керегенй (цанаты -крылья кереге-керегетц аягы ноги кереге.10т. у/1. V V V л/V v Vч