Русская литература в критике В. Ф. Ходасевича
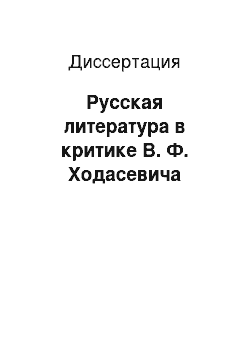
Любое время, любая эпоха диктует свои нравственно-этические законы, культурные принципы, взгляды на жизнь, которые формируют облик и дух своего времени, будь то 18 столетие или век XX. Культурные ценности прошлого, исходя из запросов современного времени, по-своему перерабатываются и осмысливаются, приспосабливаются к той духовной обстановке, которая складывается в обществе благодаря непомерным… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕКСТА И КОНТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА
- 1. 1. XVIII век в эстетическом сознании Владислава
- Ходасевича,
- 1. 2. Державин в критике В.Ф. Ходасевича
- ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА В
- КРИТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА
- 2. 1. Суждения Ходасевича об А. С. Пушкине в контексте литературной критики 20−30-х гг. XX века
- 2. 2. Своеобразие бытования биографического метода в пушкинистике Ходасевича
- ГЛАВА 3. ВЗГЛЯД ХОДАСЕВИЧА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СИМВОЛИЗМ КАК ЭСТЕТИКО-НРАВСТВЕННУЮ СИСТЕМУ И НА СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ
Русская литература в критике В. Ф. Ходасевича (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В русской литературе и — шире — культуре XX века творчество Владислава Фелициановича Ходасевича — явление заметное. Последовательный и настойчивый проповедник классического искусства, мудрый и тонкий «державинец» и «пушкинианец», поэт-пророк, предсказавший «России власть черни и надвигающуюся тьму, в которой посвященным придется перекликаться именем Пушкина» (133, 2), он по своей природе был особенно чуток и восприимчив к дисгармонии, несправедливости, царящим в окружающем мире и душе человека.
Ходасевич, как человек искусства, которого культура занимала больше, чем «перестройка целого мира», одним из первых понял, что «нация, народ — это не гены, а уклад, культура бытования на земле» (133, 2). Именно «свою» культуру, достоинство русского поэта он увез в эмиграцию, где подчас в сложных и противоречивых условиях жизни по-новому воспринял и осознал ее, оставаясь при этом (и в России, и на Западе), по мнению А. Е. Кедровского «последовательным защитником общественно-значимого искусства, такого, которое выражает передовой философский, нравственно-этический опыт времени й одновременно само формирует облик исторической эпохи» (125, 77).
Творчество Ходасевича неоднозначно воспринималось его современниками. Так, например, в 1913 году Н. Гумилев поставил Ходасевича в один ряд с Тютчевым и Анненским. В. Брюсов, напротив, в рецензии на книгу поэта «Тяжелая лира» в 1923 году писал: «Совершенно безнадежно, чтобы выдающегося поэта мы получили в лице Владислава Ходасевича. Стихи его больше всего похожи на пародии стихов Пушкина и Баратынского. Автор все учился у классиков и до того заучился, что уже не может, как только передразнивать внешность.» (159, 208). Младший современник Ходасевича В. Вейдле, автор бесспорно лучших критических работ о Ходасевиче, заметил: «Ходасевич — один из больших русских поэтов нашего временион был мастером русской прозы» (93, 11). Как относиться к таким противоречивым суждениям? Есть огромное количество причин, политических, личных, общественных и т. д., по которым мнения современников бывают неточны, часто нелепы или вообще случайны. Нам наиболее убедительными представляются суждения о Ходасевиче таких авторитетных писателей и критиков, как М. Горький: «Ходасевич., — величайший из современных русских поэтов» (159, 208), Н. Берберова, по мнению которой Ходасевич оставил нам «образцы той критической мысли и того критического стиля, которых так мало всегда было в нашей литературе и которые сейчас ушли из нее вовсе» (27, 9), или А. Белый, считавший Ходасевича «поэтом Божьей милости, единственным в своем роде» (65,210).
Любое время, любая эпоха диктует свои нравственно-этические законы, культурные принципы, взгляды на жизнь, которые формируют облик и дух своего времени, будь то 18 столетие или век XX. Культурные ценности прошлого, исходя из запросов современного времени, по-своему перерабатываются и осмысливаются, приспосабливаются к той духовной обстановке, которая складывается в обществе благодаря непомерным усилиям самого человека. История подтверждает следующее: творец, в данном случае художник слова, не всегда приходит со своим виденьем мира вовремя, очень часто он опережает свое время, вследствие чего остается забытым, а иногда и отвергнутым. Время отвергло Ходасевича. Русский Запад по-настоящему задумался о нем лишь в середине 80-х годов, начав издавать его произведения. Обнаружилось, что Ходасевич — едва ли не самый «неизданный» из крупнейших писателей русского зарубежья. Примерно так отзывалась отечественная критическая мысль середины 80-х годов об одном из лучших поэтов «серебряного века». Такой подход к творческому наследию Ходасевича имеет ряд объяснений. .Юрий Колкер в «Айдесской прохладе» выделяет три основных (и неразрывно связанных) причины последовательной неблагодарности соотечественников ведущему критику русского зарубежья: «Первое: Ходасевич умер в эмиграции. Как и очень многие, он не был врагом революции вообще, но не мог принять конкретных форм ее воплощения. Он был культурным, а не политическим эмигрантом.,. Второе: Ходасевич был и навсегда останется поэтом для немногих (действительно, поэзия Владислава Ходасевича обращена не просто к читателю, а к читателю-интеллектуалу, читателю-философу. — Г.Д.). Третье: его независимость. В одиночку, не опираясь ни на кого из своих современников, руководствуясь только своим внутренним голосом, проделал он свой путь в жизни и искусстве» (127, 18). Отметим, что в отличие от большинства писателей-современников Ходасевич вошел в литературу спокойно — без программных деклараций, попыток заявить и обозначить новое, собственное направление, либо примкнуть к одному из уже утвердившихся. Критик не принадлежал ни к каким группам и школам, которыми изобиловала литературная жизнь России начала XX века, ни к каким политическим партиям (в 1923 году Ходасевич установит свою политическую независимость в программном стихотворении «Сквозь облака фабричной гари.»), по сути дела, он мало имел настоящих друзей, да и семейное счастье не сложилось. Вечный скиталец, «везде — пасынок, везде — гость, везде — чужой» (60, 90), он был пророком не только в стихах, но и в блестящих критических работах.
Позиция Ходасевича быть выше современности (это роднит его с Г. Р. Державиным) сделала его архаистом в глазах представителей всех современных ему литературных направлений. Ю. Колкер утверждает, что «независимость в литературе вообще всегда означает некоторый пассеизм (этот термин в связи с Ходасевичем употребил в 1914 году Георгий Чулков), поиск точки опоры в прошлом, без которого равно непонятны настоящее и будущее. Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество» (127, 21). Действительно, Ходасевич был сторонником и проповедником классического искусства, за основу которого он брал творчество Державина и Пушкина. Два великих имени не просто сопровождали, воодушевляли Ходасевича на протяжении всей его жизни, они стали большим, чем просто «талантливый Державин» или «гениальный Пушкин». Можно предположить, что в творческом наследии великих деятелей прошлого Ходасевич пытался найти самого себя.
Оценить объективно литературное наследие любого художника, человека-творца достаточно сложно. Н. М. Карамзин писал: «.Автору нужны таланты и знания: острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо: но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашейесли хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающимесли хочет писать для вечности и собирать благословения народа. Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором» (124, 26−27). Необходимо заметить, что и Владислав Ходасевич придерживался такой же точки зрения: дурной человек не может стать хорошим автором. Для того чтобы понять и оценить творчество любого писателя, всегда надо обращаться к особенностям времени, в котором он творил, к людям, с которыми он общался, к его личным привязанностям, вообще ко всему тому, что его окружало и побуждало к созданию того или иного произведения. Когда мы пытаемся провести критический анализ художественного произведения мастера слова, то часто забываем учитывать один из главных факторов: какой личностью, каким человеком был сам автор. Для Ходасевича отмеченный момент всегда был одним из основных. Если говорить о личности самого критика, то «бытовое острословие, сухость, умение держать людей на некотором расстоянии» (127, 20) — это еще не повод считать Ходасевича отрицательным человеком. Скорее всего, это способ защиты от окружающей несправедливости. В эссе «Младенчество» Ходасевич написал: «В классе поражал я учителей прилежанием и добронравием. Тогда же возникло осознание неправильного жизнеустройства мира. Мне казалось не то ужасно, что именно со мной несправедливы, но что вообще как можно жить в мире, где делается такое?» (29, 204).
В 1939 году В. Набоков назвал Ходасевича «крупнейшим поэтом нашего времени, литературным потомком Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о нем» (151, 213). Мы можем с уверенностью утверждать, что Ходасевич, как человек искусства, как человек богатой культуры, в котором духовность и сдержанность были нерасторжимы, является нашим современником, вероятно, что он «будет осознан как современник и нашими отдаленными потомками, пусть в меньшей степени, чем намии они, надо думать, увидят, что самоновейшее время не новые черты поэзии вечной естественно подчеркнулои ноты правдивой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле), выдвинуло как новейшие ноты» (127, 23).
Критика — наименее изученная сторона творчества Ходасевича, которая во всем объеме своем не собрана полностью и недостаточно издана. А между тем эта часть творчества писателя способна помочь понять его нравственно-эстетическую позицию. В одном из своих последних писем Ходасевич отметил: " .Худо ли, хорошо ли я пишу — дело особое, но во всей эмигрантской критике едва ли не я один пишу, что хочу и о чем хочу, не насилуя совести, не подхалимствуя, не выполняя социального заказа, который здесь, может быть, хуже тамошнего." (113, 199). Независимость — неотъемлемая черта всего творчества Ходасевича — проявила себя и в критике.
Основой, питательной почвой литературной критики Ходасевича стала поэзия, которая, по утверждению А. Ранчина, в сознании современников «воспринималась как прямое продолжение и даже возрождение классической лирики» (169, 88). «Классические» черты поэзии Ходасевича отмечали В. Брюсов, А. Белый, В. Набоков, 3. Гиппиус, Г. Федотов, В. Вейдле, Ю. Айхенвальд и другие авторы.
Вместе с Гумилевым Ходасевич начинает печататься в 1905 году. В это время он выступает преимущественно как литературный критик и лишь затем как поэт. С 1905 по 1907 годы появилось около двадцати его критических заметок и всего пять стихотворных публикаций. Несколько первых критических заметок были подписаны псевдонимом Сигурд, заимствованным из драмы Красинского «Иридион». Имея отца-поляка, а мать-еврейку, воспитанную в культуре польского католичества, Ходасевич, «дитя гонимых в России народов — не только смешивает в жилах их кровь, он соединяет на себе их хорошо осознанную проклятость» .
60, 89), оставаясь при этом до конца своей жизни именно русским поэтом.
А.Е. Кедровский литературно-критическое наследие Ходасевича условно разделил на три части:" 1) статьи, очерки о художниках слова 18−19 вв.- 2) о современниках и писателях русского зарубежья и, наконец, 3) его суждения о советской литературе" (125, 75). Мы в своем исследовании обратимся преимущественно к первой части критического наследия Владислава Ходасевича.
Классическое искусство Ходасевич осмыслял не только в России, но и на Западе, в тяжелых испытаниях эмиграцией. Конечно, потеря родины — всегда трагедия, не только личная, но и общественная. «Россия, — писал Роман Гуль, — непрестанно живет в нас и с нами — в нашей психике, в нашем духовном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим — но так же неосознанно — мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается» (109, 166).
С конца 20-х годов Ходасевич полностью переходит на положение эмигранта. С 1925 года в Париже он начинает сотрудничать с газетой «Дни», затем с газетой «Последние новости», а с 1927 года Ходасевич становится редактором литературного отдела газеты «Возрождение» и видным литературным критиком зарубежья. За семнадцать лет эмиграции Ходасевич был сотрудником очень многих эмигрантских периодических изданий: «Современных записок», «Воли России» и т. д. В конце 20-х годов Ходасевич почти полностью прекращает писать и печатать стихивесь свой талант художника он направляет в прозу, в критику. Почему в конце 20-х годов Ходасевич «умирает» как поэт? Какие причины подтолкнули его заниматься в основном критической деятельностью? Разрешение этих вопросов необходимо для того, чтобы понять своеобразие и значимость этого вида деятельности Ходасевича. М. Горький в письме к К. Федину 1925 года писал: «В эмиграции колдуны умирают от голода духовного. Вл. Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности» (127, 22). В. Андреев пишет: «Стихи же ему изменили, и с той изменой он ничего не мог поделать. его молчание как поэта страшней и мучительней, чем у кого бы то ни было. Ходасевич умер в 1939 году. За последние двенадцать лет своей жизни он написал с десяток не лучших’своих стихотворений» (127, 23).
Ходасевич до последней минуты зарабатывал себе на жизнь литературным трудом, оставаясь всегда таким, каким он был: независимым, свободным. Утверждение, что потеря родины, тяжелое положение эмигранта стали главными причинами его отхода от поэзии — всего лишь сложившаяся легенда. Естественно, критик страдал от потери России. Нина Берберова вспоминала по этому поводу: «Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России.» (67, 258). Эта реплика, по свидетельству Ю. Колкера, показывает, что «он (действительно — в отличие от многих) понимал: той России, без которой нельзя ни жить, ни писать, более не существует, а есть другая: та, где нельзя — ни жить, ни писать. И есть третья, главная, незаслонимая омерзительной маской, недоступная тлению, инвариантная Россия — в четырехстопном ямбе, в Пушкине, в нем самом» (127, 23). Но существует, по всей видимости, еще один фактор, который способствовал обращению Ходасевича к литературно-критической деятельности в эмиграции — это появление веры в то, что поэзия, которая вынуждена соприкасаться с современной действительностью, теряет творческие силы, тогда как оставаться вне своего времени или над ним она не в состоянии.
Ходасевич всегда считал себя исконно русским поэтомименно русская поэзия — творчество Ломоносова, Державина, Пушкина — была больше, чем просто подлинное отечество. Все вместе взятые они были единственным спасением, тем скрепляющим звеном, которое позволило не только Ходасевичу, но и многим русским в эмиграции «остаться народом, не раствориться в Вавилоне западной цивилизации» (127, 23). По всей видимости, все-таки не эмигрантская, а личная, человеческая судьба Ходасевича сложилась так, что «стихи постепенно уступили в ней место прозе. Раннее старение и болезненность тоже сыграли здесь свою роль» (127, 24).
В 1937 году Ходасевич признается Набокову, что собирается написать крамольную статью в «Современные записки» о 20-летии эмигрантской литературы. К сожалению, статья не была дописана и опубликована. В архиве М. С. Карповича сохранились четыре машинописных страницы, в которых «Ходасевич утверждал, что эмигрантская литература существует, что от советской отличает ее язык, стиль, понятия о природе и назначении художественного творчества, она сберегла, унесла с собой общие традиции русской литературы: ее национальную окраску, ее тяготение к религиозно-философским и нравственным проблемам, наконец (и в особенности) — ее духовную независимость. Но той жизненной энергии, того благодетельного духа новых исканий, который свойственен творческим, а не критическим эпохам, она с собою не принесла и не могла принести. Но литература, не движимая духом новых исканий, обречена повторять себя.» (55, 208−209). Для Ходасевича, как и для большинства писателей первой волны русской эмиграции, одной из самых главных задач являлась задача сохранения и приумножения русской национальной культуры, задача сохранения гуманистических традиций А. С. Пушкина, имя которого было символом для всей русской эмиграции, но в то же время Ходасевич хотел видеть в литературе 20−30-х годов и то, что составляло духовную основу современного общества, современной культуры. Значение критической работы этого периода особенно повышалось для Ходасевича тем, «что сам он неизменно был приверженцем творчества, основанного на знании и мастерстве» (119, 7). Критик утверждал, что «истинной поэзии (возможно, что и критики тоже. — Г.Л.) вне культуры и профессионализма не может существовать» (119, 7).
На творческое наследие В. Ф. Ходасевича обращали внимание такие исследователи, как Д. Бетеа, Н. А. Богомолов, С. Г. Бочаров, А. В. Зорин, И. З. Сурат, А. Б. Ранчин, М. Г. Ратгауз и другие, работы которых носят обзорный характер и являются свидетельством начала рождения науки о Ходасевиче. Однако на сегодняшний день не существует достаточно весомых монографических исследований, посвященных критике Ходасевича.
Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена обращением современного литературоведения к изучению критического наследия В. Ф. Ходасевича, которое не является тщательно проанализированнымв частности, осмысляется эстетическое освоение критиком классической литературы в аспекте проблемы взаимодействия текста и контекста и использования им биографического метода.
Все вышесказанное позволяет сформулировать цель настоящего исследования — выявить своеобразие литературной критики В. Ф. Ходасевича, преимущественно на материале работ, посвященных творчеству мастеров слова XVIII—XIX вв.еков.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
1) выявить причину обращения Ходасевича к исследованию жизни и творчества писателей XVIII—XIX вв.еков;
2) определить методологию, подходы критика к рассмотрению как отдельных произведений, так и направлений в классической литературе рассматриваемого периода;
3) определить литературно-критические принципы, использованные Ходасевичем для анализа русской литературы;
4) исследовать своеобразие взгляда Ходасевича на сущность искусства.
Объектом исследования является та часть литературно-критического опыта Ходасевича, которая имеет отношение к русской классике XVIII—XIX вв.еков. Наиболее обстоятельному анализу подвергается роман «Державин», статьи «Державин (К столетию со. дня смерти), „О пушкинизме“, „О чтении Пушкина“, „Пушкин в жизни“ (по поводу книги В.В. Вересаева)» и др., а также очерк «Брюсов» для выявления эстетических принципов Ходасевича-критика.
Большое значение для нас в ходе работы имели прямые свидетельства писателей (эпистолярное наследие, мемуарные источники). Привлекались также публицистические статьи, воспоминания и отзывы современников о Ходасевиче.
Предметом исследования являются литературно-критические взгляды Ходасевича на русскую литературу XVIII—XIX вв.еков.
Методологической основой диссертационного исследования являются принципы сравнительно-исторического и текстологического анализа. В работе мы опираемся на труды.
Н.А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Г. Бочарова, И. З. Сурат О. Шпенглера и др.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые дан анализ критического наследия Ходасевичаисследован биографический метод в его работахвыявлены существенные черты его этико-эстетической концепции. Кроме того, мы придаем большое значение тому обстоятельству, что это не собственно критика, а критика художника слова. По замечанию В. Вейдле: «Ходасевич остался поэтом, когда поэзия его умолкла» (93, 28). Писатели-критики (и Ходасевич не является исключением) тоньше ощущают художественную ткань произведения, они проницательнее в своих эстетических позициях.
Основные положения, выносимые на защиту;
— абсолютная независимость Ходасевича-критика, формировавшего свою эстетико-философскую концепцию максимально самостоятельно. Отсюда — чуждость любым группировкам, подчеркнутое «невхождение» ни в какие кружки, непринадлежность ни к каким школам, многочисленным в культурной жизни России начала XX века;
— Ходасевич — представитель биографического критического методатворчество каждого художника он стремится воспринимать с учетом общественно-исторического, культурологического контекста, но главное для него — тесная связь личности автора и его творчества. Кроме того, этика и эстетика для Ходасевича — категории друг от друга неотделимые, поэтому, с его точки зрения, человек нравственно несостоятельный великим художником быть не может.
— Ходасевич — ярко выраженный консерватор в плане художественного вкуса. Шкала эстетических ценностей, выработанная эпохой Державина-Пушкина, является для него тем ориентиром, по которому необходимо сверять значимость современного искусства. Главный критерий истины для Ходасевича — решение вопроса Пушкиным, поэтому для критика «мнение Пушкина» и «истина» — абсолютные синонимы.
— Художественный текст Ходасевич стремится рассматривать в единстве формы и содержания. Особенно болезненно он воспринимает перенос в сторону приоритетного изучения формальной структуры текста, а не его содержательно-смысловой составляющей, чем и обусловлены многочисленные негативные отзывы критика о деятельности отечественных формалистов.
— По Ходасевичу, само понятие «объективность литературной критики» весьма зыбкое, ибо критика, по его мнению — прежде всего область творческого самовыражения, и субъективизм изначально заложен в ее природе.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы в дальнейшем изучении творчества В. Ф. Ходасевича, в лекционном вузовском курсе по истории русской литературы XX века, на практических занятиях и спецсеминарах, а также в преподавании литературы в школе.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры литературы Курского госпедуниверситета, излагались на научных конференциях («VI Фетовские чтения» (2000), «Юдинские чтения» -2000) — нашли отражение в четырех научных публикациях.
Структура исследования: состоит из введения, трех глав, заключения и списка художественной и научной литературы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Ходасевич-критик, как, собственно, и Ходасевич-поэт формировал свою эстетико-философскую концепцию максимально самостоятельно, независимо, практически не опираясь на творчество кого-либо из своих современников. Отсюда -«спокойное» вхождение в литературу, отсутствие программных деклараций, автономное положение среди представителей различных групп и школ, многочисленных в литературно-художественной жизни начала XX века. Эти независимость и самостоятельность характерны не только для эстетических, но и для общественно-политических воззрений писателя, и его коренное расхождение с большевизмом обусловлено прежде всего невозможностью сохранять собственную духовную свободу и неангажированность в рамках созданного ими режима.
Для Владислава Ходасевича выработанная отечественной литературой XIX века шкала эстетических и гуманистических ценностей всегда оставалась тем ориентиром, по которому необходимо сверять значимость собственного творчества и творчества современников. В связи с этим он выступает не просто в качестве сторонника, а даже активного пропагандиста классического искусства, которое олицетворяют для него прежде всего Державин и Пушкин. Пушкинское понимание любой проблемы для Ходасевича — главный критерий истины.
Этика и эстетика, как видно из его критических работ, — для Ходасевича категории неразделимые. Суждения Карамзина о том, что не может быть хорошим автором дурной человек, для Ходасевича актуально на все сто процентов. Творчество Ходасевич-критик воспринимает как прямое отражение личности художника, поэтому, проводя анализ художественных текстов, он стремится к выявлению при их помощи основных характеристик индивидуальности автора.
Ходасевич настойчиво отстаивает мысль об автобиографичности любого творчества, о непосредственном бытовании в художественных текстах либо в открытом, либо в завуалированном виде событий реальной жизни автора, в связи с чем он не считает возможным вести обстоятельный разговор о произведениях вне выяснения того, какие факты биографии художника могли послужить толчком к их созданию и обнаружить там свое присутствие. Ходасевич вообще не является сторонником так называемого «имманентного» анализа, когда текст рассматривается сам по себе, без привлечения дополнительной историко-биографической информации, поскольку для него подробный разговор об отдельном произведении или их группе не может быть самодостаточнымон призван дать представление о личности художника в целом, иначе говоря, привести к выводам, с точки зрения критика, более масштабным, нежели исчерпывающая, комплексная характеристика отдельно взятого текста. Поскольку из всех видов контекста важнейшим для Ходасевича является биографический, то мы и относим его творчество к биографической литературно-критической школе.
Как мы видим на примере работы, посвященной 100-летию со дня смерти Державина, Ходасевич в некоторых случаях не отрицал возможности и даже необходимости анализа отдельного текста без привлечения общественно-исторического и биографического контекста. Это, по мнению Ходасевича, исключительные случаи, при которых знание конкретного повода, послужившего толчком к созданию произведения, мешает адекватно оценить его эстетическую значимость, не ограниченную рамками времени написания текста. Впрочем, это то самое исключение, которое только подтверждает общую приверженность Ходасевича к рассмотрению отдельных текстов в контексте биографии художника.
Как творчество для Ходасевича неотделимо от личности автора, так же в неразрывном единстве воспринимаются им форма и содержание художественного произведения. Перенос в сторону приоритета изучения формальной структуры текста, а не его смысловой составляющей, воспринимается критиком особенно болезненно, отсюда — крайне негативное отношение Ходасевича к деятельности формалистов в целом и В. Шкловского в частности. Жесткая и в большинстве случаев несправедливая критика Ходасевичем формальной школы основана на убеждении, что частные наблюдения над текстами не имеют своего «во имя», если они лишены сквозной, обобщающей мысли. Вообще, «формалист» в восприятии Ходасевича — слово ругательное, не случайно Вересаева за его книгу «Пушкин в жизни», где биография поэта, с точки зрения критика, предстает оторванной от его творчества, Ходасевич именует «формалистом наоборот».
Литературная критика, по Ходасевичу, может только стремиться к объективности анализа, но достичь ее не в состоянии, ибо вообще не существует единственно, правильного взгляда на художественное произведение — у каждого времени, у каждого исследователя, к примеру, — свой Пушкин, и это, как полагает Ходасевич, совершенно нормально, ибо обусловлено самой природой литературной критики. Критика для Ходасевича — такая же область самовыражения, как и художественная литература, поэтому читатель, знакомясь с критической работой, получает возможность судить прежде всего о личности критика. Чтобы судить о поэте, утверждает Ходасевич, надо читать самого поэта, а не то, что о нем написано кем-то другим. Таким образом, Ходасевич отдает явное предпочтение интерпретаторскому подходу к художественному тексту, и даже остается непонятным, где же границы интерпретаторской вольности критика.
Взгляд Ходасевича на природу литературного творчества сугубо рационалистический. Ссылаясь на Пушкина как на высший авторитет, Ходасевич отвергает представление о художнике, как о человеке, творящем в экстатическом состоянии, и утверждает, что жизненные впечатления, тщательно отобранные и осмысленные автором — главная основа творчества. Искусство, по Ходасевичу, — процесс сотворчества художника и читателя (зрителя, слушателя), отсюда негативное отношение Ходасевича к кинематографу, который критик вообще не считает одним из видов искусства, так как одна из сторон в данном случае ведет себя пассивно.
В настоящее время к имени Ходасевича без всякого стеснения можно добавить эпитет «гениальный». Действительно, Владислав Ходасевич — поэт-пророк и неподкупный критик — стал значительным явлением в истории русской литературы и ширекультуре XX века. Именно в критической и литературоведческой работе он жил русской литературой, русской историей и русской культурой. Его литературно-критическое наследие, бравшее за образец русское классическое искусство, с которым он соизмерял все остальное, представляется актуальным и на сегодняшний день.
Список литературы
- Ходасевич В.Ф. Безглавый Пушкин // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Согласие, 1996. — С. 477−480.
- Ходасевич В.Ф. Богданович // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — 455−460.
- Ходасевич В. М.О. Гершензон. Статьи о Пушкине // Дни. -1926. № 984. — 18 апреля.
- Ходасевич В.Ф. 1917−1927 // Звезда. 1995. — № 2. — С. 91−92.
- Ходасевич В. Ф, Erotopaegnia // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 234−237.
- Ходасевич В. Ф, Есенин // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. — С. 120−150.
- Ходасевич В.Ф. Казаки // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 449−454.
- Ходасевич В.Ф. Записная книжка // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2.-М.: Согласие, 1996. С. 7−14.
- Ходасевич В.Ф. «Жребий Пушкина», статья о. С. Н. Булгакова // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. -С. 402−408.
- Ходасевич В.Ф. «Пушкин в жизни» (по поводу книги В.В. Вересаева) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — С. 140−146.
- Ходасевич В.Ф. «Щастливый Вяземский» // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 205−209.
- Ходасевич В.Ф. Близкая даль // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 250−255.
- Ходасевич В.Ф. Брюсов // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 277−294.
- Ходасевич В.Ф. В. Ропшин (Б. Савинков). Книга стихов // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. -С. 243−246.
- Ходасевич В.Ф. Глуповатость поэзии // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 191−196.
- Ходасевич В.Ф. Двенадцатая ночь // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 566−568.
- Ходасевич В.Ф. Дельвиг // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991.1. С. 209−214.
- Ходасевич В.Ф. Державин (К столетию со дня смерти) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. -С. 39−47.
- Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Книга, 1988. — 384 с.
- Ходасевич В.Ф. Дмитриев // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 147−150.
- Ходасевич В.Ф. Жизнь Василия Травникова // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.З. М.: Согласие, 1997. — С. 95−115.
- Ходасевич В.Ф. К столетию «Пана Тадеуша» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — С. 309−314.
- Ходасевич В.Ф. Канареечное счастье // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991.- С. 611−612.
- Ходасевич В.Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 269−277.
- Ходасевич В.Ф. Кощунства // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.З. М.: Согласие, 1997. — С. 455−463.
- Ходасевич В.Ф. Кровавая пища // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 463−466.
- Ходасевич В.Ф. Магические рассказы // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 178−180.
- Ходасевич В.Ф. Младенчество: Отрывки из автобиографии // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. -С. 190−209.
- Ходасевич В.Ф. Муни // Ходасевич В. Ф., Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 313−323.
- Ходасевич В.Ф. О «Гаврилиаде» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — С. 71−76.
- Ходасевич В.Ф. О кинематографе. // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 135−139.
- Ходасевич В.Ф. О пушкинизме // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 196−200.
- Ходасевич В.Ф. О символизме // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 544−546.
- Ходасевич В.Ф. О формализме и формалистах // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. -С. 153−158.
- Ходасевич В.Ф. О форме и содержании // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 268−273.
- Ходасевич В.Ф. О Чехове // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. -С. 249−252.
- Ходасевич В.Ф. Отплытие на остров Цитеру // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. — С. 603−607.
- Ходасевич В.Ф. О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — С. 114−120.
- Ходасевич В. Ф. Письмо к Ю.И. Айхенвальду // Ходасевич
- B.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. — С. 501−502.
- Ходасевич В.Ф. Письмо к А.И. Тинякову // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. — С. 393−394.
- Ходасевич В.Ф. Письмо к Г.И. Чулкову // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Согласие, 1997. — С. 391−392.
- Ходасевич В.Ф. По поводу «Ревизора» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 336−344.
- Ходасевич В.Ф. Пролеткульт и т.п.: Из воспоминаний // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.4. М.: Согласие, 1997.1. C. 223−228.
- Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1989 (Б-ка поэта. Большая серия). — 464 с.
- Ходасевич В.Ф. Умирание искусства // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. — С. 444−448.
- Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. -Париж, 1961.
- Адамович Г. Одиночество и свобода. — М.: Республика, 1996. 446 с.
- Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. — 589 с.
- Алданов М. В.Ф. Ходасевич // Русские записки. 1939. -№ 19. — С. 182−183.
- Андреева И.П. Ходасевич. Письма М. В. Вишняку // Знамя. -1991. № 12. -С. 178−212.
- Андреева И.П. Комментарии к разделу «Письма» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: согласие, 1997. -С. 594−713.
- Андреева И.П. Комментарии к разделу «Проза» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Согласие, 1997. — С. 512−519.
- Анна Ахматова в записях Дувакина / Вступ. ст. и коммент. О. С. Фигурнова. М.: Наталис, 1999. — 367 с.
- Анненков Ю.П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1991. — 344 с.
- Аннинский Л.А. Серебро и чернь. М.: Просвещение, 1997. -256 с.
- Бавин С.П., Семибратова И. В. Судьбы поэтов «серебряного века». М.: Кн. палата, 1993. — 475 с.
- Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии. // Серебряный век: В поэзии, документах, воспоминаниях: Хрестоматия. М.: Локид, 2000. — С. 16−18.
- Белинский В.Г. Полное собр. соч.: В 13 т. Т.6. Статьи и рецензии 1842−1843. М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 798 с.
- Белый А. Рембрандтова правда наших дней: О стихах Ходасевича // Нева. 1996. — № 5.- С.207−214.
- Бень Е. «Жестоко вы написали, но превосходно» // Наше наследие. 1988. — № 3. — С. 78−94.
- Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография. = М.: Согласие, 1996.- 736 с.
- Бердяев Н. Кризис искусства. Репринт, изд. — М.: СП Интерпринт, 1990. — 47 с.
- Бицилли П.М. Державин // Ходасевич В. Ф. Державин. М.: Книга, 1988. — С. 371−374.
- Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5: Проза. 1903−1917. М.- Л.: Гослитиздат, 1962. — 799 с.
- Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Ходасевич В. Ф. Стихотворения. JL: Советский писатель, 1989. -С. 5−48.
- Богословский Н.В. Пушкин-критик. М.: Гослитиздат, 1950. — 759 с.
- Бочаров С.Г. «Пушкин в жизни» Ходасевича (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М.: Согласие, 1996. — С. 497−499.
- Бочаров С.Г. «Но все ж я прочное звено» // Новый мир. -1990. № ¾. — С. 160−183.
- Бочаров С.Г. Тяжелая лира Владислава Ходасевича // Ходасевич В. Ф. Тяжелая лира. М.: Панорама, 2000. — С. 5−24.
- Бочаров С. Г, Петербургские повести Пушкина (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. -С. 473−475.
- Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М.: Наука, 1974. — 207 с.
- Брюсов В. Дебютанты // Весы. 1908. — № 3. — С. 79.
- Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М.: Русская книга, 1992. — 525 с.
- Булгаков С.Н. Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX первая половина XX века. -М.: Книга, 1990. — С. 270−294.
- Бунин И. Думая о Пушкине // Центральный пушкинский комитет в Париже (1935−1937): В 2 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 2000. — С. 134−143.
- Буслаев Ф.И. Мои досуги, собранные из периодических изданий. Мелкие сочинения: В 2 ч. Ч. 2. М., 1886. — 480 с.
- Бэлза С. К истории русских переводов Мицкевича // Советское славяноведение. — 1970. № 6. — С. 67−73.
- В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России / Сост., вступ. ст., коммент. И. А. Исаева. М.: Русская книга, 1992. — 384 с.
- Валентинов Н.В. Два года с символистами. М.: Издат. дом «XXI век — согласие», 2000. — 381 с.
- Вацуро В.Э. Пушкинская проза: Сборник. — СПб.: Академический проект, 2000. 620 с.
- Вейдле В. Некрополь // Нева. 1996. — № 5. — С. 208−210.
- Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973.
- Вейдле В. Поэзия Ходасевича // Современные Записки. -Париж, 1928. Кн.34.
- Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. — С. 57−59.
- Вересаев В.В. Сочинения: В 4 т. Т. 2: Пушкин в жизни. М.: Правда, 1990. — 558 с.
- Волчек Д. Владислав Ходасевич. «Брюсов» // Волга. 1989. -№ 7. — С. 101−112.
- Воспоминания о серебряном веке. М.: Республика, 1993. -558 с.
- Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова- Разумника 1942−1946 годов / Публ., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Раевской-Хьюз. М.: Русский путь- Париж: YMCA-PRESS, 2001. — 397 с.
- Гаспаров M. J1. Избранные труды. Т. 2: О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997. — 501 с.
- Гей Н. К. Проза Пушкина: поэтика повествования. М.: Наука, 1989. — 269 с.
- Гершензон М.О. Видение поэта. М., 1919.
- Герштейн Э. Ахматова пушкинистка // Ахматова А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. — М.: Книга, 1989. — С. 316−352.
- Гинзбург Л. Ахматова. Несколько страниц воспоминаний // Ахматова А. А. Избранное. М.: Просвещение, 1993. — С. 289 295.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Советский писатель, 1974. -408 с.
- Гиппиус З.Д. Письма к Берберовой и Ходасевичу.- Ann, Arbor, 1978.
- Городецкий Б.П. История русской критики: В 2 т. Т. 1. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. — 635 с.
- Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции. Т.З. — Нью-Йорк: Мост, 1989.
- Гумилев Н.С. Наследие символизма и акмеизм. // Серебряный век: В поэзии, документах, воспоминаниях: Хрестоматия. М.: Локид, 2000.- С. 109−111.
- Гусев В. «Чрез звуки лиры и трубы» // Державин Г. Р. Стихотворения. Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1980. — С. 5−24.
- Державин Г. Р. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1982. -256 с.
- Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма.- М.: Наука, 1989. 174 с.
- Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца 18 начала 19 века // Труды по знаковым системам. Т.13: Уч. зап. ТГУ. Вып.546. — Тарту, 1981.
- Зноско-Боровский Е. А. Искусство кинематографа // «Воля России». 1927. -№ 7.
- Зорин A.JT. Жизнь Василия Травникова (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.З. М.: Согласие, 1997. — С. 539−540.
- Зорин A.JI. Начало // Ходасевич В. Ф. Державин. М.: Книга, 1988. — С. 5−36.
- Ходасевич В.Ф. Собрание стихов. М.: Центурион- Интерпракс, 1991. — С. 413−433.
- Карамзин Н.М. Что нужно автору? // Кулешов В. И. Русская критика 18−19 веков: Хрестоматия. М.: Просвещение, 1978. -С. 25−27.
- Кибальник С.А. Пушкин и современная культура. JT.: Знамя, 1989. — 31 с.
- Колкер Ю. Айдесская прохлада: Очерк жизни и творчества В. Ходасевича // В. Ходасевич. Собрание стихов: В 2 т. Т.2. -Paris: La Presse Libre, 1982 83.
- Костиков В. Не будем проклинать изгнанье.: (Пути и судьбы русской эмиграции). М.: Междунар. отношения, 1990.- 464 с.
- Куликова Е.Ю. Петербургский текст в лирике В.Ф. Ходасевича: «Тяжелая лира», «Европейская ночь»: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Новосибирск, 2000, = 20 с.
- Курилов А.С. Традиции русской критической мысли. М.: Знамя, 1974. — 63 с.
- Лаврин А. «Дар тайнослышанья тяжелый» // Ходасевич В. Ф. Собрание стихов. М.: Центурион- Интерпракс, 1992. — С. 1−3.
- Левкович Я.Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина.- Л.: Наука, 1988. 327 с.
- Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1: 1924−25 гг.- Paris: YMCA PRESS, 1991. 347 с.
- Львов Л.И. Пушкин и Россия // Центральный пушкинский комитет в Париже (1935−1937): В 2 т. Т. 2. М.: Эллис Лак, 2000. — С. 124−136.
- Мадорский А. Сатанинские зигзаги Пушкина. М.: Поматур, 1998. — 351 с.
- Маковский С.К. На Парнасе Серебряного века. М.: Издат. дом «XXI век — согласие», 2000, — 557 с.
- Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб.: Алетейя, 2000.- 414 с.
- Маркович В.М. «Новое» и «старое» в суждениях русской зарубежной критики о Пушкине (1937 г.) // Пушкин и культура русского зарубежья. М.: Русский путь, 2000. — С. 9−32.
- Мережковский Д. Пушкин // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX первая половина XX века. — М.: Книга, 1990. — С.92−160.
- Мир искусства, 1899. № 5. — С. 8,10.
- Мочульский К.В. Возрождение Пушкина // А. С. Пушкин: pro et contra: Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 2000. — С. 26−29.
- Набоков В. О Ходасевиче // Нева. 1996. — № 5. — С. 207−214.
- Набоков В. Романы, рассказы, эссе. СПб.: Фирма «Энтар», 1993. — 350 с.
- Непомнящий В! М. Да укрепимся // Речи о Пушкине. 18 801 960-е гг.: Сб. статей. М., 1999. — С.378.
- Одоевцева И.В. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. -332 с.
- Орлов Вл. Сильная вещь поэзия // Цветаева М. Мой Пушкин. — Алма-Ата: Рауан, 1990. = С. 4−16.
- Перельмутер В. Ходасевич // Русские писатели. XX век: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. М-Я / Редкол. Б.Ф. Еторо-в-и др. Под ред. П. А. Николаева. М.: Просвещение, 1990. — С.355−356.
- Перхина В. Правда душевно-духовного знания. Современники о Ходасевиче // Нева. 1996. — № 5. — С. 207 214.
- Петровская Е.М. Поэтика прозы В. Ходасевича: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Омск, 1998.- 21 с.
- Писарев Д.И. Собр. соч.: В 4 т. Т. З: Статьи. 1864−1865. М.: Гослитиздат, 1956. — 570 с.
- Проблемы современного пушкиноведения: Памяти Е. П. Маймина. Псков.: Изд-во Псковск. гос. пед. ин-та им. С. М. Кирова, 1999. — 264 с.
- Пушкин, Достоевский. Пб.: Издание Дома литераторов, 1921.
- Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919−1939 гг. М.: Прогресс-Академия, 1994. -296 с.
- Рапацкая JI.A. Русское искусство 18 века. М.: Просвещение- Владос, 1995. — 191 с.
- Ратгауз М.Г. Магические рассказы Ходасевича (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. -С. 509−510.
- Ратгауз М.Г. О кинематографе Ходасевича (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996. -С. 495−497.
- Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990.- 620 с.
- Русские поэты XIX века: Первая половина / Сост. М. С. Вуколова, вступ. ст. Л. И. Ошанина, авт. послесл. В. И. Коровин. М.: Просвещение, 1991. — 479 с.
- Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М.:
- Эллис Лак, 1997 816 с.? 178. Садовский Б. А. Г. Р. Державин // Ходасевич В. Ф. Державин.
- М.: Книга, 1988. С. 342−350.
- Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма: Проблема «жизнетворчества». Воронеж: Изд-во Воронеж, ун.-та, 1991. -320 с.
- Серман И. З, Державин. Л.: Просвещение, 1967. = 119 с.
- Смит А. Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве М. Цветаевой. М.: Дом-музей М. Цветаевой, 1998. — 249 с.
- Смоленский В.А. Мысли о Владиславе Ходасевиче // Смоленский В. А. «О гибели страны единственной.»: Стихи и проза. М.: Русский путь, 2001. — С. 274−279.
- Современное русское зарубежье. М.: Олимп- ООО «Фирма «Издательство ACT», 1998. — 528 с.
- Сурат И.З. «Кощунства» Ходасевича (комментарии) // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т.З. М.: Согласие, 1997. -С.570−574.
- Сурат И.З. Пушкинист Владислав Ходасевич. — М.: Лабиринт, 1994. 111 с.
- Сурат И.З. Пушкинский юбилей как заклинание истории // Новый мир. 2000. — № 6. — С. 176−186.
- Ткаченко О.С. Жанровое своеобразие прозы Ходасевича: Автореф. дис. канд. филол. наук. Тверь, 2001. — 18 с.
- Урнов Д.М., Сайтанов В. А. Монтаж мнений эпохи // Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.: Московский рабочий, 1984. -С.3−19.
- Федякин С.Р. Н. Гумилев, В. Ходасевич, Г. Иванов. Стихи. Проза. М.: ACT: Олимп, 2002. — 565 с.
- Филин М. Вечные спутники. А. Пушкин // Слово. 1990. -№ 6. — С. 51−62.
- Филин М. О Пушкине и окрест поэта: (Из архивных разысканий). М.: Терра, 1997. — 352 с.
- Франк С.Н. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М.: Книга, 1990. — С. 380−396
- Цветаева М.И. Мой Пушкин. Алма-Ата: Рауан, 1990. -205 с.
- Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т.6. — М.: Эллис Лак, 19 941 995.- 456 с.
- Челышев Е.П. Пушкиноведение: Истоки и перспективы: К 200-летию со дня рождения поэта // Пушкин и современная культура. М, — Наука, 1996. — С. 3−30.
- Шагинян М.С. Человек и время. М.: Сов. писатель, 1980.
- Шевеленко И.Д. «Бывают странные сближенья»: Пушкин в творческом мире Цветаевой 1930-х годов // Пушкин и культура русского зарубежья. М.: Русский путь, 2000. — С. 49−63.
- Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность. Мн.: ООО «Попурри», 1998. — 688 с.
- Bethea David М. Khodasevich: His life and art. New Jersey: Prinscton Universite Press, 1983. 83 p.
- Malmstad J.E. Khodasevich and Formalism. A Poet s Dissent // Russian Formalism: A retrospective glance. New Haven, 1985. -P. 76−82.