Бронзолитейное производство Прикамья в постананьинский период
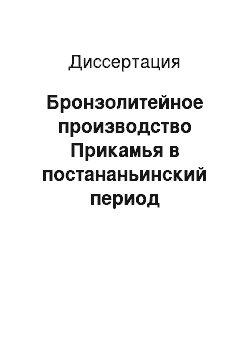
Очерчены были и основные технологические приемы металлообработки на разных археологических этапах, но не всегда выводы о качестве литья и металлообработки были однозначны. На фоне преобладания мнения о высоком уровне бронзолитейного производства у народов Прикамья на всех этапах развития существовала и точка зрения о некотором «примитивизме» и импортном происхождении высокохудожественных изделий… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. История изучения бронзолитейного производства постананьинского времени в Прикамье
- 1. История формирования источниковедческой базы бронзолитейного производства в Прикамье
- 2. Эволюция аналитических исследований по изучению бронзолитейного производства в Прикамье
- Глава II. Сырьевая и производственная база цветной металлургии в
- Прикамье
- 1. Месторождения медных руд
- 2. Химический состав медных руд Прикамья
- 3. Полуфабрикаты сырьевого назначения
- 4. Технология получения меди специалистами Прикамья
- 5. Производственные сооружения
- Глава III. Орудия литья в Прикамье
- 1. Тигли
- 2. Льячки
- 3. Литейные формы
- Глава IV. Химический состав прикамских изделий из цветного металла постананьинского времени
- 1. История изучения химического состава прикамских изделий
- 2. Химический состав бронзовых изделий памятников I тысячелетия н.э. бассейна р. Вятки
Бронзолитейное производство Прикамья в постананьинский период (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Литье бронзы в Прикамье является одним из наиболее древних видов производств. Как известно, оно сформировалось на основе знаний рецептов литья меди — первого металла, открытого человеком (рис. 1, 2). К настоящему времени собраны тысячи медных и бронзовых предметов, происходящих из различных уголков Прикамья и датируемых, начиная с эпохи энеолита вплоть до позднего средневековья.
Наиболее изученным является металл энеолита (Бадер О.Н., 1961; Наговицын Л. А., 1984, 1987; Черных Е. Н., 1966, 1970; Кузьминых С. В., 1977; 1980; Болыпов С. С., 1994 и др.), бронзы (Черных Е.Н., 1970; Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1984 и др.) и ананьинской археологической общности (Кузьминых С.В., 1982, 1983 и др.). Менее изученными остаются материалы постананьинского времени.
Вместе с тем, памятники позднего железного века и средневековья Прикамья содержат значительное количество артефактов, дающих возможность для реконструкции бронзолитейного производства этого периода. Это не только медные и бронзовые вещи, но и остатки производственных сооружений, а также приспособления для реализации дальнейших циклов производства, включая литье (тигли, льячки, литейные формы) и металлообработку (ювелирные щипчики, наковаленки, молоточки, пуансоны и др.). Кроме того, яркими свидетельствами существования бронзолитейного производства могут служить полуфабрикаты (например, слитки) и отходы (шлак). Особый источник представляют специализированные погребения литейщиков, содержащие не только готовую продукцию, но и предметы литья и металлообработки.
В той или иной степени упомянутые артефакты не раз выступали объектами исследований. С XIX в. начинает формироваться фактологическая база по бронзолитейному производству постананьинского времени, но только в 50−60-е гг. XX в. происходит значительный качественный скачок в этой области. В научный оборот, кроме вещественных артефактов (предметы, орудия труда), вводится информация о производственных комплексах, погребениях мастеров-литейщиков. Темпы роста источников возросли в 7090-е гг. А на рубеже XX-XXI столетий в связи с успехом развития городской археологии и этноархеологических исследований впервые вводится материал о медеплавильном производстве позднего средневековья и нового времени. Не менее интересна и появляющаяся информация о культовых местах, связанных с цветной металлургией.
По мере накопления материала был обозначен и ряд аналитических проблем. Исследователи пришли к выводу о существовании местной сырьевой базы бронзолитейного производства. Однако на данный момент не доказана взаимосвязь между залежами руд и конкретными археологическими памятниками и культурами. За более чем 200 лет собрана немалая информация о местной выплавке металла на поселениях, о наличии, особенностях плавильных сооружений, древних экспериментах по модернизации процесса выплавки и литья. Но эти данные обобщались, чаще всего, на уровне памятников, реже на уровне культур и далеко не все территории Прикамья и не все материалы, особенно рубежа XX—XXI вв., включены в обобщающие схемы.
Выявлены и изучены стандартные наборы литейных инструментов, обозначено их разнообразие по материалу, формам, размерам, дополнительным элементам. Насущная задача сегодняшнего дняструктурирование этого материала на основе единых принципов классификации и типологии, без которых невозможны сравнительные сопоставления.
Очерчены были и основные технологические приемы металлообработки на разных археологических этапах, но не всегда выводы о качестве литья и металлообработки были однозначны. На фоне преобладания мнения о высоком уровне бронзолитейного производства у народов Прикамья на всех этапах развития существовала и точка зрения о некотором «примитивизме» и импортном происхождении высокохудожественных изделий. Снятие этих противоречий возможно только с широким использованием междисциплинарных методик анализа. Прежде всего, это касается изучения химического состава изделий. Без знания о нем сложно проследить источники поступления сырья, технологии, которые мастер применял в производстве и, в целом, представить картину уровня бронзолитейного производства. Аналитическая база исследований химического состава изделий начала формироваться еще в конце 20-х гг. XX столетия, но расширялась крайне медленно и неравномерно. Данные о сплавах небольших комплексов чегандинской, азелинской, гляденовской, ломоватовской, родановской культур хотя и позволили обозначить ряд общих особенностей бронзолитейного производства, но не были достаточными для воссоздания картины в целом. На сегодняшний день химический состав меди и бронзы на массовых сериях металлических изделий Прикамья еще не проводился.
Исходя из обозначенных проблемных блоков, целью данной диссертационной работы явилось обобщение данных о бронзолитейном производстве Прикамья в постананьинское время и выявление историко-технологической специфики цветной металлургии вятских археологических культур. Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи:
1. Анализ формирования фактологических и аналитических знаний по бронзолитейному производству Прикамья в постананьинский период.
2. Определение сырьевых источников и особенностей производственной базы цветной металлургии Прикамья.
3. Характеристика предметной сферы (орудия труда) бронзолитейного производства на основе единых принципов классификации и типологии.
4. Изучение химического состава меди и бронз на массовых сериях металлических изделий вятских археологических культур.
Объектом исследования выступает бронзолитейное производство, прежде всего, с точки зрения археологических артефактов: производственные сооружения, полуфабрикаты, отходы, орудия труда, металлические изделия, а также технологической составляющей: производственные циклы и химико-металлургические группы меди и сплавов на ее основе.
Предмет исследования — развитие и особенности бронзолитейного производства Прикамья в постананьинский период. В работе не рассматриваются вопросы металлообработки (кроме литья), которые могут выступать самостоятельным направлением изучения технологии изготовления изделий цветной металлургии с применением металлографического анализа.
В работе исследуются материалы, которые происходят с территории Прикамья, включающей бассейны pp. Камы и Вятки с многочисленными притоками. В административном отношении это Удмуртия, Кировская и Пермская области, северные районы Татарии и Башкирии. Хронологические рамки исследования охватывают период с III в. до н.э. до XVII вв. н.э. Нижняя дата совпадает с распадом ананьинской археологической общности. Верхняя хронологическая граница исследования соответствует появлению в Прикамье первых русских медеплавильных заводов.
За этот период происходят существенные изменения, включающие как историко-археологические трансформации в развитии традиционных этносов Прикамья, так и общекультурологические в эволюции бронзолитейного производства.
На ананьинской основе в III в. до н.э. — V в. н.э. в Прикамье формируются две археологические общности: пьяноборская и гляденовская. Первая представлена памятниками чегандинской культуры (III-II вв. до н.э. -V в. н.э.) Нижнего Прикамья и низовий р. Белойкара-абызской культуры (III в. до н.э. — III в. н.э.) среднего течения р. Белойхудяковской культуры (I в. до н.э. — V в. н.э.) бассейна р. Вятки и памятниками локального среднекамского (р.Тулва) варианта I—V вв. н.э. (Голдина Р.Д., 1999, с.207−210), связанных с процессами оформления праудмуртских этносов (Голдина Р.Д., 1987, 1999). Варианты гляденовской общности на Средней и Верхней Вычегде, верховьях Печоры, Верхнем и Среднем Прикамье, по мнению исследователей, отражают начало обособления пракоми. В III—V вв. н.э. прикамские культуры в разной степени оказались вовлеченными в процессы великого переселения народов.
В бронзолитейном производстве в этот период происходят кардинальные изменения. Завершается, начавшееся ещё в V—IV вв. до н.э., вытеснение бронзы железом при изготовлении орудий труда и оружия. Из меди и бронзы стали делать, в основном, украшения. Они приобрели массовость и стандартность. Возрастает роль не только литья, но и металлообработки. Судя по характеру некоторых археологических источников (клады, погребения литейщиков, крупные производственные зоны на отдельных поселениях) идут начальные процессы ремесленизации в области металлургии в целом и дифференциация металлообработки цветного металла и железа.
В V—IX вв. в Прикамье на основе пьноборской и гляденовской общностей оформляются раннесредневековые, в основе своей пермоязычные, археологические культуры: в бассейне р. Сылвы — неволинская (IV-IX вв.) — на р. Чепце — поломская (V-IX вв.) — в Верхнем Прикамье — ломоватовская (V-IX вв.) — на Нижней Каме (с правобережными притоками) — верхнеутчанская (VI-IX вв.) — в бассейне р. Вятки, включая многочисленные правои левобережные притоки, верховья рек Большой и Малой Кокшаги — еманаевская культура (VI-IX вв.). Традиционные этносы Прикамья в этот период испытывают существенное влияние со стороны саргатского мира Западной Сибири, культур поволжских финнов и, особенно, славянской именьковской культуры Поволжья и Нижнего Прикамья с развитыми традициями во всех сферах производства, в том числе бронзолитейного.
В это время набирает силу процесс «второго крупного разделения труда», при котором группы специалистов-металлургов сосредотачивают в своих руках не только средства производства и орудия труда, но и возможность распоряжаться дальнейшим распределением своей продукции. По археологическим источникам фиксируется появление «специализированных» металлургических центров.
X-XIII вв. в Прикамье это время формирования новых археологических культур развитого средневековья. Так, в бассейне р. Вятки сложилась кочергинская культура (X-XV вв.), на Нижней Каме — чумойтлинская (X-XIV вв.) — в Верхнем Прикамье — родановская (X-XIV вв.), а в бассейне р. Чепцычепецкая культура (X-XIII вв.). В материальной культуре населения Камско-Вятского междуречья фиксируется влияние Волжской Болгарии и начинают проявляться древнерусские параллели.
Вследствие возрастания роли торговли часть поселений стала носить торгово-ремесленный характер. Одну из ведущих позиций занимало производство металлических изделий. Ремеслом на подобных поселениях могли заниматься либо мастера отдельных родов, либо представители делокализованных ремесленных родов-кланов, рассеянных по разным поселениям. Кроме того, ремесленники могли образовывать различные профессиональные союзы и расселяться на территории поселения по особым кварталам и улицам (Белавин A.M., 2001, с. 142).
В XIV—XVII вв. Прикамье прочно входит в орбиту влияния русского населения. В XIV—XV вв. мастера по металлу, в основном, были сосредоточены в торгово-ремесленных центрах и занимались производством металлических изделий в специальных медных мастерских или в кузницах, сочетая литье цветных металлов с производством железа. Начиная с XVI в. метизы изготовляются в городах (Хлынов, Слободской и др.), дворцовых селах, монастырских слободах и деревнях. Так, по данным дозорной книги 1615 г., в г. Хлынове упоминается кузница Ивашки Сабанаева (РГИА, ф.91, оп.1, д. 1030, л. З об.), в Санчурске — 9 кузниц (Переписная книга Царево-Санчурского посада и уезда, 1906, с.19−21). В Елабужской слободе в 1617 г. числился 1 кузнец (Переписная книга Елабуги, 1905, с.32).
В деревнях производством металлических изделий занимались черносошные крестьяне, сочетая его с земледелием (Гришина М.В., 1994, с.48). Их продукция шла по заказам односельчан и жителей соседних деревень. В отличие от посадских ремесленников, продукция которых продавалась на многочисленных «торжках» и «торжищах» (Бушуева B. JL, 1950, с.95), продукция деревенских кузнецов товарного характера не имела (Переписная книга Яранского посада и уезда, 1906, с.12−19).
Из письменных источников известно, что во многих центрах ремесленного производства (Сарапул, Елабуга, Каракулино и др.) проживали не только мастера по литью и обработке металла, но и рудознатцы. Но нередко поисками руды занимались и те, и другие (Эмаусский А.В., 1951, с.59).
На юге Удмуртии в последней четверти XVI в. развитие литья и кузнечного ремесла было приостановлено запретительными указами (Дмитриев В.Д., 1986, с.74−80). А в XVII в., в связи с началом строительства металлургических заводов, производство металлических изделий перешло на новый качественный уровень — промышленный.
С учетом этих культурологических процессов в диссертационной работе обобщаются данные по бронзолитейному производству постананьинского времени в Прикамье.
Источниковедческая база диссертационного исследования представлена несколькими видами источников. В работе использованы опубликованные источники, содержащие информацию об археологических артефактах бронзолитейного производства (изделия, орудия труда, остатки производственных сооружений, отходы производства) — источников сырья, геохимии руд и результатов проведенных химических анализов.
В качестве естественнонаучных и вещественных археологических источников автором диссертационного исследования впервые введены результаты анализа химического состава 319 предметов из 5 памятников 1-Х вв. н.э. вятских археологических культур, материалы которых исследовались Камско-Вятской археологической экспедицией УдГУ (под руководством Р. Д. Голдиной, Н. А. Лещинской, Л.Д.Макарова) и 18 предметов из 4 памятников IX—XIII вв. чепецкой культуры из раскопок В. А. Семенова, М. Г. Ивановой. Определение химического состава изделий проводилось в лабораториях биолого-химического факультета УдГУ (руководитель, д.б.н. В.В.Векшин) и ОАО «Ижсталь» (заведующий лабораторией спектральных анализов А.Ф.Крегер)*.
Из архивных источников использовались отчеты об археологических изысканиях из фондов Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ, ИА РАН. Для сравнительных характеристик введены архивные материалы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА) (ф.91 — «Таблицы Вольного экономического общества») и Государственного архива Кировской области (ГАКО) (ф.582 — «Канцелярия вятского губернатора»). Исследовались материалы по медеплавильной промышленности в Прикамье XVIII—XIX вв., прежде всего, с точки зрения организации производственных циклов медеплавильного производства и использования сырьевой базы региона.
В работе использовались методы, широко применяемые как в исторических, так и археологических исследованиях, для решения как частных (классификация, типология, локализация), так и общих (выявление общего и особенного в развитии бронзолитейного производства) вопросовэто сравнительно-исторический, типологический, картографический методы,
Автор выражает искреннюю признательность авторам раскопок, руководителям экспедиций за предоставленную возможность использовать материалыруководителем лабораторий — за проведение анализов химического состава изделий из цветного металла. ретроспективный анализ, метод аналогий. Для определения химического состава изделий, а в конечном итоге для историко-технологической характеристики бронзолитейного производства, использовались метод оптического (эмиссионного) спектрального анализа и методика вычисления коэффициента диапазона встречаемости естественных примесей.
Работа является первым опытом систематизации, структурирования и обобщения как уже известных данных, так и нового пласта эмпирических материалов о цветной металлургии Прикамья в постананьинский период на основе единых исследовательских подходов. В научный оборот впервые вводятся данные химического анализа, основанные на массовых сериях металлических изделий постананьинского времени в Вятском бассейне значительного хронологического периода 1-Х вв. н.э.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая имеющиеся данные можно констатировать, что с рубежа I тыс. до н.э. -1 тыс. н.э., несмотря на широкое внедрение железа, прикамский металлургический очаг не утрачивает своего значения как центра производства изделий из цветного металла не только для обществ Камско-Вятского междуречья, но и соседних территорий. На фоне преобладания местных уникальных коллекций бронзовой пластики, известных по чегандинским, худяковским памятникам (меньше по гляденовским, в связи с немногочисленностью погребальных памятников), в значительных количествах встречаются изделия сарматского облика — застежки с неподвижным крючком, лучковые подвязные фибулы. По мнению ряда исследователей (М.Г.Мошкова, А. С. Скрипкин, Р.Д.Голдина) подобные изделия, помимо использования на местном рынке, изготовлялись по заказам сармат. Приток прикамских изделий первой половины I тыс. н.э. отмечается и в материалах Западного Поволжья (Андреевская курганная группа, памятники кошибеевского типа).
Вместе с тем, нельзя и не отметить некоторую «пульсацию» (спады) в бронзолитейном производстве в Прикамье в определенные хронологические периоды. Так, в позднепьяноборских материалах наблюдается широкое использование железа в производстве украшений. Однако это носило узколокальный (Нижняя Кама, низовья р. Белой) и узкохронологический (преимущественно IV в. н.э.) характер и было связано, скорее всего, с нехваткой сырья и необходимостью разработки новых месторождений. И эти процессы не повлекли за собой существенных изменений в поступательном развитии прикамского очага бронзолитейного производства в целом, вплоть до XVI в., когда литье и кузнечное ремесло было приостановлено запретительными указами, а в XVII в. в связи с переходом на промышленную стадию производства.
Прогрессивное развитие прикамского металлургического очага в постананьинский период обеспечивалось не только тысячелетними традициями работы с медью и бронзой, мощным предшествующим ананьинским металлургическим очагом, высоким спросом на изделия из цветного металла, но и наличием необходимой сырьевой базы. Последняя у прикамских литейщиков существовала как за счет местного сырья, так и привозного (полуфабрикаты). В случае недостатка металла в качестве сырья могли использоваться металлический лом или переплавленные вещи.
Основу местной сырьевой базы бронзолитейного производства Прикамья составляли медистые песчаники Уральской горнометаллургической области. Они представляли из себя окисленные (малахит, азурит, куприт и др.) и сернистые (халькозин, ковеллин и др.) руды и отличались незначительными примесями. Руду выплавляли в непосредственной близости от рудников (археологические свидетельства отсутствуют) или на поселениях (находки кусков медистых песчаников на родановских памятниках Верхнего Прикамья). Процесс выплавки меди происходил в специальных сооружениях ямной конструкции с воздуходувным отверстием. Он был необходим для очистки меди и подготовки ее к дальнейшей обработке.
В качестве сырьевых полуфабрикатов широко применялись бесформенные и «стандартные» (с определенными параметрами химического состава, формы и размеров) слитки. Традиция использования преимущественно привозных металлических слитков (сурьмяно-мышьяковистые сплавы и оловянистые бронзы) отмечается С. В. Кузьминых для ананьинского времени. Количество и значение слитков в Прикамье возрастает с первой половины I тыс. н.э. Однако, судя по находкам литейных форм для их отливки, можно говорить не только о привозном, но и местном производстве полуфабрикатов.
Большая часть вылитых в формах слитков имела вид стержня разного сечения (треугольного, четырехугольного, чаще округлого), остальные — в виде «блинков» («чушек») (Анюшкар и т. д.). Судя по всему, размеры слитков заметно различались. Длина известных слитков достигала 6,2−32 см, толщина (диаметр) варьировала в пределах 0,3−1 см, иногда доходила до 6 см. Их «укрупнение» совпало с началом образования металлургических и торгово-ремесленных центров. Наиболее крупные слитки известны из раскопок мастерских Гурьякара, Иднакара и т. д.
Большинство слитков известных типов и форм для их отливки происходит с городищ и селищ (концентрируясь в мастерских или за их пределами) всех локальных территорий Прикамья, от эпохи пьяноборья до позднего средневековья. Преимущественно «стандартные» слитки встречаются в могильниках и кладах. Больше находок зафиксировано в позднепьяноборских могильниках. Они входили, чаще всего, в состав жертвенных комплексов женских погребений, в мужских лежали у головы или в ногах. Изредка находки слитков встречаются на харинских и неволинских могильниках. В составе кладов слитки больше известны для бассейна р. Чепцы периода развитого и позднего средневековья.
По химическому составу первенство принадлежит бронзовым слиткам. Найдены также медные, оловянистые, свинцовые, серебряные. Из двусоставных, кроме бронзовых, встречены медноникелевый и латунные. При этом, если медные и бронзовые слитки встречаются на всем протяжении I тыс. н.э., то серебряные получают распространение со второй половины I тыс. н.э. Прикамские слитки имеют как импортное (в основном, серебро, олово), так и местное (медь, свинец) происхождение. Наиболее вероятным центром экспорта (транзита) импортных слитков были памятники именьковской культуры и земли Волжской Болгарии. Но не исключена возможность экспортирования прикамскими мастерами слитков медных и бронзовых сплавов в обратном направлении. Слитки, как полуфабрикаты, были известны в Прикамье до XIV—XV вв., но единичные находки встречаются вплоть до XVIII в.
Эффективности бронзолитейного производства в Прикамье способствовало постепенное усовершенствование производственных сооружений по плавке (выплавке) и литью меди. Выявлены медеплавильни ямного и наземного типов.
Металлургические сооружения ямного типа имели два вида: яма и ямный горн. Ямы отличаются от горна не только более древним временем появления, но и рядом других признаков. Они, как правило, не имеют покрытия. Уровень прокала более низкий, потому что в обычной яме достичь температурный режим, подобный горновому, с теми же затратами ресурсов (уголь, флюсы) невозможно. Металлургические ямы выполняли такие функции как плавка меди из руды и получение штейна, рафинирование меди, литье (нагрев металлической массы в тиглях, литейных формах). Иногда эти функции выполнялись в одной яме, но чаще всего в нескольких. При этом, на некоторых памятниках при наличии нескольких ям, связанных с получением изделий из цветного металла, основной являлась плавильная.
Простые ямные сооружения, как правило, с глиняной обмазкой внутри начинают использоваться еще в энеолите. Они были крайне неудобны в применении, так как выдерживали минимальное число плавок (одну-две), но тем не менее встречались в Прикамье вплоть до позднего средневековья, скорее всего, из-за простоты и легкости устройства. Однако время их наиболее интенсивного использования ограничивается пределами функционирования пьяноборско-гляденовских памятников.
Уже с начала железного века в Прикамье появляются модификации ямных сооружений соответствующие понятиям «печь», «домница», «горн». Ямные горны, в отличие от простых ям, имеют покрытие — горновую камеру. В Прикамье известны следующие конструктивные особенности горнов: при сооружении горновой камеры использовались камень, галька, щебенка с глиняной обмазкой (Иднакар, Кушманское, Аргыжское городища) — устройства в основании деревянной рамы с глиняной обмазкой (Вятское, Кушманское, Опутятское, Анюшкар городища).
Кроме того, ямные горны имели дополнительные элементы оптимизирующие процесс металлопроизводства: а) предгорновую ямуб) отверстия для выпуска шлакав) углубления на дне для сбора шлакаг) воздуходувные устройства.
Ямные металлургические сооружения различались по формам и размерам. В Прикамье преобладают ямы овальной (Еманаевское, Иднакар городища, Володин Камень I селище и т. д.) и прямоугольной (Гурьякар, Еманаевское, Иднакар, Жигановское, Городищенское, Рождественское, Опутятское городища, Чашкинское II селище и т. д.) форм. Меньше встречаются круглые (Иднакар, Гурьякар городища, Качкашурское селище и т. д.).
По размерам ямные сооружения можно разделить на «небольшие», «средние», «крупные». «Небольшие» преобладали в Прикамье в эпоху железа (Барьязы, Сосновское, Горюхалинское, Черновское I городища и т. д.), когда их размеры (длина, ширина) не превышали 100 см, а глубина была не более 50−60 см. В эпоху средневековья стала наблюдаться тенденция их укрупнения до «средних» масштабов, когда условный показатель длины и ширины достиг 200−260 см, а глубины — 100−130 см и оставался преобладающим для всего Прикамья.
Металлургические сооружения наземного типа известны двух видов: очаг-кострище и горн. Наземные металлургические очаги-кострища в Прикамье встречаются с ананьинского времени. Очаги-кострища отличаются от горнов отсутствием крытой печной камеры. Но уровень прокала у них может быть таким же как у горнов, достигая в среднем 10−40 см.
Основное направление их модификации во времени было связано с организацией дополнительных устройств. Еще в ананьинское время появляется тенденция сооружения глиняных вымостков и использования каменных плит, которая в I тыс. н.э. проявляется значительно шире и в различных комбинациях: простые площадки прокаленной глины (Нижнее Прикамье) — очаги, окольцованные глиной (Верхняя Кама) — глиняные площадки с каменными обкладками (Верхняя Кама, Сылва). В территориальном отношении открытые очаги-кострища чаще зафиксированы на памятниках Верхней Камы.
Горны, как тип наземного металлургического сооружения, появляются в Прикамье с середины I тыс. н.э. и наибольшее количество зафиксированных объектов сосредоточено в бассейне р. Чепцы и на Верхней Каме. В их устройстве использовался песчаник, галечник, известняк, скрепленные глиняным раствором. С IX—X вв. к горнам стали пристраивать деревянную раму, обмазанную глиной. На Чепце горны устанавливались на глиняных подушках, фиксируются выступы для поддува. Особенность верхнекамсьсих горновых сооружений — наличие предгорновых ям. Сохранившиеся фрагменты горнов имели вертикальные или наклонные стенки, толщиной 15−20 см, предположительно высота горна составляла 50 см, рабочий объем не превышал 50−75 см .
Открытые очаги-кострища чаще встречаются на городищах, чем на селищах, как в составе литейных мастерских, так и в структуре жилого комплекса. В одних случаях они использовались для плавки, в других — для литья и металлообработки.
Горны, как правило, входили в состав мастерских, расположенных вне жилища, кузниц или рядом с ней. Кроме функций, связанных с производством железа (в ряде случаев) они использовались для рафинирования меди, литья или обработки (нагрева металлической массы в тиглях, литейных формах). Следов выплавки меди из руды и получения штейна в наземных сооружениях не зафиксировано.
Усложнение и совершенствование производственных сооружений, прежде всего, распространение горновой традиции, совпадает с выделением на археологических памятниках крупных производственных участков (с середины I тыс. н.э.), а затем специализированных центров и целых производственных микрорайонов. Это наиболее яркое археологическое свидетельство углубления процессов ремесленизации металлургического производства. Однако сочетание часто в одних и тех мастерских процессов получения цветного и черного металла, а также металлообработки, говорит о незавершенности специализации среди собственно металлургов.
Свидетельством бронзолитейного производства на прикамских памятниках является коллекция орудий литья, которая проанализирована с точки зрения типологического своеобразия и локальнохронологической специфики распространения.
Наиболее ранней формой тиглей в Прикамье являются рюмкообразные тигли. Они начинают функционировать в чегандинское время. Но наиболее интенсивный период их бытования приходится на середину I тыс. н.э. (VI-VII вв.). С IV—V вв. начинается распространение конусовидных тиглей, которые на всем протяжении I и II тыс. н.э. становятся ведущей формой в Прикамье, на некоторых памятниках сочетаясь с чашевидными и цилиндрическими формами.
С точки зрения распределения типов тиглей по отдельным территориям Прикамья, то здесь можно очертить лишь довольно условные ареалы, так как не все территории представлены достаточным количеством источников. В Вятском бассейне, включая и верховья pp. Б. и М. Кокшаги, с позднего пьяноборья, а особенно в середине I тыс. н.э., преобладают рюмкообразные тигли, которые единично встречаются затем на памятниках второй половины I тыс. н.э. С VIII в. только здесь широко распространяются конусовидные тигли с плоским днищем. Нигде, кроме бассейна р. Вятки, не зафиксированы цилиндрические тигли с плоским дном. На Нижней и Средней Каме (удмуртское течение) обнаружены самые ранние находки рюмкообразных и конусовидных тиглей. С эпохи средневековья становится заметным преобладание последних. В бассейне р. Чепцы комплекс тиглей относится к IX—XIV вв. и характеризуется преобладанием конусовидных форм. Однако здесь встречаются и оригинальные формы: бокаловидные и в форме чаши с прямыми стенками и квадратным устьем. По характеру распределения и сочетания типов к чепецкому району близка территория Верхней и Средней
Камы (пермское течение). Здесь также преобладают конусовидные тигли. В бассейне р. Сылвы зафиксировано сочетание на одних и тех же памятниках чашевидных и конусовидных тиглей.
Распределение льячек по хронологическим периодам и территориальным группам не достаточно равномерно. Представляется, что самыми ранними формами льячек были экземпляры с округлыми чашечками и круглыми в сечении втулками, которые оформляются в позднепьяноборское время и активно функционируют в VI — VII вв. н.э. Этот тип территориально локализуется на Нижней и Средней Каме, бассейнах рр. Сылвы и Вятки (первая пол. I тыс.). Второй, четко датируемый, тип представлен льячками с подтрапециевидной или подпрямоугольной чашечкой с плоским основанием и втулкой с квадратным или прямоугольным сечением. Они хорошо датируются второй половиной I тыс. н.э. (по материалам Еманаевского городища), захватывая, вероятно, и начало II тыс. и специфичны только для Вятки. Своеобразен комплекс «трубкообразных» льячек, которые встречаются на памятниках р. Чепцы (Иднакар) и Верхней Камы (Кудымкарское, Рождественское городища, Чашкинское II селище) в период IX—XIII вв. Чепецкие экземпляры отличаются от верхнекамских уплощенной формой втулки.
Литейные формы демонстрируют огромное разнообразие по отпечаткам негативов изделий, прежде всего, украшений. По материалу различаются как каменные (жесткие), так и глиняные литейные формы. В Прикамье в разное время путем литья в жестких формах изготавливались: колечки, бруски-заготовки, калачевидные серьги, украшенные по поверхности имитацией зерни, монетовидные подвески, бронзовые бусы, пронизки, лапчатые привески, шарики зерни, шаровидные привески, бляшки, наконечники ремней, плоские подвески и т. д. В глиняных формах выливали имитированную зернь в виде треугольников, пронизки, подвески, ножны для кинжала и т. д.
В целом, формы подразделяются на открытые и составные. Открытые формы не имеют литников и отверстий для штырей. Для литья тонких вещей применялись составные формы с несколькими створками. Створки литейных форм по количеству рабочих плоскостей можно разделить на односторонние и многосторонние. Их отличие в том, что односторонние формы прикрывались сверху гладкой плитой известняка, благодаря чему лицевая сторона предмета была рельефной, а оборотная, прикасавшаяся к плите, оставалась гладкой. Их применение отмечается исследователями на материалах средневековых памятников верховьев р. Камы, бассейна р. Чепцы и т. д., в основном, для изготовления плоских вещей. Искусством их отливки владели и пьяноборские мастера. Не меньшей популярностью пользовались в Прикамье и многосторонние формы.
Немалую роль в развитии бронзолитейного производства в Прикамье в эпоху средневековья сыграло применение литейных форм имитационного назначения. Имитационные формы были предназначены для того, чтобы путем простого литья воспроизводить тончайшие ювелирные приемы вроде тиснения, зерни, филиграни, требовавшие длительной и кропотливой работы над каждым экземпляром.
Изучение производственных традиций прикамского цветного литья было бы неполным и поверхностным без проведения анализов химического состава изделий. В диссертационной работе впервые вводятся результаты исследования химического состава массовых (319 экземпляров) серий проб (украшения, слитки, шлаки) с памятников худяковской и еманаевской культур Вятского бассейна. В результате условно было выявлено девять металлургических групп, из которых одна представлена одним компонентом (Си — I группа), две бинарными сплавами (Cu+Sn — II группа, Cu+Zn — VI группа), остальные являются многокомпонентными (Cu+Sn+Zn — III группа, Cu+Sn+Pb+Zn — IV группа, Cu+Sn+Pb — V группа, Си + Sn + Ni + Zn — VII группа, Си + Sn + Ni — VIII группа, Си + Sn + As — IX группа).
Менее всего были распространены украшения, изготовленные из «чистой» меди (I группа) без дополнительных искусственных присадок (3 экз.). Возможно, медь экономили. Кроме того, для производства медных изделий необходимо было затрачивать больше материальных ресурсов, чем для многокомпонентных. Химический состав медных (по естественным примесям) изделий III—IV вв. (Худяковский могильник) и VII—X вв. (Еманаевское городище) отличается, что говорит о смене источников сырья.
Малочисленна и лигатура Cu+Zn (VI группа, 10 изделий), где значительная доля приходилась на медь (83,9−92,7%), а количество цинка -5,8−14,3%. Сплав использовался только в первой половине I тыс. н.э.
Изделия остальных семи групп изготовлены из оловянистой бронзы и сплавов на ее основе. Здесь лидирует лигатура Cu+Sn («классическая» бронза
— II группа, 93 изделия), характерная для всех вятских памятников. Далее по распространенности следует Cu+Sn+Zn (III группа, 59 изделий). Присадка цинка больше характерна для худяковских могильников и его доля резко сокращается во второй половине I тыс. н.э.
Оловянистые сплавы с присадкой свинца (IV, V группы- 48 и 45 изделий соответственно), от тысячных долей до 13,2%, наиболее часто встречаются в могильниках худяковской культуры и резко сокращается их применение во второй половине I тыс. н.э. (Еманаевское городище).
Характерной особенностью вятских оловянистых сплавов является использование в качестве присадки никеля (VII, VIII группы- 17 и 27 изделий соответственно). При этом, в соединении с цинком (VII группа) он чаще зафиксирован в изделиях Тат-Боярского могильника, без цинка (VIII группа)
— на Ошкинском некрополе.
Реже всего в оловянистых сплавах использовалась присадка мышьяка (IX группа, 13 изделий) и максимальное количиство изделий с этой лигатурой (12 экз.) приходится на VI—VIII вв.
Анализ степени встречаемости различных металлургических групп по памятникам показал, что более всего комбинаций сплавов содержат украшения Худяковского могильника, затем по убывающей: Первомайский, Ошкинский, Тат-Боярский могильники и Еманаевское городище.
Изучение химического состава украшений, кроме искусственных присадок, выявило и естественные примеси. Среди них: только в естественном состоянии встречались висмут, алюминий, серебро, золото, железо, кремнийолово, свинец, цинк, мышьяк, никель в одних изделиях были в естественном состоянии, в других — как искусственные присадки. Выявлено, что большая часть сплавов содержит в качестве естественных примесей алюминий (от тысячных долей до 6,7%) и железо (от сотых долей до 7,1%). Остальные примеси не превышают 2%, меньше всего использовалось олово как естественная примесь.
Исследование встречаемости металлургических групп по типам украшений показало, что большая часть изделий каждой категории выполнена из разных сплавов и жесткой корреляции здесь нет, она изредка проявляется только в пределах отдельных памятников. Это указывает на разнообразие и меняющиеся источники сырья на протяжении I тыс. н.э.
Сравнивая полученные результаты по вятским памятникам с данным по выборке с чепецких памятников IX—XIII вв. и предшествующими исследованиями химического состава небольших серий проб с памятников чегандинской, азелинской, гляденовской, ломоватовской, родановской культур (А.В.Шмидт, В. В. Данилевский, Л. И. Каштанов, А. П. Смирнов, В.Ф.Генинг) можно выделить ряд обобщающих моментов.
Самым распространенным сплавом в Прикамье в постананьинскую эпоху был Cu+Sn («классическая» бронза). Его популярность обосновывается рядом признаков, среди которых можно выделить блеск, легкоплавкость, высокую коррозийную стойкость. Сплав встречался на территории всех культур, содержался в составе всех типов изделий и в слитках, часть которых, возможно, уже в готовом виде привозилась в Прикамье.
С рубежа I тыс. до н.э. — I тыс. н.э., помимо олова, начинают широко использоваться и другие присадки (цинк, свинец, никель). Цинк в ряде случаев иногда полностью заменял олово. Как составная часть лигатур цинк не характерен для чегандинских изделий, но его доля резко возрастает в материалах худяковской культур в Вятском бассейне, встречаясь как в украшениях, так и в слитках, что характерно и для нижнекамских азелинских могильников. Доля цинка в вятских изделиях сокращается во второй половине I тыс. н.э. В Верхнем Прикамье цинк в незначительных количествах добавлялся в сплавы на поздних этапах гляденовской общности и его процентное содержание увеличивается в эпоху средневековья. Высокое содержание цинка наблюдается также в изделиях Европейского Северо-Востока (ванвиздинская культура), Приобья, слитках именьковской культуры и в древностях Волжской Булгарии.
В отличие от цинка, который добавлялся к меди и без олова, свинец всегда присутствовал только в сплавах на основе оловянистой бронзы. В чегандинских материалах значительное содержание свинца присутствует в единичных изделиях. Он больше выражен (от тысячных долей до 13,2%) в вятских позднепьяноборских (худяковских) изделиях с тенденцией его снижения в средневековых сплавах второй половины I тыс. н.э. Свинец был популярной легирующей добавкой также в именьковских, булгарских изделиях. В Камско-Вятском междуречье изделия из сплавов с присутствием никеля больше характерны для вятских изделий I тыс. н.э.
По составу естественных примесей все прикамские материалы однородны и их специфическая особенность — высокое содержание алюминия (до 7,1%) и железа (до 6,7%). В сравнении — не содержат алюминия именьковские изделия, а в болгарских и финно-поволжских пробах процент алюминия и железа не превышает 1%.
Высокое содержание алюминия в прикамских сплавах объясняется высоким содержанием меди, которая уменьшает его растворимость. Большое содержание железа можно объяснить особенностями меднорудной базы: медные жилы проходят через пласты с большим содержанием железа, которое большей частью (более 90%) уходит в шлак, а остальная часть остается в сплаве, так как железо трудно растворимо и чтобы его полностью растворить, необходима была соответствующая температура, достижение которой могло бы привести к ухудшению характеристик меди и бронзы. Поэтому мастера допускали его присутствие в сплавах. А негативные характеристики железа (высокая коррозийность и др.) они уменьшали за счет добавок других сплавов (цинк, свинец и т. д).
Широкое использование оловянистых бронз указывает на преемственность традиций прикамского металлургического очага I-II тыс. н.э. с ананьинским. Рецепты же значительной части других сплавов, вероятно, являются экспериментальными разработками литейщиков постананьинского времени. Присутствие в сплавах значительного содержания меди (а иногда и находки из «чистой» меди), использование свинца как легирующей присадки, большое содержание примеси железа указывает, вероятно, на активное использование местной сырьевой базы в сочетании с привозными полуфабрикатами, источники поступления которых сложно проследить. В целом, бронзолитейное производство в Прикамье в постананьинский период развивается как вполне самостоятельное явление.
Перспективными направлениями дальнейшего изучения цветного литья Прикамья является, прежде всего, проведение анализов химического состава массовых серий изделий по всем локально-территориальным группам. В этом отношении полностью отсутствуют данные по памятникам поломской культуры, неволинским и постневолинским древностям, средневековым культурам Южной Удмуртии. Самостоятельным направлением может стать изучение технологии изготовления изделий из цветного металла с применением металлографического анализа.
Список литературы
- Государственный архив Кировской области (ГАКО).
- Ф.582. Канцелярия Вятского губернатора. Оп.2. Д. 264. Л.205.
- Российский государственный исторический архив (РГИА).
- Ф.91. «Таблицы» Вольного экономического общества. Оп.1. Д. 1070. Л.406.
- Архипов Г. А. Отчет I Марийского отряда Чебоксарской археологической экспедиции ИА АН СССР за 1971 г. / Отчет о раскопках Выжумского могильника // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 4560.
- Архипов Г. А. Отчет о раскопках Дубовского могильника летом 1980 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 7791.
- Архипов Г. А., Халиков А. Х. Отчет о раскопках Веселовского могильника летом 1958 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 1874.
- Ашихмина Л.И. Отчет о работах Вычегодско-Вятского отряда в 1978 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7017, 7017а.
- Ашихмина Л.И. Отчет о работах Вычегодско-Вятского отряда в Уржумском районе Кировской области и Вуктыльском районе Коми АССР в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7953, 7953а.
- Ашихмина Л.И. Отчет о работах Мезенско-Вятского археологического отряда Коми филиала АН СССР в 1981 г. // Архив ИАРАН. Р-1. № 8435, 8435а.
- Белавин A.M. Отчет о разведках и раскопках в Усольском и Карагайском районах Пермской области в 1984 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 10 834.
- Генинг В.Ф. Раскопки Буйского городища на р.Вятке (Уржумский район Кировской области), 1955 // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 1105. С.84−111.
- Генинг В.Ф. Отчет о работах Марийской археологической экспедиции за 1957 г. Загребинский могильник // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 1470.
- Голдина Р.Д. Отчет о работах в Сарапульском районе Удмуртской Республики летом 1991 г. Т.1. Тарасовский могильник // Архив ИИКНП УдГУ. Ф.2. Д. 310, 310а.
- Денисов В.П. Отчет о раскопках 1956 г. // Архив Кировского краеведческого музея.
- Кананин В.А. Отчет об исследованиях в Афанасьевском районе Кировской области в 1978 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 3534.
- Кананин В.А. Отчет о разведке в Афанасьевском районе Кировской области, проведенной осенью 1973 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 5954.
- Кананин В.А. Отчет о разведке в Афанасьевском районе Кировской области, проведенной летом 1975 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 6013.
- Карпова (Девятова) Н. П. Отчет об исследованиях Пайбулатовского поселения и Цекеевского городища в Кикнурском районе и Шмелевского поселения в Свечинском районе Кировской области, проведенных летом 1981 г. // Архив ИИКНП. Ф.2. Д. 141.
- Макаров Л.Д. Отчет об исследованиях на Средней Вятке в пределах Слободского, Котельнического и Юрьяиского районов Кировской области, проведенных летом 1979 г. // Архив ИИКНП УдГУ. Ф.2. Д. 91.
- Оборин В.А. Отчет об археологических раскопках в Пермской области в 1966 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 3357.
- Ошибкина С.В. Отчет о работе Вятской археологической экспедиции 1970 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 3499.
- Семенов В.А. Отчет второго отряда УАЭ о раскопках на Поломском I могильнике и разведке в Дебесском и Игринском районах УАССР в 1978 г. // Архив УдИИЯЛ УрО РАН. On. 1 -н. Д. 771.
- Смирнов А.П. Отчет о работе Болгарской экспедиции 1949. Л.
- Смирнов А.П. Отчет Болгарского отряда ПАЭ за 1970 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 4070.
- Старостин П.Н. Работы на Гремячинском могильнике летом 1976 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 6420.
- Черных Е.М. Отчет о разведочных работах в Афанасьевском районе Кировской области в 1981 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1.
- Юсупов Г. В. Древнейшие поселения Гафурийского района. Рукопись, 1968. // Архив БФ АН СССР. Ф.-З. Оп. 3. Ед. хр. 15.
- Абдулганеев М.Т., Казаков А. А., 1994. Кулайская культура (I-IV вв. н.э.) на территории лесостепного Алтая // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Кн. 1. Томск.
- Абрамович Ю.М., 1956. К вопросу о происхождении металлургического сырья в Прикамье во II тысячелетии до н.э. // Ученые записки ПТУ. T.XI. Вып.З. Харьков.
- Агеев Б.Б., 1984. Исследования Трикольского комплекса памятников // АО-1983 года. М.
- Алабин П.В., 1865. Заметка о вятских древностях // Вятские губернские ведомости. № 72. Вятка.
- Арматынская О.В., 1986. Усть-Сарапульский могильник // Приуралье в древности и средние века. Устинов.
- Арматынская ОБ., Водолаго Н. В., Голдина Р. Д., Лещинская Н. А., Макаров Л. Д., 1987. Исследования Камско-Вятской экспедиции // АО-1986 года. М.
- Артамонова О.А., 1963. Могильник Саркела Белой Вежи // МИА. Вып. 109. М.
- Археологическая карта Башкирии, 1976. М.
- Археологическая карта Татарской АССР, 1981. Предкамье. М.
- Археологическая карта Татарской АССР, 1986. Западное Закамье. Казань.
- Археология Костромского края, 1997. Кострома.
- Археология Республики Коми, 1997. М.
- Архипов Г. А., 1962. Городища первой половины I тыс. н.э. в Марийской АССР // Труды МАЭ. Т.2. Йошкар-Ола.
- Архипов Г. А., 1962. Ижевское городище (результаты раскопок 1961 года) // Вопросы истории и археологии Марийской АССР. Труды МарНИИ. Вып. XVII. Йошкар-Ола.
- Архипов Г. А., 1973. Марийцы IX XI вв. Йошкар-Ола.
- Архипов Г. А., 1974. Починковский могильник // Древности Волго-Камья. Казань.
- Архипов Г. А. 1979. Археологические свидетельства о ремесле древних марийцев // АЭМК. Из истории хозяйства населения Марийского края. Вып. 4. Йошкар-Ола.
- Афанасьев Г. Е., Николаенко А. Г., 1984. Металлургический комплекс у с. Ездочное // Маяцкое городище. Воронеж.
- Ашихмина Л.И., 1977. Новые раскопки Буйского городища // АО-1976 года. М.
- Ашихмина Л.И., 1986. Исследования Борганъельского комплекса на Нившере // АО-1985 года. М.
- Ашихмина ЛИ., 1987. Клад с Буйского городища // Новые археологические исследования на территории Урала. Ижевск.
- Бадер О.Н., 1953. Камская археологическая экспедиция // КСИИМК. Вып. 51. М.
- Бадер О.Н., 1957. Камская археологическая экспедиция // КСИИМК. Вып. 70. М.
- Бадер О.Н., 1960. Ананьинское и более поздние селища на Огурдинской стоянке близ Усолья // Ученые записки ПГУ. Труды КАЭ. Т. XII. Вып. 1. Пермь.
- Бадер О.Н., 1961. Поселения турбинского типа в среднем Прикамье // МИА. № 99. М.
- Бадер О.Н., Оборин В. А., 1958. На заре истории Прикамья. Пермь.
- Бадер О.Н., Оборин В. А., 1960. Очерк работ Камской археологической экспедиции в 1955−56 гг. // Ученые записки ПГУ. Труды КАЭ. Т. XII. Вып. 1. Пермь.
- Байков А.А., 1944. Металлургия меди (Собрание трудов). Т.4. M-J1.
- Белавин A.M., 1983. Раскопки памятников средневековья в Верхнем Прикамье // АО-1982 года. М.
- Белавин A.M., 1984. Раскопки в окрестностях г. Березники. // АО-1983 года. М.
- Белавин A.M., 1986. Городищенское городище на р. Усолке // Приуралье в древности и средние века. Устинов.
- Белавин A.M., 1987. Производственные поселки у финно-угров в конце I начале II тысячелетия н.э. (по материалам Березниковского микрорайона Верхнего Прикамья) // Этнические и социальные процессы у финно-угров Поволжья. Йошкар-Ола.
- Белавин A.M., 2001. Ремесленные центры Пермского Предуралья в системе средневековой торговли // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.
- Белавин A.M., 2002. Ранний железный век // Очерки археологии Пермского Предуралья. Пермь.
- Белавин A.M., Крыласова Н. Б., 2002. Поздний железный век. Период средневековья в Предуралье. IV—XV вв. // Очерки археологии Пермского Предуралья. Пермь.
- Белавин A.M., Мельничук А. Ф., 1984. Средневековые памятники у д. Володин Камень в приустьевой части р. Яйвы // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Вып. 2. Ижевск.
- Белорыбкин Г. Н., 2003. Западное Поволжье в средние века. Пенза.
- Бирюков А.В., 2001. Металлообрабатывающий инвентарь эпохи средневековья на Европейском Северо-Востоке // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.
- Богданова-Березовская И.В., 1963. Химико-технологическое исследование древних предметов // Методы естественных и технических наук в археологии. Тезисы докладов на Всесоюзном совещании. М.
- Бординских Г. А., 1995. Разведки в Соликамском районе Пермской области // АО-1994 года. М.
- Борзунов В.А., 1986. Работы на Урале и в Зауралье // АО-1985 года. М.
- Борзунов В.А., 1992. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков. Екатеринбург.
- Борзунов В.А., 1994. Поселения и постройки лесного Зауралья начала железного века // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Кн. 1. Томск.
- Бочкарев B.C., 1978. Погребения литейщиков эпохи бронзы // Проблемы археологии. Вып. 2. JI.
- Брайант А.Т., 1953. Зулусский народ до прихода европейцев. М.
- Бублейников Ф.Д., 1956. Геологические поиски в России. М.
- Буров Г. М., 1967. Древний Синдор. М.
- Бушуева B.JI., 1950. Социально-экономические отношения чепецкой удмуртской деревни на рубеже XVII XVIII вв. Дисс. к.и.н. Рукопись. М.
- Валеев P.M., 1981. К вопросу о товарно-денежных отношениях ранних булгар (VIII X вв.) // Из истории ранних булгар. Казань.
- Вечтомов А.Д., 1960. Основная археологическая карта РСФСР, лист 0−40−98 (села Частые и Елово на Каме) // Ученые записки ПТУ. Труды КАЭ. Т. XII. Вып. 1. Пермь.
- Вечтомов А.Д., 1987. Раскопки Гремячанского поселения // АО-1986 года. М.
- Вечтомов А.Д., Соболева Н. В., 1986. Раскопки Половинного I поселения // АО-1985 года. М.
- Винников А.З., Афанасьев Т. Е., 1991. Культовые комплексы Маяцкого селища. Воронеж.
- Вихляев В.П., 1983. Металлургический горн рубежа I II тысячелетий н.э. из Мордовии // СА. № 2. М.
- Водолаго Н.В., 1984. Материалы к археологической карте неволинской культуры // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Вып. 2. Ижевск.
- Габяшев Р.С., 1978. Второе Татарско-Азибейское поселение // Древности Икско-Бельского междуречья. Казань.
- Габяшев Р.С., 1981. Итоги раскопок III Русско-Азибейской стоянки // Об исторических памятниках по долинам Камы и Белой. Казань.
- Габяшев Р.С., Казаков Е. П., Старостин П. М., Халиков А. Х., Хлебникова Т. А., 1976. Археологические памятники Татарии в зоне Куйбышевского водохранилища // Из археологии Волго-Камья. Казань.
- Гайдученко Л.Л., Логвин В. Н., 1996. Итоги полевого эксперимента по выплавке меди из руды месторождения Алтын-Казган в
- Казахстане на естественном дутье // Новое в археологии Южного Урала. Челябинск.
- Генинг В.Ф., 1958. Археологические памятники Удмуртии. Ижевск.
- Генинг В.Ф., 1959. Удмуртская археологическая экспедиция // КСИИМК. Вып. 74. М.
- Генинг В.Ф., 1962. Тураевский курганный могильник в Нижнем Прикамье // ВАУ. Вып. 2. Свердловск.
- Генинг В.Ф., 1962. Узловые проблемы изучения пьяноборской культуры // ВАУ. Вып. 4. Свердловск.
- Генинг В.Ф., 1963. Азелинская культура III V вв.: Очерки истории Вятского края в эпоху Великого переселения народов // ВАУ. Вып. 5. Свердловск.
- Генинг В.Ф., 1967. Мазунинская культура в Среднем Прикамье // ВАУ. Вып. 7 // Труды УАЭ. Т.З. Свердловск-Ижевск.
- Генинг В.Ф., 1970. История населения удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху // ВАУ. Вып. 10. Ижевск.
- Генинг В.Ф., 1970. История населения удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Чегандинская культура (III в. до н.э. II в. н.э.) // ВАУ. Вып. 10 // Труды УАЭ. Т. III. Свердловск-Ижевск.
- Генинг В.Ф., 1980. Опутятское городище металлургический центр харинскош времени в Прикамье (2-я половина V — 1-я половина VI вв. н.э.) // Памятники эпохи средневековья в Верхнем Прикамье. Ижевск.
- Генинг В.Ф., Оборин В. А., 1960. К вопросу о гляденовской культуре // Ученые записки. Т. XII. Вып. 1 / Труды КАЭ. Пермь.
- Геология СССР, 1966. Пермская система. М.
- Геология твердых полезных ископаемых республики Татарстан, 1999. Казань.
- Голдина Р.Д., 1979. Исследования средневековых памятников в Кунгурском районе Пермской области // АО-1978 года. М.
- Голдина Р.Д., 1984. Подкаменное городище памятник неволинской культуры в бассейне р. Сылвы // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Вып. 2. Ижевск.
- Голдина Р.Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск.
- Голдина Р.Д., 1987. Проблемы этнической истории пермских народов в эпоху железа (по археологическим данным) // Проблемы этногенеза удмуртов. Устинов.
- Голдина Р.Д., 1998. Основные итоги изучения древней истории коми-пермяцкого народа (по археологическим данным) // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь.
- Голдина Р.Д., 1999. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск.
- Голдина Р.Д., Кананин В. А., 1989. Средневековые памятники верховьев Камы. Свердловск.
- Голдина Р.Д., Лаптева Т. А., Волков С. Р., Перевощиков С. Е., Широбокова Н. Ф., 1995. Исследования Тарасовского I селища и могильника//АО-1995 года. М.
- Голдобин А.В., Лепихин А. К., Мельничук А. Ф., 1991. Исследования святилищ железного века в Пермском Прикамье // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Голубева Л.А., 1984. Женщины литейщицы (к истории женского ремесленного литья у финно-угров) // СА. № 4. М.
- Готье-Мелешко, Преображенский, 1933. Полезные ископаемые Средне-Волжского края (материалы по библиографии 1762 1933).
- Гришкина М.В., 1994. Удмуртия в эпоху феодализма (конец XV -первая половина XIX вв.). Ижевск.
- Гудалин Г. Г., Ковалев Ф. И., 1951. Оценки месторождений при поисках и разведках // Медь. Вып. 6. М.
- Гусенцова Т.М., 1980. Поселение Кочуровское IV в бассейне р. Кильмезь // Материалы памятников эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки. Ижевск.
- Гуссаковский Л.П., 1962. Археологические исследования в с. Никульчино Кировской области // ВАУ. Вып. 2. Свердловск.
- Гущина А.Ф., Данилевский В. В., Кононов В. Н., Лаптев А. А., Петренко Г. М., 1935. Методика химико-аналитического исследования древних бронз // ИГАИМК. Вып. 121. М.
- Данилевский В.В., 1935. Историко-технологические исследования древних бронзовых изделий с Кавказа и Северного Урала // Археологические работы Академии на новостройках в 1932—1933 гг. М-Л.
- Денисова Т.В., 1991. Исследования Тарасовского I селища // Археологические открытия Урала и Поволжья. М.
- Державин В.Л., Тихонов Б. Г., 1981. Погребение литейщика эпохи средней бронзы на Ставрополье // СА. № 3. М.
- Дмитриев В.Д., 1986. Заповедные товары и запрет кузнечного и серебряного дела в национальных регионах Среднего Поволжья в XVII в. // Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары.
- Днепров С.А., Коноркин В. М., 1978. Изучение памятников горного дела и металлургии на Южном Урале // АО-1977 года. М.
- Древности Камы по раскопкам А. А. Спицына в 1898 году, 1933 // МГАИМК. Вып. 2. Л.
- Ефимова A.M., 1951. Металлургические горны в городе Болгаре // КСИИМК. Вып. 38. М.
- Збруева А.В., 1952. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. № 30. М.
- Збруева А.В., 1953. Котловское городище // КСИИМК. Вып. XLIX. М.
- Зеленский B.C., 1991. Работы Синдорского археологического отряда Сыктывкарского Университета // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Иванов А.Г., 1998. Этнокультурные и экономические связи населения бассейна р. Чепцы в эпоху средневековья (конец V первая половина XIII вв.). Ижевск.
- Иванов А.Г., 2001. Погребения «ремесленников»: по материалам средневековых могильников чепецкого поречья // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.
- Иванов В.А., Обыденнов М. Ф., 1974. Исследование памятников в Центральной и Северной Башкирии // АО-1973 года. М.
- Иванова М.Г., 1976. Кушманское городище // Вопросы археологии Удмуртии. Ижевск.
- Иванова М.Г., 1979. Хозяйство северных удмуртов в конце IX -начале XIII вв. // Северные удмурты в начале II тысячелетия н.э. Ижевск.
- Иванова М.Г., 1982. Городище Гурьякар (Результаты исследований 1979 г.) // Средневековые памятники бассейна р. Чепцы. Ижевск.
- Иванова М.Г., 1982. Качкашурское селище // Средневековые памятники бассейна р. Чепцы. Ижевск.
- Иванова М.Г., 1985. Городище Иднакар (Результаты исследований 1975−77 гг.) // Материалы средневековых памятников Удмуртии. Устинов.
- Иванова М.Г., 1988. Производственные сооружения городища Иднакар // Новые исследования по древней истории Удмуртии. Ижевск.
- Иванова М.Г., 1995. Городище Иднакар IX—XIII вв.: Материалы исследований территории между валами (1989−1992 гг.) // Материалы исследований городища Иднакар IX—XIII вв. Ижевск.
- Игнатьева О.В., 2001. Некоторые сюжеты пермского звериного стиля как атрибут бронзолитейного ремесла // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.
- Ильин А.А., 1921. Топография кладов серебряных и золотых слитков. Петроград.
- Истомина Т.В., 1995. Исследования в бассейнах рек Печоры и Вычегды // АО-1994 года. М.
- Казанцева О.А., 1986. Исследования Яромасского городища // АО-1985 года. М.
- Казанцева О.А., 1988. Красноярский могильник // Новые археологические памятники Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Калинин Н.Ф., Халшсов АХ, 1960. Именьковское городище // МИА. № 80. Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. III. М.
- Кананин В. А,. 1985. Средневековые поселения верховьев Камы // Новые источники по древней истории Приуралья. Устинов.
- Карпова Н.П., 1982. Исследования в бассейне Большой Кокшаги // АО-1981 года. М.
- Каховский В.Х., Смирнов А. П., 1972. Хулаш // Городище Хулаш и памятники средневековья чувашского Поволжья. Чебоксары.
- Кашенко Г. А., 1949. Основы металловедения. М.
- Каштанов Л.И., 1954. Химический состав древних цветных сплавов на территории СССР // Труды Московского инженерно-экономического института. Вып. 1. М.
- Каштанов Л.И., Каштанова М. Я., 1955. Химический состав древних финских цветных металлов // Труды института истории естествознания и техники. Т. 6. М.
- Каштанов Л.И., Смирнов А. П., 1958. Из истории металлургии Среднего Поволжья и Урала // КСИИМК. Вып. 2. М.
- Клюева Г. Н., 1984. Быргындинское IV поселение памятник пьяноборской культуры // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Вып. 2. Ижевск.
- Клюева Г. Н., 1986. Исследование памятников в Прикамской Удмуртии // АО-1985 года. М.
- Ковалева В.Т., Мельников А. В., 1989. Полевой эксперимент по изучению древней металлургии Зауралья // Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар.
- Колчин Б.А., 1952. Древняя металлургия и металлообработка Древней Руси // МИА. № 32. М.
- Колчин Б.А., 1953. Техника обработки металла в Древней Руси. М.
- Конаков Н.Д., 1983. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX — начале XX в. М.
- Кондратьева Г. Т., 1967. Некоторые древние городища северных районов Удмуртской АССР (к этногенезу северных удмуртов) // Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. Т. 198. Вып. 3. М.
- Королев К.С., 1977. Поселение Шойнаты II на Средней Вычегде // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Археологические памятники Печоры, Средней Двины и Мезени. Вып. 6. Сыктывкар.
- Королев К.С., 1978. Джуджыд-Яг многослойный памятник на Вычегде // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Археологические памятники эпохи палеометалла в Северном Приуралье. Вып. 7. Сыктывкар.
- Королев К.С., 1985. Раннесредневековая керамика многослойного поселения Шойнаты III на Средней Вычегде // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Археологические памятники Северного Приуралья. Вып. 9. Сыктывкар.
- Королев К.С., 1986. Поселение ванвиздинской культуры Шойнаты IV // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Памятники материальной культуры на Европейском Северо-Востоке. Вып. 10. Сыктывкар.
- Королев К.С., 1991. Работы на Вычегде // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Королев К.С., Савельева Э. А., 1988. Генезис средневековых культур бассейна Вычегды. Сыктывкар.
- Красильников К.И., 1992. Металлургический комплекс салтово-маяцкой культуры на р. Миус // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. Липецк.
- Крижевская Л.Я., 1952. Археологические исследования в Башкирии в 1951 году // КСИИМК. Вып. 51. М.
- Крижевская Л.Я., 1959. Сосуд ананьинского времени для плавки металла // КСИИМК. Вып. 77. М.
- Кузьминых С.В., 1977. К вопросу о волосовской и гаринско-борской металлургии // С А. № 2. М.
- Кузьминых С.В., 1977. Об ананьинской обработке бронзы. Из истории и культуры волосовских и ананьинских племен Среднего Поволжья // АЭМК. Вып. 2. Йошкар-Ола.
- Кузьминых С.В., 1980. Первые анализы меди с энеолитических поселений бассейна р. Вятки // Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне Вятки. Ижевск.
- Кузьминых С.В., 1982. Некоторые итоги спектрально-аналитического изучения цветного металла Волго-Камья эпохипоздней бронзы и раннего железа // Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа. Уфа.
- Кузьминых С.В., 1983. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке. М.
- Кузьминых С.В., Агапов С. А., 1989. Медистые песчаники Приуралья и их использование в древности // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. Свердловск.
- Кузьминых С.В., Черных Е. Н., 1976. Анализы меди и бронз с поселений Нижнего Прикамья эпохи раннего металла // Из археологии Волго-Камья. Казань.145. Культура Биляра, 1985. М.
- Лев Д.Н., 1934. К истории горного дела. Л.
- Ледяйкин В.И., Семыкин Ю. А., 1988. Раскопки Ульяновского пединститута// АО-1987 г. М.
- Лепехин И.И., 1765. Дневные записки. Ч. 2. СПб.
- Лещинская Н.А., 1984. Средневековые поселения на левобережье р. Вятки // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Лещинская Н.А., 1988. Исследования Еманаевского городища // Новые археологические памятники Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Лещинская Н.А., 1991. Исследования Тат-Боярского могильника // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Лещинская Н.А., 1995. Вятский бассейн в I начале II тыс. н.э. (по археологическим источникам) // Дисс. канд. ист. наук. Ижевск.
- Лещинская Н.А., 1995. Хронология и периодизация могильников бассейна р. Вятки (I начало II тыс. н.э.) // Типология и датировка археологических материалов Восточной Европы. Ижевск.
- Лихачев А.Ф., 1891. Драгоценный клад, найденный в Казанской губернии в 1882 г. // Труды VII Археологического съезда. Т. 2. М.
- Лычагина E.JI., 2002. Ритуальный комплекс Ширковского селища // Оборинские чтения. Материалы археологической конференции. Вып. 2. Пермь.
- Любавин Н.Н., 1906. Техническая химия. Т. IV. Ч. 2. М.
- Мажитов Н.А., 1968. Бахмутинская культура. Этническая история населения северной Башкирии середины I тысячелетия н.э. М.
- Макаров Л.Д., 1982. Исследования древнерусских памятников на Средней Вятке // АО-1981 года. М.
- Макаров Л.Д., 1984. Подгорбуновское городище многослойный памятник в бассейне Северной Двины // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Макаров Л.Д., 2001. Ремесленные мастерские Вятской Земли XII -XVII вв. // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.
- Марков В.Н., 1987. Городище Гремячий Ключ // Древности Среднего Поволжья. Вып. 13. Йошкар-Ола.
- Материалы по описанию промыслов Вятской губернии, 1990. Вып. 5. Киров.
- Мельничук А.Ф., 1982. Раскопки поселений на Заосиновской Дюне // АО-1981 года. М.
- Мельничук А.Ф., 1984. Исследования памятников железного века в Среднем Прикамье // АО-1983 года. М.
- Мельничук А.Ф., Мокрушин В. П., Соболева Н. В., 1987. Раскопки Пермского Университета // АО-1986 года. М.
- Мельничук А.Ф., Соболева И. В., 1986. Селище Пеньки памятник харинского времени на р. Чусовой // Приуралье в древности и средние века. Устинов.
- Минасян Р.С., 1995. Техника литья «чудских образков» // АСГЭ. № 32. СПб.
- Миропольский JI.M., 1938. Медные руды в пермских отложениях Татарской АССР и их генезис // Ученые записки КГУ. Т. 98. Книга 1. Геология. Вып. 10. Казань.
- Миропольский Л.М., 1956. Топогеохимическое исследование пермских отложений в Татарии. М.
- Михеев В.К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков.
- Мокрушин В.П., 1986. Исследования Култаевского отряда Камской экспедиции // АО-1985 года. М.
- Монгайт А.Л., 1973. Археология Западной Европы. Каменный век. М.
- Мурыгин A.M., 1989. Работы Северного отряда в Болыпеземельской тундре и на Средней Мезени // Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар.
- Мурыгин А.М., Плюснин С. М., 1991. Работы северного археологического отряда // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Мухамадиев А.Г., 1984. Бронзовые слитки первые металлические деньги Поволжья и Приуралья (I тысячелетие н.э.) // СА. № 3. М.
- Мухамадиев А.Г., 1990. Древние монеты Поволжья. Казань.
- Наговицын Л.А., 1987. О хозяйстве населения Вятского края в эпоху энеолита // Проблемы изучения древней истории Удмуртии. Ижевск.
- Наговицын Л.А., Шутова Н. И., 1984.Исследования в Татарии и Кировской области // АО-1983 года. М.
- Небритов Н.Л., 2003. Краткая история добычи и изучения меди Среднего Заволжья и Западного Приуралья // Краеведческие записки. Вып. IX. Самара.
- Нефедов Ф.Д., 1899. Археологические исследования в Южном Приуралье и Прикамье в 1893 -1894 // МАВГР. Т. 3. М.
- Нефедов Ф.Д., 1899. Отчет об археологических исследованиях в Прикамье, произведенных летом 1893 г. // МАВГР. Вып. III. М.
- Никитина Т.Б., 2002. Марийцы в эпоху средневековья. Йошкар-Ола.
- Оборин В.А., 1953. Рождественское городище и могильник // Ученые записки ПГУ. Т. 9. Вып. 3. Пермь.
- Оборин В.А., 1956. Памятники родановской культуры у с. Таборы // КСИИМК. Вып. 65. М.
- Оборин В.А., 1957. Коми-пермяки в IX XV вв. Автореферат канд. дисс. М.
- Оборин В.А., 1959. Камская археологическая экспедиция 1955 года // КСИИМК. Вып. 74. М.
- Оборин В.А., 1962. Раскопки памятников железного века в Верхнем Прикамье // ВАУ. Вып. 2. Свердловск.
- Оборин В.А., 1968. Краткий очерк работ Камской археологической экспедиции ПГУ в 1961−66 гг. // Ученые записки ПГУ. Вып. 191. Пермь.
- Оборин В.А., 1970. Этнические особенности средневековых памятников Верхнего Прикамья // ВАУ. Вып. 9. Свердловск.
- Оборин В.А., 1971. Работы на севере Пермской области // АО-1970 года. М.
- Оборин В.А., 1972. Раскопки в Верхнем Прикамье // АО-1971 года. М.
- Оборин В.А., 1982. Раскопки памятников позднего средневековья в Верхнем Прикамье // АО-1981 года. М.
- Оборин В.А., 1983. Раскопки на Пянтеге // АО-1982 года. М.
- Оборин В.А., 1984. Раскопки Старого Кунгура // АО-1983 года. М.
- Оборин В.А., 1998. Археологическое изучение г. Чердыни // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь.
- Оборин В.А., 1999. Коми-пермяки // Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века. Пермь.
- Оборин В.А., Балашенко Л. А., Воронкова Н. А., 1970. Работы в Верхнем Прикамье // АО-1969 года. М.
- Оборин В.А., Чагин Н. Г., 1988. Чудские древности Рифея: Пермский звериный стиль. Пермь.
- Обыденнов М.Ф., 1985. Хозяйство населения Южного Урала в конце бронзового века // Новые источники по древней истории Приуралья. Устинов.
- Обыденнов М.Ф., Горбунов B.C., 1979. Разведочные работы в Башкирии // АО-1978 года. М.
- Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г. Т., 1998. Археологические памятники Южного Приуралья эпохи железа (I тысячелетие до н.э. -I тысячелетие н.э.). Уфа.
- Останина Т.И., 1977. Исследования Удмуртского Республиканского Музея // АО-1976 года. М.
- Останина Т.И., 1978. Экспедиция Удмуртского Республиканского Музея // АО-1977 года. М.
- Останина Т.И., 1979. Исследования Удмуртского Республиканского Музея // АО-1978 года. М.
- Останина Т.И., 1980. Работы Удмуртского Республиканского Музея // АО-1979 года. М.
- Останина Т.И., 1986. Работы Удмуртского Республиканского Музея // АО-1985 года. М.
- Останина Т.И., 1988. Городище мазунинской культуры около станции Постол Удмуртской АССР // Новые памятники Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Останина Т.И., 1988. Городище IV—V вв. у д. Чужьялово Удмуртской АССР // Новые исследования по древней истории Удмуртии. Ижевск.
- Останина Т.И., 1992. Покровский могильник IV V вв. Каталог археологической коллекции. Ижевск.
- Останина Т.И., 1997. Население Среднего Прикамья в III—V вв. Ижевск.
- Останина Т.И., 2002. Кузебаевское городище. Ижевск.
- Ошибкина С.В., 1979. Погребальный обряд азелинской культуры по материалам могильника Тюм-Тюм // КСИА. Вып. 158. М.
- Очерки истории Удмуртской АССР, 1990. Т. 1. Ижевск.
- Оятева Е.И., 1990. Бронзовая фигурка медведя из собрания Строгановых (опыт семантической дешифровки) // АСГЭ. Вып. 30. Л.
- Паллас П.С., 1786. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. 5. Кн. 1. СПб.
- Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1866 и 1867 годы, 1865. Вятка.
- Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1885 год, 1884. Вятка.
- Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1898 год, 1897. Вятка.
- Первухин Н.Г., 1896. Опыт археологического изучения Глазовского уезда Вятской губернии // МАВГР. Вып. 2. М.
- Перевощиков С.Е., 2000. Железообрабатывающее производство населения Камско-Вятского междуречья в эпоху средневековья (технологический аспект). Дис.. канд. ист. наук. Ижевск.
- Переписная книга Елабуги приказного Богдана Нехаева 1725 года // ТВУАК. 1905. Вып.Ш. ОтдЛП.
- Переписная книга Царево-Санчурского посада и уезда стольника М. Б. Клешнина 1754 года//ТВУАК. 1906. Вып. V-VI. Отд. III.
- Переписная книга Яранского посада и уезда Г. М. Юшкова 1754 года // ТВУАК. 1906. Вып. V-VI. Отд. III.
- Перов С.М., 1915. Свинцовые месторождения на Илыче // Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вып. 2. Вологда.
- Плетнева С.А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.
- Плетнева С.А., 1996. Саркел и «шелковый путь». Воронеж.
- Поляков Ю.А., 1968. Раскопки Горюхалинского городища // АО-1967 года. М.
- Поляков Ю.А., 1981. Раскопки Чашкинского II селища // АО-1980 года. М.
- Поляков Ю.А., 1982. Работы экспедиции Пермского Университета // АО-1981 года. М.
- Полякова Г. Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов // Город Болгар (ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков). Казань.
- Полянин В.А., Горизонтова И. Н., 1932. Медные руды Кировской области // Труды областного Научно-исследовательского института краеведения. Вып. 12. Киров.
- Природа Кировской области, 1967. Киров.
- Природа Удмуртии, 1972. Ижевск.
- Прокошев Н.А., 1941. Бассейн р. Камы, 1934−1936 гг. // Археологические исследования в РСФСР (1934−1936). M-JL
- Прокошев Н.А., 1949. Узловые проблемы ананьинской эпохи в Прикамье (VIII II вв. до н.э.) // Записки УдНИИ. Вып. 11. Л.Ижевск.
- Пшеничнюк А.Х., 1973. Кара-абызская культура (население Центральной Башкирии на рубеже нашей эры) // АЭБ. Т. 5. Уфа.
- Решетников Н.Л., 1986. Исследования Момылевского городища // АО-1985 года. М.
- Решетников Н.Л., 1987. Исследования Момылевского городища // АО-1986 года. М.
- Россия 1914 года. Полное географическое описание нашего Отечества. Урал и Приуралье. Т.5. СПб.
- Рублев А.В., 1987. Раскопки городища Острая Грива // АО-1986 года. М.
- Рыбаков Б.А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.
- Рындина Н.В., 1962. О древнерусском литье «навыплеск» // СА. № 3. М.
- Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров X XIV вв. // МИА. № 117. М.
- Рындина Н.В., 1978. К проблеме классификационного членения культур медно-бронзовой эпохи // ВМУ. Серия 8. История. № 6. М.
- Рындина Н.В., 1983. Человек у истоков металлургических знаний // Путешествие в древность. М.
- Рындина Н.В., 1998. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы (истоки и развитие в неолите энеолите). М.
- Рындина Н.В., Дегтярева А. Д., 2002. Энеолит и бронзовый век / Учебное пособие по курсу «Основы археологии». М.
- Рычков П.И., 1762. Оренбургская типография. Т. 1. Санкт-Петербург.
- Рябцева Е.Н., 1986. Раскопки в верховьях р. Вымь // АО-1985 года. М.
- Рябцева Е.Н., 1987. Раскопки в верховьях р. Вымь // АО-1986 года. М.
- Савельева Э.А., Истомина Т. В., 1980. Веслянский II могильник // Материалы по археологии Европейского Северо-Востока. Древние памятники Северного Приуралья. Вып. 8. Сыктывкар.
- Савельева Э.А., Кленов М. В., 1991. Исследования Вымской археологической экспедиции // Археологические открытия Урала и Поволжья. Ижевск.
- Савельева Э.А., Чеснокова Ы. Н., 1979. Работы Вычегодского отряда Северодвинской экспедиции // АО-1978 года. М.
- Сальников К.В., 1949. К вопросу о древнейшей металлургии в Зауралье // КСИИМК. Вып. 29. М.
- Сальников К.В., 1950. Следы древней металлургии меди в районе Свердловска // Материалы 2-й научной конференции по истории Екатеринбурга Свердловска. Свердловск.
- Сальников К.В., 1951. Бронзовый век Южного Зауралья // МИА. № 21. М.
- Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.). М.
- Селимханов И.Р., 1970. Разгаданные секреты древней бронзы. М.
- Семенов В.А., 1978. К истории археологических исследований в Удмуртии // Материалы к ранней истории населения Удмуртии. Ижевск.
- Семенов В.А., 1982. Маловенижское городище Пор-кар // Средневековые памятники бассейна р. Чепцы. Ижевск.
- Семенов В.А., 1985. Городище Весья-кар // Материалы средневековых памятников Удмуртии. Устинов.
- Семенов В.А., 1985. Омутницкий могильник // Материалы средневековых памятников Удмуртии. Устинов.
- Семыкин Ю.А., 1996. Черная металлургия и металлообработка на Болгарском городище // Болгар (ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков). Казань.
- Сидоров В.Н., Старостин ГШ., 1970. Остатки раннесредневековых литейных мастерских Щербетского поселения // СА. № 4. М.
- Смирнов А.П., 1928. Социально-экономической строй восточных финнов IX XIII вв. н.э. // Институт археологии и искусствознания. Т.2. М.
- Смирнов А.П., 1938. Производство и общественный строй у народов Прикамья в I тысячелетии н.э. (по данным археологии) // Записки УдНИИЯЛ. Вып. 8. Ижевск.
- Смирнов А.П., 1952. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. № 28. М.
- Смирнов А.П., 1957. Железный век Башкирии // МИА. № 58. М.
- Смирнов А.П., 1964. Рецензия на работу В. Ф. Генинга «Азелинская культура III V вв. н.э.» // СА. № 4. М.
- Соколова Н.Е., 2000. Историко-археологический комплекс в с. Пыскор // Оборинские чтения. Материалы археологической конференции. Пермь.
- Спектральный анализ чистых веществ, 1994. Санкт-Петербург.
- Спицын А.А., 1883. Приуральский край. Археологические изыскания о древнейших обитателях Вятской губернии // МАВГР. Т. 1. М.
- Спицын А.А., 1916. Заметки из поездки 1898 г. // ИАК. № 60. М.
- Старостин П.Н., 1967. Памятники именьковской культуры // САИ.1. Вып. Д1−32.
- Старостин П.Н., 1977. Работы на Троицко-Урайском I городище в 1973 т. II Древности Волго-Камья. Казань.
- Старостин П.Н., 1981. Памятники предболгарского времени Нижнего Прикамья // Плиска Преслав 2. София.
- Старостин П.Н., Кузьминых С. В., 1978. Погребение литейщицы из Пятого Рождественского могильника // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М.
- Старостин П.Н., Халикова Е. А., Халиков А. Х., 1971. Работы в зоне Куйбышевского водохранилища // АО-1970 года. М.
- Столова О.Г., Валитов Н. Б., 2000. К истории освоения природных богатств Татарстана: медные промыслы // Материалы региональной конференции. Кн. 1. Екатеринбург.
- Стоскова Н.Н., 1956. Литье способом «навыплеск» в Древней Руси // Вопросы истории естествознания и техники. № 1.М.
- Сунчугашев Я.И., 1975. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии Хакасско-Минусинской котловины. М.
- Сучков Д.В., 1967. Медь и ее сплавы. М.
- Талицкий М.В., 1941. Обследование по р. Чусовой, 1935 // Археологические исследования в РСФСР (1934−1936). М-Л.
- Талицкий М.В., 1946. Верхнее Прикамье в X XIV вв. (тезисы кандидатской диссертации) // КСИИМК. М-Л.
- Теплоухов Ф.А., 1893. Древности Пермской чуди в виде баснословных людей и животных // Пермский край. Вып. 2. Пермь.
- Тихаев Х.Я., 1950. Башкирия. Уфа.
- Тихонов Б.Г., 1960. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и Приуралье // МИА. № 90. М.
- Финно-угры и балты в эпоху средневековья, 1987 / Археология СССР. м.
- Халиков А.Х., 1962. Очерки истории населения Марийского края в эпоху железа // Труды МАЭ. Т. 2. Йошкар-Ола.
- Халиков А.Х., Безухова Е. А., 1960. Материалы к древней истории Поветлужья (археологические исследования в Ветлужском районе Горьковской области в 1957 г.). Горький.
- Халиков А.Х., Лебединская Г. В., Герасимова М. М., 1966. Пепкинский курган. Йошкар-Ола.
- Хлебникова Т.А., 1964. Основные производства волжских болгар: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Казань.
- Чернецов В.Н., 1947. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье // Труды ИЭ. Т. 1. М.
- Черников С.С., 1949. Древняя металлургия и горное дело Западного Алтая. Алма-Ата.
- Черных Е.М., 1998. Домостроительство древних коми-пермяков (по материалам родановской культуры Верхнего Прикамья) // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь.
- Черных Е.М., 2002. Аргыжское городище на реке Вятке. М.
- Черных Е.Н., 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М.
- Черных Е.Н., 1970. Древняя металлургия Урала и Поволжья. М.
- Черных Е.Н., 1972. Металл человек — время. М.
- Черных Е.Н., 1978. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА. № 4. М.
- Черных Е.Н., 1997. Каргапы. Забытый мир. М.
- Черных Е.Н., Агапов С. В., Барцева Т. Б., Кузьминых С. В., Лебедева Е. Ю., Луньков В. Ю., Тенейшвили Т. О., 1994. О работах восточноевропейской экспедиции // Археологические открытия Урала и Поволжья. Йошкар-Ола.
- Черных Е.Н., Барцева Т. Б., 1972. Сплавы цветных металлов. Металл Черняховской культуры // МИА. № 187. М.
- Черных Е.Н., Кузьминых С. В., 1984. Древняя металлургия Северной Евразии (Сейминско-турбинский феномен). М.
- Черных Е.Н., Кузьминых С. В., 1987. Памятники Сейминско-турбинского типа в Евразии // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.
- Чиндина Л.А., 1984. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа (Кулайская культура). Томск.
- Шишонко В.П., 1882. Пермская летопись. II период. Пермь.
- Шмидт А.В., 1932. Жертвенные места Камско-Уральского края // ИГАИМК. Т. XIII. Вып. 1−2. М-Л.
- Шмидт А.В., 1934. Очерки по истории северо-востока Европы в эпоху родового строя. Из истории родового общества на территории СССР // ИГАИМК. Вып. 106. М-Л.
- Шрамко Б.А., 1962. Древности Северного Донца. Харьков.
- Штукенберг А.А., 1901. Материалы для изучения медного (бронзового) века восточной полосы Европейской России // ИОАИЭ. Т. 17. Вып. 4. М.
- Шутова Н.И., 1992. Удмурты XVI первой половины XIX вв. (по данным могильников). Ижевск.
- Эмаусский А.В., 1951. Очерк истории Вятской Земли в XVI начале XVII вв. Киров.
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987 // Археология СССР. М.
- Ютина Т.К., 1982. Исследования в Южной Удмуртии // АО-1981 года. М.
- Ютина Т.К., 1983. Исследования в зоне затопления Нижне-Камской ГЭС // АО-1982 года. М.
- Ютина Т.К., 1984. Исследования 1980 года на Верхне-Утчанском городище в Южной Удмуртии // Памятники железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск.
- Яговкин И.С., 1932. Медистые песчаники и сланцы (мировые типы) // Труды Всесоюзного Геолого-разведочного института НКТП. Вып. 185. М-Л.
- Ярославцева (Лещинская) Ы.А., 1980. Исследования памятников в бассейнах рек Валы и Вятки // АО-1979 года. М.
- Chemykh E.N., 1992. Ancient Metallurgy in the USSR // The Early Metal Age. Cambridge.
- Перницка E., 1993. Състояние на природонаучните изследование върху наидревните метали // Проблеми на найранната металлургия. София.
- АСГЭ Археологический сборник Государственного1. Эрмитажа
- АЭМК Археология и этнография Марийского края
- АЭБ Археология и этнография Башкирской АССР
- БГПИ Башкирский государственный педагогическийинститут
- ВАУ Вопросы археологии Урала
- ВМУ Вестник Московского Университета
- ГАИМК Государственная Академия истории материальнойкультуры
- ГАКО Государственный архив Кировской области1. ИА Институт Археологии
- ИАК Известия Археологической Комиссии
- ИИКНИ Институт истории и культуры народов Приуралья
- ИОАИЭ Известия Общества археологии, истории иэтнографии при Казанском университете КАЭ Камская археологическая экспедиция
- КВАЭ Камско-Вятская археологическая экспедиция
- КГУ Казанский государственный университет
- КСИА Краткие сообщения Института археологии
- КСИИМК Краткие сообщения института историиматериальной культуры МАВГР Материалы по археологии Восточных губерний1. России
- МИА Материалы и исследования по археологии СССР
- МКФУ Международная конференция финно-угорскихнародов
- НКАЭ Нижне-Камская археологическая экспедиция
- НКТП Народный комиссариат тяжелой промышленности
- ПГУ Пермский государственный университет
- РАНИИОН Российская ассоциация научно-исследовательскихинститутов общественных наук СА Советская археология
- САИ Свод археологических источников
- ТВУАК Труды Вятской ученой архивной комиссии
- УАЭ Удмуртская археологическая экспедиция
- УдГПИ Удмуртский государственный педагогическийинститут
- Уральского Отделения Российской Академии Наук1. Z