Русский архитектурный декор ХVII века: (На прим.
москов. и ярослав.
памятников)
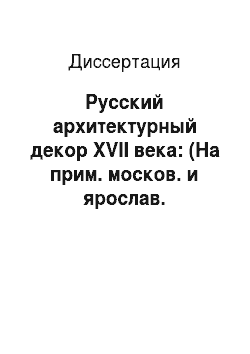
7 собственной непоследовательности" * Как видим, Некрасов доводит до предела негативную оценку архитектурно-декорационного творчества ХУЛ в": рассматривая архитектурный декор в связи с другими видами декоративного искусства, он гораздо острее, чем авторн «Ис тории», чувствует всеобщий и радикальный характер происходившего в ХУЛ в, разрушения традиционных форм древнеруоской архитектуры. Другая… Читать ещё >
Содержание
- — Введение
- Глава. вервая декор в структуре московских бесстодпных храмов
- Глава вторая.
- Структурнто ооо<$вжности храмов яроедавской школы
- Глава третья.
- Декор галерей и крьиец храмов ярославской авожн
- Глава. четвертая
- Декор «холодных» храмов ярославской школы
- Глава. нятая
- Оконные налячники ярославской школы
Русский архитектурный декор ХVII века: (На прим. москов. и ярослав. памятников) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Глав* вервая.
Декор в структуре иосковских бесстояпных храмов 20 Гдава вторая.
Структурна" особенности храпов ярселаэской школы 73.
Глава третья.
Декор галере* и крылец храмов ярославской школы.
Глава четвертая.
Декор «холодных» храмов ярославской школы 135.
Глава яятая.
Оконные наличники ярославской школы 159.
Заключение
—. 199.
Црявданкя 211.
Сжхоож лятвратурн №.
Если бы мы побольше вдавались в мелочи, это шло бы на пользу нашей архитектуре. Органическое мышление не лимитирует возможности подразделений.
Луис Салливен.
Представление о пространственно-объемной композиция как о едином органическом делом, которое членится и размножается согласно особам, чисто архитектурным закономерностям, являясь в то Ее время творением искусства, выр&жавдим самочувствие человека, ого концепцию мира, его отношение к природе, другому человеку и к социальной среде, — подводит нас к проблеме архитектурного языка.
Иван Жолтовский*.
Декором в архитектуре мя обычно называем такие художествен-вне сродства организации архитектурной поверхности, которн", не вытекал прямо из функциовальных и конетруктивнкх требований сооружения, как бы привносятся извне, апплицируются на уже «гото-вую» поверхность с цель" ее украшения. Эта формулировка нуждается в уточнении, поскольку слишком часто за ней скрываетоя представление о декоре как об автономной системе «оформления», чужеродной архитектурному организму, — представление, одинаково характерное и дкя «современного движения», изгонявшего из архитектуры всякие привнесенные формы, и для постмодернизма, возлагающего на эти формы особую смысловую нагрузку. Одна и та же ковцепция — хотя и с противоположной ценностной ориентацией — прот свечивает в таких полемических крайностях, как «мамина доя жилъя» Ле Корбюзье и «декорированный сарай» Вентури.? других олучаях одностороннее понимание декора как простого украшения низ" водит его на роль необязательного, второстепенного компонента архитектура".
В нашем привычном словоупотреблении «декор» и «украшение» превратились в синонима* Нежду тем латинокое decor или decusодна из основных категорий античной риторики, — в отличие от or-nementum (украшение), означало пристойность, уместность, «Уместное — самое важное и совершенное из достоинств речи, — говорит.
А" ласив, буквально значит «делящий пригодным». Китайокое «вэнь» -" культура" является дериватом первоначального «вэнь» -" у8ор" («узор иди риоунок, нанесенный на что-либо простое, чистое, голое»), вк" ражая представление о культуре как об узоре, украсившем «естественную» человеческую природу5*? русском языке латинокому ornanantum точнее всего соответствует слово «наряд», обладавшее в древности множеством сходных значений6- в частности, оно применялось не только к внешности, одежде, но и к вооружению (например, «городовой наряд», т. е. крепостная артиллерия) и в том и другом случае имелось в виду нечто, хотя и привнесенное извне, но представлявшее собой необходимую и неотъемлемую принадлежность наряжаемого. «К тому же, — прибавляет Гздамер, — украшение не является изначально вещью для себя, а уж ватам применяется где-тооно относится к области самопредставления того, кто его носит» Украшение включается в представлениено представлениеэто бытийный процесс, репрезентация" Украшение, орнамент, помещенная на видном месте пластика репрезентативны в том же смысле, 7 что и сама церковь, в которой они представлена" .
Отметим также корневое родство слов «наряд» и «порядок» (основное значение слова «наряд» в языке древней? уси — порядок, устройство, организация): нарядить — значит упорядочить (ср. отоогйто), значит в н ест ж. с м ы с л, выя в и т ь к о I кратное содержание предмета".
Этот краткий экскурс помогает нам осознать декор как чрезвычайно существенный и д в у ото 1 компонент архитектуры. С одной стороны, он, действительно, привносится извне и, в качестве такового, случаен, необязателен в контексте собственно Архитектурной формыего применение допускает сравнительно внсокую степень овободы. С другой стороны, поскольку это привнесение отвечает потребности в том, что «уместно» именно для данного конкретного вооружения или группы сооружений, он, будучи привнесен, становится необходимой органической частью архитектурной формы, естественно как бы вырастает-из нее и в этом своем качестве подчиняется логике архитектурного формообразования. Декор завершает «построение формы в соответствии с развиваемым изнутри структурным принципом, образуя тот внешний, последний уровень иди слой пластической и цветовой детализации, в котором форма обретает свое индивидуальное, до конца осмысленное бытиено он не определяется воецело этим принципом, поскольку завершающее осмысление архитектурных значений формы производится посредством инкарнируемых, внеархитектурных формальных мотивов, а также мотивов, почерпнутых из угасающей или чуждой архитектурной традиции (когда, например, конструктивные элементы переосмысляются как чисто декоративные) ¦ Это не „изъяснение“ тектоники (по К"Беттихеру), но и не скрывавдее тектонику „одеяние“ (по Г. Земнеру) — о декоре можно сказать словами Гераклита, что он, подобно Дельфийскому владыке, и не говорит, и не утаивает, а о подает знаки • И в1"Ьо1а > и вшр1о"а1 В. Декор, в сущности, яв ляется интерпретантоы архитектурной формыпротивопоставлять их друг другу так же ошибочно, как и полностью отождествлять между собой. Отсюда — относительная самостоятельность декора ' как компонента, общего различным, пересекающимся структурам». Его сфера — это сфера осуществления синтеза искусств, имевшая крайне неопределенные и очень подвижные очертания* Трудно, почтя невозможно провести четкие, безусловные границы, отделяющие декор, с одной стороны, от ооботвенно архитектурной формы, а с другой — от форм прикладного и изобразительного искусств, из которых черпаются его мотивы и образы: здесь властвует управляющий синтезом принцип не-прерывности* Можно сказать, что декором архитектура выходит за свои пределы, открывается в область единого художественного языка данной эпохи, — так же как «с другого конца» она открывается в утилитарное функционирование* Декоративный слой не остается неизменным -" раз возникнув, он начинает поглощать (и преобразовывать) архитектурную форму, одновременно вовлекая в оинтез новые мотивы и образа «извне», но он способен также свертываться и почти исчезатьего отсутствие может бить не менее красноречив", чем избыток. Эта подвижность, относительная независимость декора от структуры делает его послушным и гибким эм оцнонально-внра8Ителыщм г. средством в руках зодчего. Обособление se декора в застывшие, жесткие, легко различимые граница (всегда — с обеих сторон сразу) свидетельствует о разрушении архитектурной целостности и целостности искусства вообще* Понятна поэтому острота и непримиримость конотруктивистской реакции «направленной в первую очередь против докора, выродиввегооя в автономную, всецело адшшцированную, стилизованную «систему»: «плохой» декор справедливо отождествляется с «плохой» архитектурой.
Таким образом, проблематика декора неразрывно переплетается с проблематикой архитектурной формы как таковой и — шире — художественной формы вообще10, «Что такое красота и украшение и чем они мевду собой разнятся, мы, пожалуй, отчетливее поймем чувством, чем я могу изъяснить это словами» , — признается Альберти и определяет ornamentum как «некий вторичный свет красота, или, так сказать, •е дополнение» 11. Г^Земпер видит в украшениям символы «космических» закономерностей, а также «исключительно четкое и наглдаое прояв.
12 леяие закона стиля в искусстве". «Наиболее сильной» формой выражения считает их и ЛЦСалливен, наотаивавдий на том, что «композицию масса и декоративную систему строения. следует разделять.
Т7 ' строе мыслей современников" •.
Как видим, кроме прямолинейно «конструктивиотской», существует другая (и токе традиционная) концепция декора, — концепция, разработанная такими зодчими-мыслителями, которых не упрекнешь в непонимании. проблем архитектуры, в том числе проблем, выдвинутых текущим столетием. Б свете этой концепции мы и рассмотрим русский архитектурный декор ХШ в" - необычайно зркий* самобытный пример использования пластических средств в архитектуре, до сих пор еще в должной степени не изученный.
Ведущая роль декора в создании архитектурных образов 2УП в* неоднократно подчеркивалась исследователями. «Едва ли не здесь только должны мы искать старинное наше изящество и красоту и старинный, чисто русский узорочный вкус» , — писал в 1862 г. И.Е.Забелин*8, предвосхищая поднявшуюся в 1880—1890-х гг. волну всеобщего увлечения «народными» и «самобытными» декоративными формами ХШ в* и тот «наивный сциентизм», (по удачному выражение Е.А.Борисовой), с каким эти формы изучались, обмерялись, издавались и воспроизводились на фасадах отроедихся зданий19. Начавшийся внесте со опадом. «русского стиля» пересмотр значения ХУЛ в. в истории русской архитектура означал" в первую очередь, переоценку созданнего эпохой декора. Эта переоценка била скреплена заключением.
И.Э.Грабаря в первой многотомной «Истории русского искусства» .
I9II г.): «В 17-м веке зодчество Москвы разменялось на мелочи,.
20 ударившись в орнаментальную эквилибристику*"*" Впрочем, и Гра барь допускал, что «перед некоторыми наличниками окон или перед крыльцами, а иногда и перед целыми стенами храма московско-ярославского типа приходится привнать, что в искусстве декорировать.
Москва достигла не меньшего, нежели Новгород и Псков в искусстве.
2 Т строить". Так или иначе, ничто из того, что было достигнуть предшествующим периодом в изучении декора ХУЛ в. не было упущено в «Истории» — специальные ее главы, повторяя тематику и приемы предшествующих исследование22, даже были посвящена «узорчатости» храмов, а также «окнам», «дверям» и другим деталям архитектурного уб-ранотва. Несмотря на произведенную переоценку, исследователи начала XX в.2^ сходились с историками и практиками «русского стиля» в главном — в представлении. архитектурном декоре, в Частностио декоре ХУЛ в", как об автономной, все ц е л о с, а м о с т о.
ЭЛ я т е л, ь, но й с и с т е м, а • Известный шаг вперед выключался в Фом, что избранный авторами «Историй» типологический принцип изложения материала чаото вынуждал их рассматривать декор в связи (правда, неосознанной) с конкретными архитектурными типами построек, а также о отдельными композиционными объемами (такими, мак ко* лок<^йьни, крыльца и др.).
Обособляющее" представление о декоре продолжает расшатываться в 1920;х гг. «Входить в подробности архитектурной декорации ХУЛ века, — писал в 1924 г. А. И. Некрасов, — это значит говорить, в значительной мере, о самой архитектуре этого времени.» ?®но и для.
А.И.Некрасова декор был всего лишь «отвлекаемым от вещей их при ос датком, подчиненным законам ритмичности», отсвда неизбежная односторонность в изображений’интенсивного развития декоративных средств архитектуры: «ХУЛ век пошел по этой дороге и логически при-вел к уничтожение древнерусского искусства. Ведь нельзя же боло долго дробить форму ради украшения и насиловать ее структуру «чтобы не уничтожить, наконец, эту самую формунельзя было удовлетворяться одним узорочьем, чтобы не впасть в результате в бессодержательную игру* •• «Декорация, предоставленная самой себе, превращала форму в детский лепет, да и сама должна была запутаться в.
2*7 собственной непоследовательности" * Как видим, Некрасов доводит до предела негативную оценку архитектурно-декорационного творчества ХУЛ в": рассматривая архитектурный декор в связи с другими видами декоративного искусства, он гораздо острее, чем авторн «Ис тории», чувствует всеобщий и радикальный характер происходившего в ХУЛ в, разрушения традиционных форм древнеруоской архитектуры. Другая — творческая, прогрессивная — сторона этого процесса была вскрыта В. В. Згурой, соавтором Некрасова по сборнику «Барокко в Роосии» (1926 г*)" «Органическая*** эволюция, — писал он об архитектуре ХУЛ в. — развив, а е т старые форма, придавая ям иное вы раж е н и е, устанавливает новые цриемы, н овое по аи ма н и е» (ваделено мною — СЛГ*)2®-* В «<5вооодер жательиой игре» и «детском лепете» Згура разглядел новое, особое художественное мировоззрение, которое не столько завершает предшествующее развитие, сколько смыкается о будущим, открывая новую эпоху в истории русской архитектуры. Это мировоззрение проникает с* не только различные компоненты архитектуры, но и образы смежных искусств и лишь с особенной наглядностью выражается в архитектурном декоре: «.На первом плане стоит плаотическое выражение, в котором без сомнения и запечатлелась художественная воля русского.
ХУП века и его стилистическое устремление". Впервые обзор русской архитектура ХУЛ в. с ясно осознанной делыо сосредоточился на декоре, понятом именно как система, т. е. как взаимосвязь и взаимодействие составлявших элементов, подчиненных единому принципу, — тогда как для предшественников Згура декор гул в. бал только четко очерченным набором определенных форм, оправданным лишь в той мере, в какой он смыкался с традиционными формами.
К сожалению, статья Згуры бала только предисловием к большому исследованию проблем русской архитектуры второй половины 2УШ ол в,: архитектура ХУЛ в. интересовала автора лишь в качестве стилистического явления, предшествующего более поздним стадиям барокко, и лишь постольку" поскольку ее возможно было подвеоти под «понятия» этого стиля* Б дальнейшем историки русской архитектура отказались от «понятий» и от. самого термина «барокко» применительно к 27Щ в. (только Б. Р. Виппер в 1940;х гг. сделал еще одну попытку.
По-видимому, этот возобновляющийся интерес неслучаен: он от-ражает новую важную тенденцию и в развитии современной архитектуры, и в соответствующей перестройке архитектурной теории. «Утверждение коитекстуальнооти и возродившийся интерес к культурным корням современности, к истории и традиции, — пишет А. В. Иконников, -определяют как будто некую параллель между процессами, развивающимися в архитектуре у нас и на Западе. (.) У нас контекстуальность связанная с подчеркнут» интересом к гуманистическим ценностям, возникает как реакция на издержки научно-технической революции — техницистские увлечения, прямолинейный утилитаризм. (.) Стало ясно, что утилитарная целесообразность сама по себе еще не обеспечивает ни важной для человека культурной информации, ни эстетической ценности, что завоевание художественной образности, на которой основана ценностно ориентирующая, воспитательная Функция архитектуры,.
39 требует особых творческих усилий". «В наши дни: — вторит другой исследователь современной архитектуры, — рождается убеждение, что Проблема пластики архитектурной формы есть ключ к поискам новой «разительности,. (.) Профессиональный интерес к архитектурным деталям, заметно возросший за последнее время в творчестве очень разных мастеров, те тенденции, которые прослеживаются в проектах и п6о*ройках, позволяют говорить о том, что архитектурные детали снова начинают играть существенную роль в развитии обьемно-цространствбЩой композиций сооружений. (.) Тяготение к пластической выразительности в чем-то является откликом на возросшую потребность в художественном разнообразии архитектуры, в одухотворенности и человечности ее языка» 40. Художественно осмысленный, проникнутый напряженной пластической жизнью внешний слой архитектурной формы становится, во-первых, действенным средством образной индивидуализапии сооружений, своего рода «знаком» каждого из них, носителеи как прямых, так и скрытых символических значений, активно уо-ваиващим образность дизайна и монументального искусстваво-вто-рых, он становится не менее действенным средством формирования наружного пространства архитектуры — от отдельных ансамблей до це.
Ш лостной градостроительной ткани, — средством создания новых и восстановления нарушенных пространственных взаимосвязей. Складывает-ся новое представление о декоре как о некоей м е з о с т р у кт у р е (термин" Ю. С"Лебедева), образующей пограничную зону взаимодействия сооружения и его пространственной среды, Указанная тенденция (все очевиднее утверждающаяся в качестве одной из ведущих тенденций архитектурного процесса второй половины XX в.) заставляет по-новому взглянуть на руеожую-архитектуру ХУЛ в., которая до сих пор невольно все еще аоооцмируетоя с «русским стилем». Думается, что именно теперь настало время заново «открыть» эту архитектуру, подобно тому, как каждая стремящаяся к самоопределению эпоха «открывает» в прошлом родственные ей творческие устремления, в которых она себя неожиданно опознает и о которыми поэтому себя отождествляет" «•••Еве в неподобном может быть из-речено то же самое,-говорит Хайдеггер, — там как бы само собой пополняется основное условие для мыслящего собеседования позднего времени и раннего» 41.
Такая актуализация теми декора требует особах, интенсивных методов его исследования. Нас уже не могут удовлетворить ни тривиально-суммарнае характеристики декорационной системы ХУЛ в., ни подробное, «объективно» -отстраненное ее описание, ни беглые ссылки на отдельные, произвольно выбранные детали. По-видимому, успешное сочетание обоих указанных аопектов — и имманентности, и архитектурной обусловленности декора — возможно только при с и с т ематическом его исследовании. Методика такого исследования не нова — она применялась еще Битрувиемновым, пожалуй, будет I ее применение к неклассическин формам русской архитектуре ХУЛ в.44.
Эта методика предполагает разложение архитектурной целостности на составляющие компоненты — с там, чтобы, упростив таким образом исследуемый материал, выявить в нем различные стороны и моменты непосредственно уже опознанного в целом формообразующего принципа. Подобно тому, как мы вычленяем из целого слой декорационного ос -" мысления поверхности, мы и сам этот слой расчленяем на отдельные элементы (декоративные формы, мотива, приема). Отвлекаемые от неко-р торого множества архитектурных вооружений, они классифицируются и сводятся в хронологические ряды: каждый элемент предстает перед нами не в готовом, застывшем, раз и навсегда данном виде (как предстает при изучении отдельно взятого сооружения), а в своем станов лении, изменчивости, многообразии, — акцент исследования переносится с состояний на процесса. Соотнесение этих процессов со струк турными изменениями позволит проникнуть в «третье измерение» деко.
45 ра — в область интерпретируемах им значений архитектурной форма. «Выяснение этих значений как фиксированных зависимостей декоратив вах элементов от структура и является конечной целью данного исследования.
Очевидно, что эффективность подобного теоретического демонтажа повышается с увеличением количества демонтируемых объектов. Чем больше рассматривается случаев применения того или другого элемента, чем разнообразнее рассматриваемые контексты, в которых он применяется, тем полнее раскрываются его внутренние возможности и структурные связи, — тем, стало быть, отчетливее выступают иск©- -мне значения. Систематическое исследование стремится, в конечном счете, к исчерпывающему охвату материала. В настоящее время это стремление оправдано коллективной работой по составлению Свода памятников, в результате которой создается практическая база для пола добных исследований. Вместе с тем возникает необходимость в известных ограничениях. Дело не только в том, что в рамках, например, данного исследования не представляется возможным охватить вес! огромный и разнородный материал памятников архитектуры ХУЛ в. Самоочевидное методическое требование е дин с т в, а исследуемой структуры обязывает нас, прежде всего, группировать материал в соответствии с архитектурными типами построек.
Материалом для исследования послужили московские бесстолпные храмы и храмы т.н. яроолавской школы — две большие группы памятей-ков-От в. с четко, выраженными типологическими и стилистическими признаками. Обе группы давно привлекают внимание историков русской архитектуры как ввдапцнеся, характерные явления в зодчестве ХУД в.- лучшие памятники этих групп составляют особые разделы даже в самом беглом обзоре художественных достижений эпохи. В обеих группах декор достигает, своего предельного развитая, но в различных структурных условиях оно протекает по-разному. Так, в условиях новой, впер* вые создаваемой структуры московского бесстолпного храма новый декор возникает сразу, во всей своей полноте и по воей архитектурной ' поверхности, тогда как в условиях традиционной, лишь видоизмененной структуры четырехстолпного ярославского храма он складывается постепенно, на протяжении длительного рремени, овладевая сначала периферией композиции (галереи, крыльца) и лишь затем — ее цент-ром (фасадные плоскости собственно храма) «Очевидно, что именно этот, медленно и затрудненно, но вое же полностью выработанный, вариант общего архитектурно-декорационного языка эпохи представляет особый интерес для систематического исследованияименно здесь, на пределе возможностей этого языка, наглядно обнаруживается его внутренняя логика, обнажаются пружины повсеместно действующего формообразующего принципа. Сама.
I замедленность генезиса декорационной системы ХУЛ в* на ярослав ской почве позволяет проследить его во всех подробностях, которые в других случаях скрадываются либо стремительностью, либо половинчатостью формообразования. Ясно поэтому, что главным предме том систематического анализа становится декор ярославской школы с ее подчеркнутым в самом материале и хронологически развернутым сопоставлением двух контрастирующих видов архитектурной поверхнооти: аркад галерей с крыльцами и крупных фасадных плоскостей холодного" храмак этим двум основным «синтагмам» ярославского декора добавляется третья — оконные проемы, оформление которых также обладает очевидной самостоятельностью и при этом не связаж, но определенным местом в архитектурной композиции. Со своей стороны, московские бесстолшше храмы, представляющие собой новую, созданную эпохой архитектурную целостность, в которую изучаемый декор входит как ее неотъемлемый органический компонент, являются наилучшим материалом для предварительного опознания непосред.
• етвенно данного в произведениях формообразующего принципа (в!с!о", е^еИ). Взаимное соотнесение этих двух стилистически* крайностей ХУЛ в. — московской и ярославской школ — поможет нам уловить общий горизонт архитектурных значений эпохи, в индивидуальных особенностях ярославской школы разглядеть проявление повсеместно действующего принципа.
Итак, если в отношении московских бесстолпных храмов нас интересует прежде всего сам момент возникновения декорационной системы ХУЛ в, и ее основные характеристики, выводимые из созданной в 1630-х гг. архитектурной целостности, то в отношении храмов ярославской школы — замедленный генезис этой системы, постепенное формирование ее элементов нараду о развивающимися между 1620 и.
1690 гг. структурными особенностями этих храмов Это определяет $ весь ход дальнейшего изложения. Первая, вводная глава посвэдена декору московских бесстолпных храмов как органическому компоненту новой архитектурной целостности, вторая — структурно" особенноетж храмов яроелажвкой школы, определяющим особенности ее декорационных решенийтретья, четвертая и пятая главы содержат собст венно систематическое исследование трех указанных «синтагм» ярославского декора, формирование которых рассматривается в хронологической последовательности. Понятно, что в первую очередь — в со-^ ответствии с ходом генезиса — рассматривается декор галерей и крылец, затем — декор самих «холодных» храмовоконные наличники, в конечном счете «обобщающие» архитектурную поверхность, рассматриваются в последнюю очередь. <
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Я действительно чувствую.", что здесь — в этом идеале органичной формы — следует искать главное направление не только самой архитектуры, но и подлинно собственной культуры для всех в современном мире.
Фрэнк Ллойд Райт.
Итак, мы рассмотрели памятники ярославской школы как один из двух наиболее типичных вариантов развития русского архитектурного декора ХУЛ в. В отличие от московских бесстолпных храмов, декор которых сложился стремительно, скачкообразно: от предшествующего состояния сразу к готовому результату, — ярославские «холодные» храмы демонстрируют замедленное, растянутое во времени, многофазовое развитие новой организации архитектурной поверхности. Это дало возможность последовательно, шаг за шагом и элемент за элементом, проследить весь ход этого развития, начиная от исходных форм предшествующей эпохи и кончая кристаллизацией местных особенностей школы. Переориентировав исследование с состоя -" ' ний на процессы, мы рассматривали элементы декора в д в и ж е н и и, следуя внутренней логике их развития, одновременно выясняя и истолковывая эту логику.
Систематический анализ основных «синтагм» ярославского декора (оформление арочных валерей и крылец, оформление фасадных плос костей собственно храма, оформление оконных проемов) позволяет сделать следующие выводы по трем намеченным исследовательским аспектам.
Следствием замедленного развития явилась в ярославском декоре целая группа форм, которые, будучи производными непосредственно от форм предшествующей эпохив свою очередь предшествовали появлению новых, привносимых форм ХУЛ в. Вертикальный ряд квадратных впадин* полученный из длинной «годуновской» филенки посредством ее дробления и растягивания через междуярусное чле нение, многообломный, заглубляющий арочную кромку архивольт, восходящий к охватывающему арку валику, импосты закомар, развернутые по плоскости «нецрикрепленных» лопаток, наличник, решенный на основе валиковой рамы, — все эти формы заполняют тот эволюционный пробоя, который подразумевается в архитектуре московских бесстолпных храмов. Прослеживая их последовательные видоизменени я, мы убедились, что эти видоизменения имеют определенную направленностъ, а-именно — направленность в сторону все более полного воплощения. общих декорационных принципов эпохи, знакомых «нам по московским бесстолпным храмам. Новые. формы — такие, как массивный антаблемент, сгруппированные полуколонны, наличник с дифференцированными элементами обрамления — привносятся на уже подготовленную почву, как бы продолжая единый, плавно протекающи! процесс. Таким образом, вывод, который может быть сделан в отношении динамики элементов декора ХУЛ в., — это вывод об органическом характере их развития: при всей своей новизне и изменчи гости привнесенные формы развиваются на основе традиционных (следовало бы сказать: традиционно привнесенных), и то, что в декоре московских бесстолптных храмов выглядит резким переломом, внезапным и бурным разрывом с традициями, есть просто пропущенный или, вернее, скрытый, латентный этап эволюции, — этап, выявленный в творчестве ярославской школы****.
1. нутого ритмического, мотива (Воскресенский собор .в Тутаеве), вертикалыше ряды квадратных впадин тотчас уступают место, привнесенным тройнымполуколоннам, «обозначившим» исчезнувшие конструктивные. элементы*66. .Одна метафора. подготавливает-друхтю, ра идет. по. пути освобождения архитектурного языка от однозначной структурной «прИ1фепленности». .. ^ Таковы. основные, выводы из проведенногоисследования*67. Они вплотную подводят .нас к. проблеме исторического содержания архитектуры ХУЛ в*.т.е. к проблеме более глубокихсмысловых соотвеТ-* ствий. Если в архитектурном декоре, происходи столь серьезные, радикальные изменений, то закономерно возникает вопрос: какие изменения общественного сознания стоят за этим? (Подчеркнем, что мы имеем в виду ту историческую подлинность. сознания, которая лишь отчасти, выражается в идеологических формулировках, в «истории идей», ту подлинность, на почве которой только и возможна встреча.
TCO различных исторических самооознаний и интерпретация). Речь идет о м ировидении людей, переживших Смуту и «разорение» и вступивших в полосу мятежей, церковного раскола, усиливающегося давления со стороны созданного ими государства. Соб-ствещю, без общего предварительного представления о том глубоком. духовном кризисе, которым бело потрясено русское общество в бедствиях начала столетия, когда «разделившаяся надвоевси человеци» и «во всей Росии изыде с мечем друг на друга. самодержавие, выше человеческих обычаев устрояя и крови проливая», когда «всяк.-от своего чину выше начашя сходитиг. рабы убо господие хотяше быти, а неволнии к. свободе прескачуще. царем же играху,.
TfiQ яко детищем", когда, одним оловом, рухнул, распался весь вековечный порядок вещей и прежний дельный, устойчивый, твердо очерченный мир неожиданно предстал, бесконечностью пестрых, зыб ких, «мимотекущих» феноменов «не поддающихся или только отчасти, о трудом — поддавшихся упорядочиванию (ср. Точные v"ri"t»"), без. этого, -представления, мы не. смоглибы даже приступить к настоя.
170 щему исследованию. Переворот мировидения^ так наглядно отразившийся в архитектурном языке эпохи «. подтверждается и языком как таковым,. К середине ХУЛ в. значительно., ускоряется, начавшийся еще в. предыдущем столетии распад системы церковнославянского языка, вытесняемого из литературы живой русской., речью с, ее свободой выражения, с ее. особенностями местных говоров, подвижной лексикой и. грамматикой, упраздняющей,.в частности, временные, формы пребывания — аорист и имперфект. Этот напор, просторечия затрагивает даже, предпринятое исправление, церковных книг, даваяповод ревнителям древнего благочастия упрекнуть «московских справщиков» в jeom, что они «обычай имеют тою своею мелкою грамматикою Бога он.
• 210 -171 ределять мимошедшими времяны". Неустойчивое, текучее «согласо вание» нормативного литературного языка с разговорно-бытовой речью приводит к разрыву между употреблением этого языка и его значением*^- новый исторический опыт, не находя еще для себя дискурсивного способа выражения, высказывается метафорами, «Язык дер ковнославянский становится орудием произвольных вымыслов,., поразительно звучат в нем, резко противополагало ь с его характером и формами, тривиальные народные и иностранные слова я выражения, на которых лежит печать современности. Этот беспорядок, это странное, будто бы разрушающееся состояние указывает на новый порядок, п на новую жизнь, уже бдижущуюся и смутившую прежнее состояние.,.» ' Осознание различия-между, «голыми делами» и «подобающими» им ело < вами — вызывает появление риторики (первая русская книга по риторика создана зодогодеким епископом Лакарнем в. 1619 г^), учившей «к там делам придавать и прибавливать. оит словесные кабы что ризу .
ИТ74 т ' честну или некую одежю" * Так прокладывается путь к ¿-«согит мышлению ХУШ в.
Список литературы
- Аксаков К.С. Собрание сочинений. Т.2. М., 1875.
- Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. T.I. М.(1935.
- Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Барщевский И. Исторический очерк гброда Ярославля. -Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Кн.З. Ростов-Ярославль, 1900.
- БогоявленсКйй С.К. О Пушкарском приказе. В кн.: Сборник в честь М. К. Любавского. Пг., 1917.
- Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. '.Х6. Бочаров Г., Выгалов Б. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М., 1969.
- Брайцева О.И. Строгановские постройки рубежа ХУП-ХУШ веков. М., 1977.
- Брунов Н.И. К вопросу о некоторых связях русской.архитек-. туры с зодчеством южных славян. «Архитектурное наследство», № 2,М., 1952., '
- Введенский' А. А. Библиотека и архив у Строгановых в ХУТ-ХУП вв. Вологда, 1923.
- Виолле ле Дюк Э. Русское искусство, его источники, его составные части, его высшее развитие, его будущность. М., 1879.
- Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970.. 24* Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. 25* Воронин Н, Н. Очерки по истории русского зодчества ХУ1ХУП вв. М.-Л., 1934.
- Выголов В.П. Ярославль, Памятники архитектуры и искусства. «М., 1985, — ¦
- Выголов В. П. Архитектура Московской Руси середины ХУ ве
- Вятчанина Т.Н. Архангельский собор Московского Кремля как * дбразец в русском зодчестве ХУХ в. „Архитектурное наследство“, * 34, М., 1986.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988.¦ 30. Гамбурцев В. Архитекторская команда. Очерк московских уч- „¦рождений, ведавших строительное дело и обучение ему. М., 1894. г>, *
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т.2. М., 1969.
- Падион 3. Пространство, время, архитектура. М., 1975.
- Головщиков К.Д. История города Ярославля. Ярославль. 1889.
- Головщиков К.Д. Город Романов-Борисоглебск и его историческое прошлое. Ярославль, 1890.
- Голубинский Е. История русской церкви. Т.12, кн.2. М., 1917.
- Горностаев Ф.Ф. Ярославские и Ростовские храмы. В кн.: Грабарь И. Э. История русского искусства. Т.2. Б.м., б.г.
- Грабарь Игорь. О русской архитектуре. Исследования. Охрана памятников. М., 1969.
- Гринцёр П.А. Санскритская поэтика и античная риторика: Теория „украшений“. В кн.: Контекст-1983. М., 1984.39. 1>лянйцкий Н. Ф, 0 своеобразии и преемственных связях ордерного языка в русской архитектуре. „Архитектурное наследство“, J6 23, U“, 1975.
- Давид Л. Церковь Трифона в Напрудном* В кн.: Архитектурные памятники Москвы веков. М., 1947. „
- Давид Л.А. Церковь Антипия у государевых больших конюшен В Москве. В кн.: Реставрация и исследование памятников культуры. Веш.1. М., 1975.
- Даль Л. Церковь Грузинской божьей матери в Москве.- „Зодчий“ 1877. .
- Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
- Добровольская Э. Д, Церковь Николы Надеина в Ярославле. -В кн.: Культура и искусство Древней Руси. Л., 1967.
- Добровольская Э.Д. Ярославль, М., 1968.
- Добровольская Э.Д. У истоков каменного посадского зод -чества Ярославля. (Церковь Рождества Христова на Волге). В кн.: Культура средневековой Руси. Л., 1974,
- Евсина Н.А. Архитектурная теория в России ХУШ в, М., 1975.
- Забелин Й.Е. Материалы, но истории, археологии и статистике московских церквей. М., 1884.
- Забелин И.Е. Материалы для истории и археологии города Москвы. М., 1891.
- Забелин И.Е. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. М., 1900.
- Згура В.В., Проблемы и памятники, связанные с В.И.Баженовым. М., 1928. -59/ Земцер Г. Практическая эстетика. М“, 1970.
- Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. В кн.: Леон Баттиста Альберти. М., 1977.
- Иванов Д. Германское искусство эпохи Возрождения в быте 1 Древней |*уси. В кн.: Сборник Оружейной палаты. М., 1925.
- Иванова И.В. Пластика архитектурной формы. В кн.: Маетерство композиции» Пространство, пластика, ансамбль. М.(1983. • 63* Иконников A.B. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
- Иконников A.B. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.
- Ильин М.А. Усадьбы Годуновых. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Кн.2, вып.5−6. М, 1928.
- Красовский М.К. Планы древнерусских храмов. Опыт иссле -дования допетровского русского церковного зодчества в связи с церковным зодчеством Византии. Иг., 1915.
- Красовский М.К. Курс истории русской архитектуры. 4.1. Деревянное зодчество. Пг., 1916.81- Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. О типичном русском храмеХУЛ в. «Архитектурное наследство», .№ 29, М., 1981.
- Кудряшов Е. В, К вопросу о первоначальных формах Успенского собора в Костроме. В кн.: Культура средневековой Руси. Л., 1974. ,
- Лествицын В. Краткий путеводитель по церквам города Ярославля. Ярославль, 1887. .
- ЛукомскиЙ Т. К. Памятники старинной архитектуры России в типах художественного строительства. 4.1. Русская провинция. Пг., 1914.
- Луппов С.П. Книга в России в ХШ веке. Л., 1970.
- Любименко И. Проект англо-русского союза в ХУТ и 27П веках. «Исторические известия», 1916, №№ 3−4.
- Любименко И. Труд иноземцев в Московском’государстве, -Архив истории труда в России. Кн.6−7. Пг,., 1923.
- МакариЙ (Вулгаков М.П.). История русской церкви. T. II-I2. СПб., 1882−1883.
- МакариЙ .(Миролюбов). Памятники церковных древностей.¦Ни-, негородская губерния. СПб., 1857.
- Максимов П.Н. Архитектура второй четвертиКонца ХУЛ ве-. ка. В кн.: Всеобщая история архитектуры, Т.6. М., 1968. 99. Максимов П. Н., Торопов С .А. Церковь села Чашникова Нарыш- - киных. -г «Архитектурное наследство», Л? 18, М., 1969.
- Мастера архитектура об архитектуре. М., 1972. a
- Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т.1−2. М., 1975. V -.
- Некрасов А.И. Очерки декоративного искусства д^евнейч Руси. М., 1924.1Q3. Некрасова М. А. Новое в синтезе живописи и архитектуры ХУЛ века, (росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле). В кн.: Древне-V- русское иокусство. ХУЛ век. М., Х964.
- Нечаев В. Малорусско-польское влияние в Москве и рус — екая школа.ХУЛ века. В кн.: Три века. Россия от Смуты до нашего -времени. Т.2. М., 1912.
- Нечаев В.Н. Симон Ушаков. В кн.: Изобразительное искусство. Л., 1927.
- Овчинникова Е.С. Реставрация одного редкого памятника архитектуры и живописи ХУЛ века. В кн.: Ежегодник Государственного исторического музея. 1961 г. М., 1962.
- Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках. Памятник живописи и зодчества ХУЛ века. М., 1970. .
- Пашкин Е.М., Бессонов Г. Б. Диагностика деформации памятни ков архитектуры. М., 1984.
- Первухин Н. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. М.,
- Петров П. Материалы для истории строительной части в России. СПб., 1869.
- Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московской государстве ХУ1-ХУП вв. СПб., 1901.
- Платонов С.Ф. Москва и Запад в ХУ1-ХУП веках. Л., 1925.
- Плеханов TJB. Сочинения. Т.20, М.-Л., 1925.122″ Полознев Д. Ф. Лета 7130 году. В кн.: Экспонаты музея рассказывают. Ярославль, 1989.
- Подъшольский С.С. Путеводитель по архитектурным памятникам Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. Вологда, 1963.
- Подъяпольский С.С. К характеристике кирилловского зодчества ХУ-ХУ1 вв. «Советская археология», 1966, Jfe 2.
- Раппопорт А.Г., Сомов Г.Ю, Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии. М., 1990.
- Сказание Авраамия Палицына, М., 1955.
- Сказания Массы и Геркмана. СПб., 1874.
- Словарь русского языка Х1-ХУД вв. Вып.10. М., 1983.
- Снегирев В. Аристотель Фиораванти и перестройка Московского Кремля. М, 1935.
- Снегирев И.М. 0 лубочных картинках русского народа. -В кн.: Исторический и статистический сборник. М., 1845.• 138. Собрание государственных грамот и договоров. Т.5. М., 1894. .
- Сперанский А.М. Очерки по истории Приказа каменных дел Московского государства. М., 1930.
- Султанов Н. Уборные части в московском зодчестве. -«Зодчий», 1879, т 9−10. 1 ^
- Суслов В.В. Очерки по истории древнерусского зодчества. СПб., 1889.
- Сычев Е. Икона Симона Ушакова в Новгородском Епархиальном Древлехранилище. Записки отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. Т.10. Пг., 1915.
- Сычев Н. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее. В кн. Материалы по русскому искусству, Т.1,ШЛ., 1928,
- Теляковский Н. Н, Старина и святдаи города Романова. Ярославль, 1913.
- Тихомиров И.А. Ярославское зодчество. В кн.: Ярославль в его прошлом и настоящем. Ярославль, 1913.
- Тид А.А., Воробьева Е. В. Пластический язык архитектуры. M., 1986.
- Толстой Ю. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. СПб., 1875.
- Три челобитные раскольников. СПб., 1862.
- Троицкий И. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1853.
- Уланов В, Западное влияние в Московском государстве. -В кн.: Три века. Россия от Смуты до нашего времени, Т.2. М., 1912.
- Фрагменты ранних греческих философов. 4.1. M., 1989. л 154. Хайдеггер М, Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. 14., 1991., >i
- Холмогоров Г. И. Йшиски из документов московского архива Министерства юстиции. M., I9IL"
- Цветаев Д. История культуры в России’в ХУ1 и ХУЛ веках. Воронеж, I8&0.- 157. Цветаев Д. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890.
- Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972., .
- Чечулин Н.Д. К вопросу о распространекии в Московском государстве иноземных влияний. М., 1902,.
- Чиняков А.Г. Архитектура второй половины ХУ началаit ¦ХУЛ в. В кн.: Всеобщая история архитектуры. Т.6. М., 1968.
- Шамурин Ю. Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич. -В кн.: Культурные сокровища России. Вып.1. М., 1912.
- Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. T.I. Киев. 1914.
- Шлет Г. Эстетические фрагменты. Вып.2. Пг., 1923.
- ШтеЙман Г. А. Сводчатые перекрытия гражданских зданий в русской архитектуре ХУ1-ХУП веков. «Архитектурное наследство», № 12, М., I960.
- Штейман Г. А* Некоторые конструктивные особенности покрытий ярославских храмов. «Архитектурное наследство», $ 22. М., 1974.
- Щукинский сборник, Т.З. М., 1904.
- Здинг Б. Очерки древнерусской архитектуры,. «София» 1914, № 2. ' - .
- Benesch О. The Art of Renaissance of Nothern Europe* «if' • • ' •Q">fcrl#e, 1947*. '. V16″. Bex (c)Id 0"v» Die Baukunst dar Renaissance In Da «itsohland, Mailand* Salgian und Denaaark. Leipzig, 1908.