Социализация.
Социология
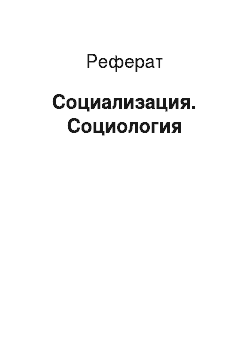
Д. Вести Д. Фаррингтон проследили судьбу 411 лондонских школьников «рабочего» района (по показателям преступности и другим район соответствует скорее категории «трущобного»). К 17 годам 84 стали правонарушителями, в том числе 51 — рецидивистами. Это позволило определить, какие же из установленных в ходе их развития факторы оказались «криминогенными». Естественно, что большинство молодых… Читать ещё >
Социализация. Социология (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Социализация — явление, к которому обращаются все общественные науки, поэтому в социально-гуманитарной литературе мы можем столкнуться с разными формулировками, определяющими это явление. Для одних социализация — это научение социальному поведению, для других — моделирование личности в соответствии с актуальными требованиями социокультурной среды, для третьих — подготовка к «социальному участию» в группах. Предложим определение, которое не противоречит ни одному из приведенных, интегрируя их все: социализация — это усвоение индивидом социального опыта путем включения в социальную среду и воспроизведение системы социальных связей и отношений.
Процесс социализации осуществляется соответственно возрастному развитию индивида и может быть условно разделен на ряд этапов. В возрастной психологии для выделения этапов или фаз развития применяются разные критерии: особенности интеллектуального развития (Ж. Пиаже), развитие сексуальной сферы (З. Фрейд), нравственного чувства (Л. Кольберг). Мы же обратим внимание на становление и развитие человека как существа социального.
Существование более или менее признанных для обоих полов и для всех социальных слоев фаз детства и юности обусловлено в основном двумя общественными предпосылками.
Во-первых, значение этого периода возрастает пропорционально росту профессиональных и социальных требований, предъявляемых к взрослым, в частности потребностям общества в квалифицированной и разносторонне используемой рабочей силе. Во-вторых, общество должно быть готово к такой «роскоши», как долгий период взросления, оно должно быть в состоянии нести затраты на то, чтобы в течение многих лет кормить и обучать целое поколение.
Такие условия сложились лишь относительно недавно и только в индустриальных странах, хотя и здесь социальные и половые различия накладывают сильный отпечаток на ход взросления. Прежде юность, если о ней вообще можно было говорить, была привилегией почти исключительно высших слоев общества и мужского пола.
Также культурно специфичны и представления о временных границах юности: «…для пятнадцатилетнего древнего грека еще продолжалось детство, для украинца и туркмена начиналась молодость, а чуваш считался уже «полным мужиком» «. В наши дни в постиндустриальном обществе период отрочества покрывает «практически все десятилетие между 10 и 20 годами». Причина столь явных расхождений заключается в том, что юность, как и любой другой период в жизненном цикле человека, соотносится не столько с календарным возрастом, сколько с формированием новой социальной идентичности.
Принимая во внимание, что основная социальная задача юности — вхождение во взрослую жизнь (в разных ее проявлениях), исследователи констатируют малый отрезок времени этого периода в обществах с присваивающим хозяйством, где ребенок с раннего возраста включался в посильный труд, а к девяти-десяти годам осваивал основные навыки добывания пищи3. Раннее включение детей в трудовую жизнь общности характерно и для традиционных крестьянских культур: в России XIX в. оно происходило в семь-восемь лет.
Детей со взрослыми в традиционных культурах объединял не только совместный труд. Принципиально важно, что дети при принятом в традиционном обществе типе воспитания получали «не специально препарированную и полную условностей, а правдивую и неупрощенную информацию о жизни взрослых и об их взаимоотношениях», от них не скрывали никаких тайн, кроме религиозных.
Именно сравнение практик социализации подростков, принятых в «примитивных» и современных (европейских и американской) культурах (в частности, в работах М. Мид сопоставлялось прохождение периода отрочества американок — сложный период жизни, сопряженный с конфликтами и стрессами, — и девушек с острова Самоа), и выявленные различия позволили «поставить под сомнение существование универсальной схемы взросления» -.
Р. Бенедикт также считала, что о возрасте между половым созреванием и началом взрослой жизни как о периоде психологических и социальных потрясений можно говорить только применительно к индустриальному обществу. По ее мнению, современные «западные» нормы и институты социализации отличаются от принятых в традиционных культурах тем, что не только не облегчают переход к взрослому состоянию, по даже затрудняют его. Причина в том, что в западных культурах подчеркивается контраст между поведением взрослых и детей: «…ребенок — бесполое существо, зрелость взрослого основывается на половой активности; ребенок должен быть защищен от грубых фактов жизни, взрослому необходимо уметь встречать их лицом к лицу; ребенок должен слушаться, взрослый — руководить его поведением» .
По мнению Бенедикт, подобное воспитание приводит к тому, что «западному» подростку трудно попасть в «мир взрослых». В этом, собственно, и состоит кризис подросткового возраста: он связан с формированием новой — взрослой — идентичности.
Принципиальный вопрос, к которому обращается теория социализации, — активность или пассивность индивида в этом процессе. При ответе на этот вопрос имеет смысл учитывать две позиции — психологическую и собственно социологическую. С точки зрения социологического подхода в жизни человека можно выделить два больших этапа.
На этапе первичной социализации — в детстве — ребенок играет преимущественно пассивную роль (он, скорее, объект социализации), усваивая те социальные нормы, правила, образцы поведения, которые транслируются ему социальным окружением. Па этапе вторичной социализации в зрелые годы — активность личности значительно возрастает и человек получает возможность не только передавать социокультурные ценности следующему поколению, но и влиять на содержание социальных норм посредством собственной продуктивной творческой деятельности. Впрочем, с психологической точки зрения ребенок, даже только что появившийся на свет младенец, демонстрирует свои желания и потребности, проявляя себя как активное существо.
Социализация связывает друг с другом разные поколения. Причем сила этой связи культурно вариативна. В традиционных культурах опыт предков — основной ориентир развития личности, транслируемая старшим поколением информация однородна и упорядочена, более того, требует однозначного, безукоризненно точного выполнения множества обрядов, сопровождающих каждый шаг жизни человека от рождения до смерти и всю его хозяйственную деятельность.
Культуры таких групп, культуры, ориентированные па предков и традиции, М. Мид назвала постфигуративными, понимая под таким определением социокультурные системы, «где каждое изменение протекает настолько медленно и незаметно, что деды, держа на руках новорожденных внуков, не могут представить себе для них будущего, отличного от их собственного прошлого. Прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими — это схема будущего для их детей. …Для того чтобы сохранить такую культуру, старики были нужны, и не только для того, чтобы иногда вести группы людей на новые места в периоды голода, но и для того, чтобы служить законченным образцом жизни, как она есть» .
Современные этнические общности не имеют столь непререкаемых традиций и стабильной картины мира, многие элементы их культуры размываются — интернализируется хозяйственная деятельность, жилище, пища, искусство. Поведение предков уже не рассматривается членами группы как модель. Это кофигуративные культуры, в которых «преобладающей моделью поведения для людей оказывается поведение их современников». По разрыва поколений все-таки не происходит. Всегда остаются слои культуры, позволяющие осознавать свою принадлежность к этнической общности: язык, религия, миф об общих предках, историческая намять.
Теоретически можно предсказать и появление еще одного типа культур — префигуративных, где не предки и не современники, а сам ребенок определяет ответы на сущностные вопросы бытия. В этом случае происходит разрыв поколений. Нo недаром мы отметили, что существование таких культур можно лишь смоделировать теоретически; и если бы такая модель в полной мере воплотилась в жизнь, человечество исчезло бы с лица земли. Несмотря на любые инновации, человечеству, чтобы самовоспроизводиться и саморегулироваться, необходимо сохранять связи между поколениями.
Именно эта необходимость самовоспроизводства привела к появлению особого института — образования. Образование — исключительно человеческое явление потому, что оно не сводится к распространению знаний, то есть к обучению, а включает и воспитание.
" Воспитание — процесс взаимодействия общества и личности, который обеспечивает, с одной стороны, саморазвитие личности, с другой — ее созвучность ценностям и интересам общества" ', — такое определение можно принять в качестве раскрывающего цели и смысл процесса воспитания. Воспитание, как процесс передачи социальных ценностей и норм поведения, и обучение, как трансляция знаний, умений и навыков, в своем единстве и образуют целостный процесс образования.
Систему образования можно определить как институт, в наиболее концентрированном виде воплощающий основные ориентиры социализации индивида в конкретном обществе: ценности, нормы, идеальные модели. Однако социализаторские функции выполняют и другие институты: дружеские компании, трудовые коллективы, церковь, армия и, конечно, семья, которая становится первым, базовым институтом социализации ребенка.
Социализаторы (субъекты, осуществляющие процесс социализации) различаются по семейной принадлежности (родители, родственники, неродственники), возрасту (взрослый, сверстник) и по выполняемым функциям. Американские культурантропологи выделяют несколько агентов социализации, различающихся по характеру влияния па ребенка:
- — опекуны, осуществляющие уход за ребенком, удовлетворяющие его физические и эмоциональные потребности;
- — авторитеты, своим примером транслирующие ребенку ценности и нормы;
- — дисциплинаторы, осуществляющие наказания;
- — воспитатели, целенаправленно обучающие ребенка, передающие ему определенный набор знаний и навыков;
- — компаньоны, на равных участвующие в совместной с ребенком деятельности;
- — сожители, проживающие в одном доме с ребенком1.
В современном европейском обществе все эти функции совмещаются семьей, и в первую очередь матерью. Однако их распределение и характер реализации культурно специфичны.
В 1970;е гг. У. Бронфенбреннер сравнивал место родителей, сверстников и других людей в процессе социализации детей в США и СССР. Особое недоумение возникло у него в результате наблюдения за странным поведением прохожих на улицах, которые знакомились с детьми, давали советы молодым мамам, а дети называли этих незнакомых людей «дядями» и «тетями», то есть терминами, отражающими определенную степень родства. В результате в качестве одной из особенностей советского воспитания исследователь назвал «перепоручение материнских обязанностей — готовность посторонних лиц принимать на себя роль матери». Истоки этого феномена в том, что в СССР место главного социализатора заняло государство, поэтому все его граждане считали себя вправе принимать участие в воспитании чужих детей.
В процессе социализации человек усваивает определенные ценности и правила и принимает па себя обязательство следовать им. Если же его поведение отклоняется от общепринятых норм, то оно характеризуется как девиантное. Крайняя форма девиации — преступная деятельность.
Для развития устойчивости к криминогенным факторам большую роль играют семейные отношения, в частности близость, открытость, доверительность, эмоциональная привязанность ребенка к родителям. Отсутствие такой эмоциональной связи часто приводит к глубокой социальной дезадаптации3.
Д. Вести Д. Фаррингтон проследили судьбу 411 лондонских школьников «рабочего» района (по показателям преступности и другим район соответствует скорее категории «трущобного»). К 17 годам 84 стали правонарушителями, в том числе 51 — рецидивистами. Это позволило определить, какие же из установленных в ходе их развития факторы оказались «криминогенными». Естественно, что большинство молодых правонарушителей и преступников происходило из малообеспеченных семей, иногда с родительской преступностью. Они имели сниженный интеллект, характеризовались и одноклассниками, и преподавателями как беспокойные, агрессивные, пройдя через младенчество и детство в малоудовлетворительных условиях. Если подросток сочетал в своем «анамнезе» многие из перечисленных факторов, то шансы на совершение антисоциальных действий оказывались весьма высокими. Так, сочетание преступности родителей, их низкого заработка и плохого отношения клетям оказалось чрезвычайно криминогенным.
Глюек построил шкалу прогнозирования на пяти «фоновых» семейных факторах: дисциплинирующее воздействие отца, материнский надзор, любовь матери к сыну, любовь отца к сыну и внутрисемейная спайка. Изучив по этой шкале 451 преступника и 439 не преступников, авторы пришли к выводу, что дети из семей, наихудших по этим показателям, имели 90% шансов стать правонарушителями или преступниками.
В определенных условиях человек оказывается перед необходимостью ресоциализации — полного или частичного отказа от прежних и усвоения новых норм, ценностей, моделей поведения. В качестве условий, вынуждающих человека к ресоциализации, могут выступать и изменения условий индивидуальной жизни (вступление в брак, смена места работы, потеря трудоспособности), и масштабные социокультурные трансформации (например, революционные), охватывающие общество в целом. Успешность освоения новых ролей, норм и ценностей, естественно, зависит и от индивидуальных, и от социокультурных факторов и условий.