Закатные зори. От гераклита до дарвина.
Античный мир.
Средневековье.
Возрождение
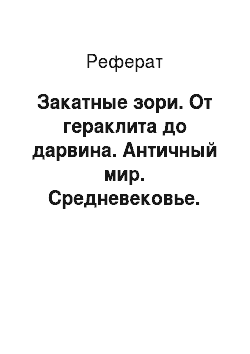
В такой же мере полноценна для эпохи Галена его миология — учение о мускулах. Вообще мускулатура, а еще больше нервно-мозговой аппарат — излюбленные темы Галена: тут открывалось широкое и благодарное поле для его самостоятельных изысканий и экспериментов. Он неоднократно возвращается к этим темам в нескольких книгах «De administrationibus», затем в трактате «De usu» и наконец в работе «De motu… Читать ещё >
Закатные зори. От гераклита до дарвина. Античный мир. Средневековье. Возрождение (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Представители прикладной ботаники: Диоскорид и Колумелла. — Николай Дамаскин. — ТрудыАтенеяиЭлиана.—Еще один натурфилософ-поэт: Оппиан.— Гален, основатель научной медицины. — Телеология и учение о пневме. — Связь между организацией, функциями и образом жизни животных. — Вивисекция и физиологический эксперимент в трудах Галена. — Центральный нервный аппарат. — Кровообращение и сердце. — Медицинские труды Галена. — Общее заключение о науке античного мира.
В первом же веке нашей эры, одновременно с энциклопедией Плиния, а может быть и несколько раньше этого, — с точностью установить не удалось, — появился труд, пользовавшийся известным авторитетом в средние века и служивший до некоторой степени авторитетным руководством для ботаников и медиков эпохи Возрождения: это ботанический труд. Диоскорида «Та tow аШхсоу рф/аа (I в. н. э.).
Уже упоминавшийся здесь историк ботаники Э. Мейер, с большой похвалой отзывается о нем: «Диоскорид, говорит Мейер, является для нас одним из важнейших писателей древности в области специальной ботаники.. То, что сделал Теофраст для общей ботаники, было сделано Диоскоридом для специальной». В чем заключалась эта специальность, лучше всего видно из похвалы, с которой отзывается о Диоскориде римский ученый И века нашей эры Гален: «Диоскорид анацарбейский по-моему, пишет он, лучше всех древних изложил учение о лечебных средствах», — речь идет прежде всего о лечебных средствах, добытых из растений.
Уроженец города Анацарбы в Киликии, грек по происхождению, Диоскорид был образованным врачом-практиком, пользовавшимся широкой популярностью в Риме. Он много путешествовал, был в Малой Азии, Греции, Египте, Германии, Испании, Галлии и в различных местах Италии, много сам наблюдал, много знал по непосредственному опыту. Это-то и придавало особую цену и авторитетность сообщаемым им сведениям. Только что названный труд его, состоящий из пяти книг (VI и VII книги по-видимому подложны), был спасен от забвения арабами, переведшими его на свой язык. По-латыни он издан был, как полагают, впервые в 1495 г., а новое издание этого труда в двух томах было предпринято в 1829 г. Куртом Шпренгелем.
Изложение специально ботанических сведений связано с основной задачей Диоскорида: четко зарегистрировать и обстоятельно описать растения, имеющие отношение к лечебному искусству. Характерны в этом труде два момента: классификация растений (свыше 500 видов) построена не в алфавитном порядке и не во имя каких-либо философских предпосылок, а с явственно выраженной тенденцией дать нечто, напоминающее классификацию «естественную» — это во-первых; а во-вторых — любопытны экскурсы Диоскорида в область лингвистики с целью точно установить названия описываемых им растений, указать их синонимы на различных языках, вскрыть ту путаницу, которая царила на этот счет у его предшественников и современников. Надо наконец отметить и другие серьезные стороны этого труда, скажем: указание на месторождение тех или иных растений и их распространение, описание растительных продуктов, особенно иноземных и экзотических, и ознакомление читателей с фальсификатами этих продуктов, со способами распознавания хороших и дурных сортов и т. п.
Нечего и говорить, что Диоскорид далеко не всегда и не во всем оригинален. Он многое заимствовал у Теофраста и других писателей. И тем не менее на всем труде его лежит печать самобытности и индивидуального таланта, — так по крайней мере характеризуют его Э. Мейер, К. Шпренгель и Кювье.

Рис. 9. Диоскорид. По «Iconographie grecque» Висконти (из Виттрока).
Говоря о Диоскориде, нельзя умолчать о Николае Дамаскине (Nicolaos Damaskenos). Полагают, что этот ученый жил при императоре Августе. Прекрасно образованный философ, историк, поэт и одновременно натуралист, он примыкал к перипатетикам, что и давало повод приписывать первоначально его ботанический труд (две книги) Аристотелю. Но уже арабский ученый XII века Аверроэс выделяет его как совершенно самостоятельного натуралиста, а Э. Мейер точно это устанавливает. Интересуясь ботаникой, собственно физиологией растений, Николай Дамаскин ссылается не только на Аристотеля, но главным образом на Теофраста и на других древних философов. Его сочинение несмотря на множество недочетов и искажений, допущенных, надо полагать, переписчиками и переводчиками, представляет собой нечто исключительное в античной научной литературе: оно согласно Э. Мейеру было в течение многих столетий едва ли не единственным трудом, трактующим вопросы фитофизиологии.
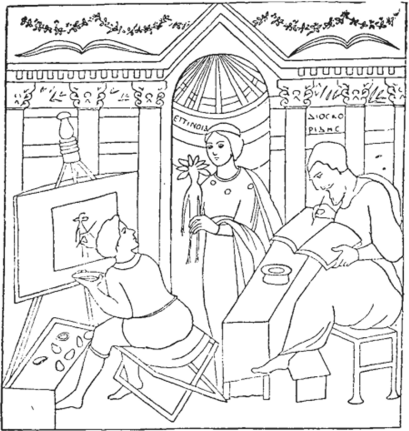
Рис. 10. Диоскорид пишет в то время, как гений Разума держит в руках мандрагору, которую срисовывает художник. По манускрипту XI века.
(из Зингера) Судить о характере проблем, которые занимали Николая Дамаскина, о диапазоне его научных устремлений и критического чутья можно на основании следующих данных. Он уверен, что жизнь присуща как животным, так и растениям; но это, говорит он, не значит, что всё типичное для жизненного круга первых имеет место и у последних. Жизнь выявляется многообразно, — продолжает он, — она между прочим сказывается в способности ощущать, испытывать «боль и радость», мыслить, изъявлять так или иначе свою волю. Имеем ли мы однако достаточное основание приписывать все это растениям? Правда, — заявляет наш автор, — Анаксагор, Эмпедокл и Платон склонны были находить у растения и способность ощущать и даже разум; это однако больше чем сомнительно и требует самого тщательного изучения: во всяком случае нет у растений ни органов чувств, ни каких-либо иных путей для чувственных восприятий, тем более для мышления; с несомненностью можно констатировать у них лишь способность питаться, расти и размножаться; и «поскольку они действительно обладают этим, постольку необходимо допустить, что им присуща и некоторая доля души». Что же касается высших душевных способностей, то, — так заключает мысль свою Николай Дамаскин, — «оставаясь в рамках здравого суждения, мы заявляем, что растениям не присущи ни ощущение, ни разум».
Другой отрывок из труда Николая Дамаскина не менее показателен.
Речь идет об отношении листьев к цветам и плодам, а объектом для решения этого вопроса берется масличное дерево. И вот что пишет Дамаскин по этому поводу: «Не всегда масличные деревья завязывают плоды. Ибо, как только наступает переработка пищи, непереваренные части ее отделяются от более нежных и превращаются в листья, а переваренные становятся цветами; когда же впоследствии окончательно созревает переваренная часть пищи, то на конце стебля, на соответствующих местах, возникает плод». Так, чуть ли не девятнадцать веков назад ботаник античного мира сделал робкую попытку связать воедино происхождение листьев, цветов и плодов; и как жаль, что Гёте, насколько мне известно, даже не подозревал о существовании этой остроумной попытки объяснить примерно так же единство происхождения листьев, цветов и плодов, какое сам он развил в своем «Опыте метаморфоза растений». Нельзя наконец не отметить, что ботаник Дамаскин стремился свести все жизненные отправления растений к действию «тепла и холода, сухости и влажности», и смотрел в частности на листья как на органы испарения, а также защиты плодов от солнечного жара. Как бы мы ни расценивали сейчас ботанические взгляды Николая Дамаскина, несомненно лишь одно: они выросли на почве целостного, не ущербленного античного мировоззрения. Мысль его развертывается наукообразно, ориентируясь на факты и естественные законы самой природы и не только игнорируя религиозные традиции, но и тщательно устраняя из науки все, что представлялось ему неправдоподобным или даже сомнительным.
Если Диоскорид обращает на себя внимание биологов как специалист в вопросах «медицинской ботаники», а Николай Дамаскин как «фитофизиолог», то в неменьшей мере заслуживает упоминания еще один римский писатель I века нашей эры — колумелла, писатель, которого Э. Мейер называет «самым обстоятельным, самым компетентным и самым изящным среди остальных римских агрономов».
Владелец обширного имения, он был прекрасным знатоком сельского хозяйства.
Агрономическое сочинение Колумеллы состояло, как предполагают, из 16 книг, до нас же дошло только 12. Все они богаты точными сведениями. Характерна для этого делового сельского хозяина книга «Adversus astrologos» — «против астрологов», в которой он оспаривает различные предрассудки, мешающие рациональной сельскохозяйственной практике. Подобно Катону он остается в строгих рамках агрономии, что не мешает ему однако широко толковать свою тему, требуя от агрономов всесторонних знаний и научного развития. Для истории нашей науки сочинение Колумеллы ценно не только тем, что тут даются дельные описания уже известных культурных растений, но и общим духом своим, а также обилием непосредственных наблюдений и практических выводов самого автора, который между прочим открыл много новых видов и разновидностей растений. Прибавьте к этому талантливое изложение, и тогда вряд ли придется усомниться в правильности лаконичной, но яркой характеристики, которую дает Э. Мейер Колумелле в приведенной выше фразе. Даже поэзии не чужд наш автор: идя по стопам Вергилия, он написал стихами X книгу своего труда, но не так удачно, как книги, изложенные прозой.
Сто двадцать с лишком лет прошло со времени появления «Естественной истории» Плиния до смерти Галена. Интерес к знанию за эти долгие годы не угас окончательно. Но к сожалению очень трудно судить о состоянии тогдашней римской науки на основании тех скудных сведений, которые до нас дошли. А дошло очень мало: помимо Колумеллы, Диоскорида, Николая Дамаскина и Галена можно назвать еще. Атенея, Злиана и Оппиана, причем установить даты рождения и смерти трех последних не удалось. Можно лишь с некоторой уверенностью утверждать, что жили они во II веке нашей эры. Были, надо полагать, и другие такие же натуралисты-популяризаторы, эпигоны школы Плиния. Оценивая их произведения, не следует забывать, что римская наука переживала в эту пору свои закатные зори, которые, прорвавшись ослепительно буйными огнями галеновского творчества, померкли на долгие столетия впредь до новых предрассветных зорь…
Одним из любимых времяпровождений знати императорского Рима были пиры. Римлянин-аристократ должен был уметь их задавать. На этом между прочим строилась и слава его. Этим гордился патриций. На это тратились бешеные средства. И чтобы пир был «пиром на славу», «пиром горой», его нужно было провести по всем правилам этого своеобразного искусства, судить о котором можно по произведению Атенея «Пир ученых».
Известно, как обстоятельно расписывал «старый республиканец» Варрон всевозможную снедь, излюбленную римлянами, давая при этом много сведений гастрономического и кулинарного характера. Не скупился на такого рода сведения и Плиний. Но шедевром типичной для эпохи декаданса «научной» литературы было произведение Атенея. Содержание его в общем таково.
Компания ученых и философов собралась на пир к богатому приятелю, тонкому знатоку гастрономии. Каждому из них вменяется в обязанность произнести речь по поводу различных блюд, подающихся на стол.
Книга начинается похвалой знаменитым гастрономам, затем речь идет о винах и наконец о блюдах в том виде и порядке, как подавались они у римлян. Сперва описываются и восхваляются различные плоды, в частности фиги; дальше — грибы и трюфели, лук и спаржа; это нечто вроде французского «hors d’oeuvre» или наших предобеденных «закусок»; вслед за ними идет то, что итальянцы называют «frutti di mare», т. е. различные ракообразные и главным образом моллюски, говоря о которых оратор тратит немало красноречия на описание всевозможных раковин; за моллюсками на сцену выступают различные виды съедобных и оригинальных по форме рыб; за рыбами следуют птицы и т. д.
И всё это сменяющие друг друга ораторы пересыпают рассуждениями о философии, поэзии, медицине, ботанике и зоологии. Не забыты ими и приличествующая торжественному обеду сервировка, и отвечающие утонченному вкусу патрициев праздничные костюмы.
Интересная в бытовом отношении книга Атенея не представляла ценности для науки. Ибо сообщаемые в ней сведения о животных и растениях с избытком были использованы уже Плинием. И тем не менее она наверное пользовалась в свое время большой популярностью. Возможно даже, что своеобразная архитектоника ее является лишь особым видом популяризации, направленным к тому, чтобы возбудить интерес к явлениям живой природы у людей, не имевших ни времени, ни охоты утруждать свою «дворянскую голову» более серьезным чтением.
Труд Элиана «О природе животных» пожалуй содержательнее произведения Атенея; в его сочинении приводятся некоторые новые факты и цитируется свыше сотни авторов, о подавляющем большинстве которых нам ровно ничего не известно, — обстоятельство, подтверждающее ту мысль, что интерес к знанию в эпоху императоров все еще теплился, ища удовлетворение в «легкой» популярно-научной литературе. Почему бы в самом деле не прочесть рассказов об яке, белом слоне, длиннорылом крокодиле (гавиал?) и птице, очень красивой и похожей на павлина (не аргус ли?)? Или о нравах рыб, которых Элиан сам наблюдал и первый описал? Или наконец о вымышленных чудищах вроде например оноцентавра (получеловек-полуосел), с которыми мы вновь встретимся у К. Геснера и Альдрованди…
Кювье, данными которого я пользуюсь, знакомя читателя с произведениями Атенея, Элиана и Оппиана, с особою симпатией отзывается о последнем и даже называет его «последним писателем древности, заслуживающим звания натуралиста».
Его собственно следует называть не просто натуралистом, а поэтом-натуралистом, так как, следуя примеру Лукреция и Вергилия, он написал три поэмы — о рыболовстве, охоте на четвероногих и охоте на птиц; последняя из них потеряна, а первые две сохранились и, как утверждают знатоки, свидетельствуют о том, что молодой натуралист, умерший во цвете лет, был наделен недюжинным художественным талантом.
Самые темы, избранные Оппианом, лишний раз указывают на вкусы и интересы римлян описываемой здесь эпохи; очевидно, что только фиксируя их внимание на излюбленных ими занятиях и развлечениях, можно было приохотить их к знакомству с живой природой. И Оппиан прекрасно использовал этот прием, так как, излагая свои специальные темы, он попутно дает много общих сведений, повышающих уровень знаний читателя. Так, в поэме о рыболовстве вы найдете не только описание различных орудий и способов ловли рыб, но и научные сведения об этих животных, — сведения, часть которых является плодом его собственных наблюдений. Повадки рыб, их брачные отношения, случаи воспитания мелюзги и в частности упоминание о рыбе, вынашивающей своих детенышей во рту, приемы, которыми пользуются рыбы для привлечения добычи и защиты от врагов, и т. п. — вот общие темы, на фоне которых расписываются специально рыболовческие узоры. Конечно и Оппиан многие факты заимствовал у Плиния — например рассказы об электрическом скате или о рыбе, завлекающей добычу длинными усиками. Есть у него и фантазии вроде рассказа о спаривании угря с гадюкой. «Но, — говорит Кювье, — такого рода басен у Оппиана очень мало».
Прошло полвека со смерти Плиния, и «природа-мать», как бы и в самом деле заботясь о том, чтоб «не заглохла нива жизни», послала миру Галена (131—201). Выдвинувшая его эпоха не особенно благоприятствовала расцвету науки, но он вопреки условиям поднялся до высших пределов возможного тогда знания, правда, расцвет и жизни и деятельности Галена совпал с той полосой в истории Рима, когда царствовал «император-мыслитель», Марк Аврелий (160—180).
Galenus divinissimus, божественнейший Гален — называли его в средние века, узнав о произведениях этого замечательного человека по переводу, сделанному арабами в IX веке. «Гален заслуживает восхищения как натуралист и врач, — говорит Кювье. — Это был ум ярко философский и обобщающий». А английский ученый, анатом по специальности, единомышленник и ближайший друг Дарвина, Томас Гекели писал: «Всякий, кто читал произведения Галена, невольно удивляется как многообразию его познаний, так и ясному представлению его о путях, которыми должно итти развитие физиологии». И Гекели не увлекается в своей оценке Галена: анатомия, физиология и медицина приобрели благодаря этому ученому научную базу.
Сочинения Галена — это поистине колоссальный труд, колоссальный и по объему и по богатству содержания. Он состоял, как утверждают, из нескольких сот свертков, что соответствует 80 томам in octavo. Однако дошли до нас по-видимому лишь немногие из них. Свертки хранились в храме мира, который сгорел, причем погибла и часть трудов Галена.
Родился он в Пергаме — Galenus Pergamenos — в царствование Адриана, а образование получил в Греции, где обстоятельно изучил все, что создала наука этого благословенного края.
Уже юношей 15 лет Гален слушал философию, а два года спустя принялся вплотную за изучение медицины и сопричастных ей естественных наук. Был в курсе всех философских школ того времени, но пошел за Аристотелем и перипатетиками, что не помешало ему критически относиться и к самому Стагириту и к его последователям. Владел прекрасно несколькими языками, в том числе и персидским. Писал свои сочинения согласно вновь установившейся в то время традиции по-гречески; до нас однако произведения эти дошли частью на греческом, частью на латинском языке.

Рис. 17. Гален. Из «Die Biologie und ihre Schopfer» Лоси Закончив образование, Гален поселился в Риме, где имел огромную врачебную практику, но продолжал работать научно и читал, как говорят, с исключительным успехом анатомию и физиологию, доказывая, что эти предметы должны лечь в основу научной медицины. Личные занятия и лекции он сопровождал вскрытием трупов животных. Было однако в его исследовательской работе нечто совершенно новое: это — вивисекции, позволявшие изучать физиологическую роль различных органов животного, что в свою очередь давало право судить об отправлениях соответствующих органов человека. Таким образом в руках Галена физиологический эксперимент впервые занял подобающее ему место при изучении жизненных процессов.
По таланту, а также гибкости, глубине и творческому тембру мысли Гален был человеком примерно такого же калибра, как Аристотель. Но диапазон занимавших его философских вопросов и облюбованных им научных проблем был ограниченнее, чем у Стагирита. Вот почему немеркнущая слава Галена неразрывно связана с его анатомофизиологическими работами: в них так много нового по содержанию и оригинального по трактовке, что становятся более чем понятными та популярность и тот огромный авторитет, которыми «divinissimus» пользовался как при жизни, так и на протяжении нескольких столетий после смерти.
Сам Гален рекомендовал знакомиться с его произведениями в определенном порядке: сперва с критическим изложением философских систем, затем с данными и обобщениями анатомии, физиологии и гигиены, а после этого уже с трудами, посвященными медицине, в которой он строго различал такие отделы, как патология, диагностика и терапия (согласно нашей терминологии). И это правильно, так как произведения Галена построены по строгому плану и проникнуты единством мысли, подчиняющей частный анализ некоторым общим идеям. Эти руководящие идеи, эти своего рода пролегомены, увязывающие пестрый фактический материал, придают особую значимость его научным трудам, выгодно отличая их от труда например Плиния. Так в первом же трактате «De elementis ex Hippocratis sententiis», посвященном взглядом Гиппократа, он горячо полемизирует с греческими философами монистами, отстаивая ту мысль, что в основе всех вещей лежат четыре элемента, а не один: callidum, frigidum, humidum et siccum — начала теплое, холодное, влажное и сухое; говоря же о первичном строительном материале организма животных и человека, он признает таковым четыре сот: кровь, слизь, желчь желтую и желчь черную. Все это взято у Диоскорида и Гиппократа.
От Гиппократа же и Эразистрата воспринял он и учение о пневме, развив и дополнив его новыми соображениями.
Гиппократ, как мы уже знаем, полагал, что деятельность животного и человека связана с существованием особого жизнетворящего вещества, которое он назвал пневмой. По Гиппократу существует лишь один вид пневмы. Иначе рассуждает Эразистрат. Он находит, что между физиологическими отправлениями человека и его психическими переживаниями имеется существенная разница, что одна и та же пневма вряд ли способна вызывать к жизни такие качественно несходные процессы, как питание, рост и размножение, с одной стороны, и ощущение и мышление — с другой. Отсюда — вывод его: надо признать существование двух различных пневм: одна из них — яугйра Conxov, животная пневма — помещается в сердце и порождает физиологические функции организма, а другая — rcvevpa (pu^ucov, психическая пневма, — находится в мозгу и обусловливает все душевные отправления.
Гален на этом не остановился. И вот как в общих чертах представлялась ему картина действий пневмы, этого материального первоисточника жизни, подобного легкому, неуловимому дуновению зефира, который — он в это твердо верил — будет со временем открыт наукой.
Воздух, поступивший в легкие, соприкасается здесь с пневмой, существующей в организме от рождения: это, так сказать, первичная, физическая пневма. Сердце, снабжая легкие кровью, получает от них взамен воздух, смешанный с первичной пневмой. Очутившись в сердце, в этом, как полагал Гален, горниле жизни, воздух перерабатывается, утончается, давая таким образом начало новому виду пневмы — пневме животной: ее назначение — управлять вегетативными процессами тела. Животная пневма претерпевает однако дальнейшее утончение в желудочках мозга: тут она превращается в психическую пневму, на обязанности которой лежит заведывание всеми произвольными движениями и психическими переживаниями организма. Психическая пневма движется по нервам. Они — ее проводники; благодаря ей нервы переносят двигательный импульс от центра (мозга!) к периферии (мускулам) а ощущение, наоборот, от периферии к центру. Несмотря на фантастичность этого построения в нем ясно чувствуются задатки здравой мысли, попытка отгородиться от тенденций унифицировать такие качественно несходные процессы, как процессы физические, биологические и психические. Глубокий аналитический ум Галена был очевидно далек от поспешного и необоснованного синтеза, и винить его за несколько наивную аргументацию в защиту «триединой» пневмы не приходится, раз мы должны расценивать миросозерцание каждого ученого в свете доступных его эпохе знаний и возможностей. Вина Галена быть может заключалась только в том, что он, полемизируя с философами-монистами, свалил их всех в одну кучу и недооценил такого тонкого диалектика, как Гераклит.
Несравненно важнее для понимания «общего духа» произведений Галена некоторые другие идеи его — например учение о целесообразном в живой природе, его телеология. Аристотелевские «конечные причины» использованы тут полностью, во всем их идеалистическом размахе. Но не это ведь важно для суждения об услугах, оказанных биологии Галеном. И когда читаешь такие трактаты пергамского ученого, как «De anatomicis administrationibus» и особенно «De usu partium corporis humani»[1], то телеологические аллюры галеновской мысли отходят далеко на задний план, как что-то третьестепенное, балластное, а на авансцену выступает два больших биологических обобщения: одно — о связи между строением и отправлениями различных органов, другое — о связи между организацией и образом жизни животных. Темы эти всегда представляли обильный материал, а потому и большой соблазн для телеологических взлетов мысли в стиле гимна «творцу» или «всеблагой природе». Не избег этого соблазна и Гален. Но какая огромная разница между ним и хотя бы Плинием! Он аргументирует не общими местами, не вдохновенным красноречием, а путем планомерной, систематической разверстки фактов, добытых наблюдением, проверенных опытом, омышленных критической работой ума, выхваченных, как куски трепещущего жизнью мяса из живого тела природы. Он констатирует их четко, обследует всесторонне, сравнивает, соподчиняет и медленно, но уверенно делает выводы, в то время как перед читателем его с такой же планомерностью встают очертания закладываемого им научного здания. Как хорошо говорит он например о том, что рука приноровлена своим строением к выполнению тех функций, которые ей надлежит выполнять в интересах человека, и насколько она в этом отношении совершеннее руки обезьяны. И затем, связывая развитие передних конечностей с развитием умственных способностей животного, пишет: «поскольку человек является умнейшим животным, постольку и руки являются органами, приличествующими разумному существу; не потому он умнее остальных животных, что обладает руками, как это говорил Анаксагор, а потому-то и обладает ими, что разумнее всех, как это совершенно правильно установил Аристотель» («De usu»). Мы сказали бы: оба они — и Анаксагор и Аристотель — односторонне правы, ибо развитие ума и руки взаимно обусловливало друг друга, шло под знаком взаимопроникающих процессов. Но не спорить с Галеном я собираюсь, а хочу проследить на частном примере ход его мыслей по вопросу о «гармонии» между организацией и функциями того или иного органа. И чтобы судить о том, как детально прослеживает он свою тему, с какой скрупулезной внимательностью изучает все нюансы в структуре и отправлениях интерпретируемого органа, достаточно перечислить следующие подзаголовки книги, посвященной одной лишь кисти руки: о костях пальцев, об их числе, величине и форме, о способе их артикуляций, об их движении, о движении большого пальца и т. д. После ответов на все эти вопросы идут две книги, в которых столь же обстоятельно говорится о других частях руки, а потом о ноге, строение которой сравнивается со строением руки человека и задних конечностей животных, и под конец ставится вопрос: «cur bipes homo fuit?» (почему человек стал двуногим). Ответ гласит: «Руки, т. е. органы, отвечающие требованиям разумного животного, имеются лишь у человека: и действительно только он один среди наделенных ногами стал прямостоящим и двуногим, так как владел руками».
В таком же духе идет описание других частей тела, начиная с легких, сердца и кишечника и кончая ртом, зубами, носом. И все это — по методу сравнения, при постоянных экскурсах в область физиологии, с неизменным стремлением подчеркнуть приспособительный характер различных органов.
Зайдет ли речь об органах пищеварения, — на сцену сейчас же выступают сходства и различия между желудком обезьяны, медведя, лошади, барана и обязательно подчеркивается связь между строением пищеварительного тракта и родом употребляемой животным пищи. И то же самое о зубах, характер которых по мнению Галена находится в соответствии с органами пищеварения и со всей организацией животного.
Коснется ли вопрос положения головы на теле или артикуляции черепа с позвонками, — вновь выдвигается идея о соответствии в расположении и строении отдельных частей с общей организацией целого, а в частности с конфигурацией и функциями ног и рук у человека.
Заговорит ли Гален о таком сложном органе, как глаз, он непременно изложит обстоятельнейшим образом его строение — перечислит мускулы, остановится на слезных каналах, опишет кровеносные сосуды, назовет ретину уплощенной частью зрительного нерва, — но в то же время всю остроту мысли своей направит на то, чтоб объяснить функциональную роль каждой части этого органа и указать на интимную связь между его структурой и отправлениями.
И всюду так: мысль парит над фактами, цементирует их обобщениями, открывает читателю новые перспективы для понимания живой природы, в которой момент «целесообразности» является по мнению Галена одним из наиболее показательных моментов. И если отбросить в сторону преувеличенные восторги Галена, если вышелушить из произведений его идею об «абсолютной целесообразности», придающую мировоззрению знаменитого ученого идеалистический привкус, если заменить ее понятием приспособления, то придется признать, что Гален, апеллируя к фактам живой действительности, сумел указать на один из важнейших признаков, которым организм качественно отличается от тел неорганической природы, — это относительная целесообразность структуры и отправлений живого существа.
В рассматриваемых здесь двух трактатах вы найдете много других ценных данных и выводов. Прежде всего — о костях и мускулах: им посвящено несколько отделов. Книга о костях — это вполне законченная для того времени остеология, представляющая двойной интерес: теоретический благодаря характерной для Галена манере интерпретировать свой предмет, и практический — как незаменимое руководство для хирургов.
В такой же мере полноценна для эпохи Галена его миология — учение о мускулах. Вообще мускулатура, а еще больше нервно-мозговой аппарат — излюбленные темы Галена: тут открывалось широкое и благодарное поле для его самостоятельных изысканий и экспериментов. Он неоднократно возвращается к этим темам в нескольких книгах «De administrationibus», затем в трактате «De usu» и наконец в работе «De motu musculorum libri duo» (две книги о движении мускулов), где между прочим доказывает, что орудиями произвольных движений служат именно мышцы, а не что другое — instrumenta motus voluntarii muscula sunt. Всюду он обстоятельно описывает отдельные мышцы и группы их: говорит о сухожилиях и связках, о мускулах сгибателях и разгибателях, о мышцах грудных, брюшных, шейных, межреберных, о мускулатуре ног, рук, головы, лица, диафрагмы, желудка, кишок и в частности прямой кишки (de musculis, qui retinendis et propellendis excrementi sunt — о мускулах, которые служат для задерживания и выталкивания экскрементов), не забывая при этом такие детали, как мускулы рта и крыльев носа; всюду начинает изложение общими соображениями, критикуя и изобличая ошибки своих предшественников (причем достается и любимцу его — Эразистрату), и не предвидя конечно, что пройдут века, и сам он, великий авторитет, станет объектом критики и обстрела со стороны Везалия, Леонардо да Винчи и Парацельза; всюду, великолепно пользуясь всего лишь скалпелем и пинцетом, прибегает он к экспериментам для выяснения деятельности мышц в связи с деятельностью нервов.
Во главу угла всех открытий Галена нужно поставить его учение о строении и работе нервно-мозгового аппарата. Мы знаем, что этим вопросом серьезно интересовались и Алкмеон, и Гиппократ и Эразистрат: их открытия в этой области имели серьезное значение. Но то, о чем они судили на основании наблюдений над трупами, Гален не только проверил путем эксперимента, но и значительно обогатил множеством собственных открытий — ив этом его главная заслуга.
Он предпринял длинную серию опытов над животными с перерезкой нервов, снабжающих различные мускулы.
Эксперименты с перерезкой например языко-глоточных нервов нагляднейшим образом подтверждали и самому Галену и его слушателям (turn privatim, turn publice) существование интимной связи между работой мускулов и деятельностью нервов: мышцы языка переставали функционировать полностью или частями в зависимости от того, перерезал ли он один или оба эти нерва. То же подтверждали и опыты с диссекцией нервов, снабжающих своими ветвями другие мускулы, например диафрагму и межреберные мускулы, мышцы лица и специально рта, мышцы груди, а также передних и задних конечностей. Наконец в такой же мере показательны и опыты его с нервами органов чувств: они служили неопровержимым аргументом органической связи между деятельностью этих нервов и способностью воспринимать зрительные, слуховые и обонятельные ощущения. Это было ново и знаменательно в глазах всех, имевших счастие присутствовать при экспериментах Галена; и исключительный эффект должна была производить картина паралича грудной клетки, вызываемого перерезкой нервов, заведующих механизмом дыхания, или перерезка нервов, обусловливающих работу гортани, когда при диссекции одного из них голос слабел, а при диссекции обоих и вовсе исчезал.
Обратившись к трактату «De neurorum dissectione» — «о перерезке нервов», вы найдете там и описание всех опытов, которые производил он с целью установить роль нервно-мозгового аппарата, и общие выводы его по данному вопросу, а в частности следующие строки: «врачами твердо установлено, что без нерва нет ни одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, и ни единого чувства».
Вообще же нервы по Галену исполняют троякого рода работу: одни — те, что идут от органов чувств, — служат для восприятия ощущений; другие, проникающие в мускулы, обусловливают произвольные движения организма; а третьи, снабжающие своими ветвями остальные органы, охраняют их, как полагал он, от всяческих повреждений. Для нас всего этого конечно мало. Но для эпохи Галена это был драгоценнейший клад.
Была им установлена — опять-таки экспериментально — и основная функция спинного мозга. Гален показал, что, перерезая спинной мозг поперек, мы уничтожаем произвольную подвижность, а также и чувствительность (паралич и анестезия) всех частей тела, лежащих ниже перереза. Не забыт и продолговатый мозг, поражение которого согласно Галену является первопричиной некоторых паралитических явлений.
Незаконченная VII книга «De administrationibus», а также VIII и IX книги трактата «De usu» посвящены головному мозгу. Второе из этих сочинений начинается критикой аристотелевского понимания роли мозга. Мозг, — говорит Гален, — вовсе не является холодильником сердца — cerebrum cordis refrigerium factum non fuisse: он — общий сенсориум тела, седалище интеллекта и чувств; из него берут начало нервы органов чувств, а не из сердца, как это казалось[2] Аристотелю (ut Aristoteli placuit). И затем он подробно излагает анатомию мозга: описывает мозговые оболочки, говорит о желудочках и кровеносных сосудах мозга, отмечает его складки, подчеркивает связь между ними и развитием интеллекта и т. д. Как на курьез, свидетельствующий об ошибках, которые имеются в большом числе у Галена, — можно указать на его объяснение, почему мозг помещен в голове, а не в какой-либо иной части тела: он, дескать, находится здесь из-за глаз, тогда как все остальные органы чувств — из-за самого мозга (cerebrum in capite locatum esse propter oculos, reliqua autem sensoria omnia propter cerebrum). Во всяком случае чрезвычайно важно помнить, что почти все предшественники и современники Галена имели превратное представление о функциях мозга, тогда как он экспериментально доказал, что не сердце, а мозг является органом произвольных движений, ощущений и мышления. Он взялся даже определить роль различных частей головного мозга в этих отправлениях, срезая послойно его отдельные участки. И его смелое начинание в этом направлении является как бы предвестником тех опытов, которые семнадцать веков спустя после Галена блестяще проведет Флуранс и с мастерством истинного виртуоза завершит Гольц…
Нельзя умолчать о других анатомо-физиологических изысканиях Галена. Взять хотя бы указание его на то, что в артериях находится кровь, а не воздух, как это думали его предшественники: это было наглядно демонстрировано наложением двух лигатур на небольшой участок артерии. А такие изречения Галена, как например «горение поддерживается тем же, чем и жизнь», или: «если бы людям удалось узнать состав воздуха, то стала бы понятна и животная теплота», — показывают, что мысль пергамского мудреца умела не только проникать вглубь вещей, но и смотреть далеко вперед: это — черты высокоталантливого наблюдателя, великого ума. Даже некоторые моменты в проблеме кровообращения были намечены им правильно, а строение сердца в основных чертах с указанием на его перегородки, перикардий, клапаны, сосуды и в частности на vena coronaria — изложено безусловно хорошо.
Кровообращение описывает он примерно так.
Кровь впадает из вен в правую половину сердца. Здесь благодаря теплоте, рождаемой сердцем, необходимые для организма части крови отделяются от негодных, отработавших частей ее; эти последние затем по легочным артериям приносятся в легкие, откуда и удаляются при выдыхании, а при вдыхании легкие извлекают из воздуха пневму. Эта последняя через легочные вены пробирается в левую половину сердца и соединяется здесь с кровью, которая затем через аорту разносится по всем частям тела и вновь возвращается по венам в сердце. Много тут ошибочного. И все же не будет преувеличением сказать, что в изложении Галена частично намечен легкий абрис большого круга кровообращения…
Из других монографий остановлюсь только на двух: «О семени» и «Об образовании плода»[3].
В монографии о семени Гален прежде всего возражает против тех, кто думает, что «семя» производится только семенниками. Вопреки утверждению например Аристотеля он склонен думать, что у женщин и самок имеется нечто аналогичное мужскому семени, дающее начало плоду (зародышу), так как, говорит он, плод временами походит то на мать, то на отца — cur foetus aliquando matribus, aliquando patribus assimilentur. Гален твердо уверен в том, что зародыш возникает из слияния двоякого рода «семени» — мужского и женского. Мысль эта, высказанная уже Гиппократом, продвинута им дальше, и проблема оплодотворения, являющегося исходным пунктом эмбрионального развития, приобрела благодаря Галену вполне конкретные очертания. Нельзя не удивляться наконец той осторожности, с которой Гален говорит о взглядах своих предшественников, особенно Платона и Аристотеля, на «субстанцию души» и на «причину образования плода». Достаточно привести хотя бы только подзаголовок того отдела, где речь идет на эту тему, чтобы видеть, как решительно отгораживается Гален от априорной трактовки данного вопроса. Подзаголовок этот гласит: «Все, что философами было сказано о субстанции души и о причинах возникновения плодов, частью ложно, частью же недостоверно» (quae, а philosophis dicta sunt de animae substantia ac de causa faetum formatione, partim falsa, partim. incerta esse).
Вообще в Галене поражает самостоятельность суждений и тенденция лично проверить все, что утверждают другие, — черта, достойная истинно исследовательского ума. Она — источник многочисленных открытий Галена; но она же, порой гипертрофированная, была и источником некоторых его крупных ошибок и заблуждений. Я, говорил он, никогда не принимал на веру чьих бы то ни было рассказов, прежде чем сам лично на основании собственных опытов не убеждался в правильности того, что мне рассказывали. И это — основной импульс его манеры изучать явления природы, судить о том, что говорят о них другие, — черта, диаметрально противоположная тому, с чем мы не раз сталкивались у Плиния. И вы чувствуете, что этот уверенный, авторитарный тон вполне уместен в устах такого ученого и трезвого мыслителя, как Гален. Но он не гарантирует от ошибок, а временами даже порождает их.
Что, скажем, способствовало искажению картины большого круга кровообращения в описании Галена, который твердо знал — и был совершенно прав, — что исходным пунктом артерий является левый желудочек сердца — «cordis sinister ventriculus est», и в то же время заявлял, что вены берут начало в печени? Та же «твердая вера» в собственную правоту, основанная на недостаточном наблюдении и скрепленная ошибочной предпосылкой о той роли, которую играет в нашем организме печень.
Он совершенно правильно понял работу мускулов. Но вот перед ним такой бесспорный мускул, как сердце, а Гален признать в нем мускул не желает, заявляя, что «согрогеа cordis substantia per multum a musculo differet» (телесное вещество сердца во многом отличается от мускула).
Почему же? Да потому, что и тут, в вопросе о веществе и работе сердца, он идет «adversus antiquis», (против древних). А почему — против, видно из следующего: «cordis motus, говорит он, non arbitrarius esse, пес cessare, quo ad animal vita fruitur, pot» (движение сердца непроизвольно и не может остановиться, пока жизнь теплится в животном).
Он хорошо изучил анатомию обезьяны и, «твердо уверенный» в том, что строение человека совпадает со строением обезьяны, вновь допускает ошибки: например относительно верхней челюсти человека, в которой усматривает четыре кости, имея очевидно в виду и пару межчелюстных костей, существующих у обезьян; или отмечает в крестцовой кости человека меньше сегментов, чем есть их на самом деле, судя об этом на основании крестца обезьяны и т. д.
Конечно не все ошибки Галена вытекают из чрезмерной веры его в собственную правоту. Есть у него недочеты, обусловленные другими причинами — ну, хотя бы тем, что не мог он знать всего и знал лишь то, что объективные условия позволяли знать даже такому исключительно выдающемуся человеку, каким был Гален. Он например неточно определял положение сердца, плохо ориентировался в путях головных нервов; сокращение мышечной ткани относил за счет тех участков мускула, которые непосредственно переходят в сухожилия, считал легкие холодильником крови и т. п. Но как все это незначительно по сравнению с бесспорными завоеваниями, сделанными им для науки! А их ведь было так много, особенно если принять во внимание его познания и открытия в области медицины, гигиены, диэтетики и лечебной ботаники. Большая часть трудов Галена отдана этим последним дисциплинам. Он трактует в них о различных болезнях и их причинах, о симптомах, пульсе, кризисах, конвульсиях и т. д. Далее описываются свойства различных питательных веществ, говорится о «хороших и дурных соках» и т. д. Целых 11 «книг» почти сплошь посвящены фармакологии. Затем идет терапия: «Methodi medendi», «De arte curativa», «De curandi ratione[4]» и др. Мы этих сочинений не будем излагать. Они биологу мало дают. Тут практика царит над теорией. А с теорией мы более или менее удовлетворительно познакомились по главнейшим трактатам на эту тему…
Галеном, строго говоря, завершается круг натурфилософских идей и научных достижений античного мира. Соприкосновение с этим миром волнует, обогащает ум, полно какой-то особой, светлой радости: точно погружаешься в волны крылатых мыслей, свободно несущихся к идеалу всестороннего познания космоса.
Античный мир, его пытливая и в то же время целостная мысль внесли в сокровищницу знания много духовных ценностей, к которым и был в известной мере приобщен читатель этой книги.
Гераклит бросает человечеству мысль о динамизме вселенной и о диалектическом характере протекающих в ней процессов, а Эмпедокл вводит гераклитовский поток изменчивых явлений в рамки «соединения и разъединения» четырех первичных элементов, защищает идею вечности вещества и превращения количества в качество, набрасывает первый туманный абрис учения о борьбе и подборе, которое будет затем подхвачено Лукрецием и завершится стройной теорией Дарвина о происхождении видов. Анаксагор пускает в оборот идею множественности первичных элементов космоса, подчиняющегося в своих проявлениях строгой закономерности, а Демокрит создает атомистическую гипотезу, ставшую в наши дни бесспорной научной теорией, причем оба они намечают ряд теоретико-познавательных проблем, которые приковывают к себе особое внимание Сократа, Протагора, Платона и софистов старшего поколения. Алкмеон и Гиппократ закладывают вчерне фундамент научной медицины, которая шесть веков спустя становится окончательно на более или менее прочную базу благодаря анатомо-физиологическим работам Галена. Приходит наконец Аристотель, а вслед за ним и Теофраст. Оба они обозревают проницательным взором накопленные раньше знания, проверяют и систематизируют их, фиксируя свое внимание на данных и обобщениях о живой природе. Но творческий порыв гонит их дальше, далеко вперед по сравнению с тем, что было сделано на поприще науки их даровитыми предтечами. Зоология, ботаника, сравнительная анатомия и эмбриология получают впервые свое крещение. Проблема «целесообразного» в живой природе, занимавшая уже Платона, выдвигается на первый план, но решается идеалистически. За Аристотелем и Теофрастом на историческую сцену выступают сперва александрийцы, а потом и ученые Рима. Отвечая духу времени и выдвинутым историей запросам, блестящая плеяда александрийцев культивирует точные науки, а даровитые римские популяризаторы — лукреций, Вергилий, Плиний, Оппиан — приобщают к источнику теоретического и прикладного знания образованные круги римского общества и широко распространяют интеллектуальные ценности, добытые индивидуальным и коллективным трудом и гением предшествующих поколений. Наконец взмахи могучих крыльев Галена, стоявшего на рубеже двух миров, уходящего и грядущего, поднимают научную мысль на небывалую еще высоту, как предсмертный, исполненный жажды жизни порыв некогда великого, но умирающего мира. На этом кончается красочная, героическая эпопея борьбы Эллады и Рима за культуру…