Новая государственная политика в сфере просвещения
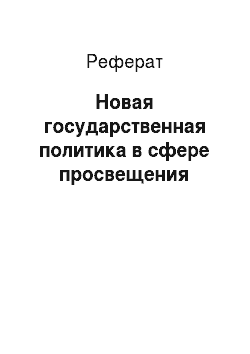
Несколько модернизированный проект цензурного устава был представлен императору Николаю I уже в первый год его правления — в 1826 г. В этом проекте предусматривалось две цензуры: министерства просвещения и полицейская; цензоры выводились из структуры университетов и становились государственными чиновниками. Им предписывалось запрещать все, что внушает сомнение в Священном Писании, нарушает… Читать ещё >
Новая государственная политика в сфере просвещения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В первой половине XIX в. власть впервые по-настоящему осознала потенциальную опасность просвещения, которое прежде рассматривалось лишь как одно из средств укрепления государства. В эпоху Просвещения в России в пространство европейского просветительства постепенно начинали включаться более широкие слои населения, стало заметным распространение европейских идей в провинции. Значительные слои образованного дворянства, чиновничества, офицерства, разночинцев, мещан в губерниях и уездах уже не вписывались в прежние рамки доктрины «служения» государству. Власть теряла над ними духовный контроль.
В 1826 г. была начата перестройка системы среднего образования. Прежде всего четко обозначилось ужесточение сословного подхода к просвещению. Министр народного просвещения А. С. Шишков считал, что приходские училища предназначены для крестьян, мещан и вообще низших сословий; уездные — для купечества, обер-офицереких детей и дворян; гимназии — преимущественно для дворян. С целью «устранения вредной смеси» сословий при гимназиях стали организовываться «благородные пансионы» — к 1849 г. их было около 50. Для усиления позиции государственного образования в столицах запретили открывать новые частные учебные заведения, а в провинции для этого требовалось разрешение министра просвещения.
Сословные ограничения, а также неоднократное повышение платы за обучение в гимназии все более затрудняли доступ к образованию низшим сословиям. В 1840 г. новый министр просвещения С. С. Уваров откровенно говорил, что для низших слоев общества «высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя их из первобытного состояния без выгод для них самих и для государства».
Изменения государственной политики в области образования особенно сказались на университетах. Они всегда были центрами просветительства и средоточием новомодных идей. В 20-е гг., еще в пору «аракчеевщины» при Александре I, два чиновника Министерства народного просвещения: МЛ. Магницкий и Д. П. Рунич — совершили настоящий «погром» Казанского и Санкт-Петербургского университетов. Под предлогом «исправления» была резко усилена религиозная подоплека большинства дисциплин, сняты или ограничены курсы по европейской истории и философии, расширен надзор за студентами, уволены «строптивые» профессора.
Борьба николаевского правления против университетского вольномыслия увенчалась принятием нового университетского Устава 1835 г. В высшей школе устанавливались жесткие порядки, увеличивалась плата за обучение, частично вводились вступительные экзамены. Студентам предписывалось ношение форменной одежды, стрижка волос по определенной форме, поведение преподавателей и студентов дотошно регламентировалось.
Устав определял обязательный набор изучаемых наук и содержание преподаваемых курсов. Особо подозрительными и опасными правительству казались философия и зарубежная история. Ряд тем в отдельных предметах также объявлялись запретными. Историк, например, не мог упоминать о вечевом правлении в Новгородской республике или о религиозных ересях в допетровской Руси. При этом заметно возрастала национальная направленность высшего образования, разумеется, в понимании правительства. Повсеместно в университетах открывались кафедры русской и славянской истории, российского законодательства, церковной истории. По словам П. Н. Милюкова, «русские профессора должны были читать теперь русскую науку, основанную на русских началах». Культивируемая «русскость» поддерживалась государственным контролем за университетами.
В корпоративную университетскую среду вводился специальный представитель государства — чиновник, который именовался «инспектором» университета. А чиновнику от Министерства народного просвещения — «попечителю» — теперь предписывалось жить в том городе, где был опекаемый им университет, чтобы непосредственно надзирать за исполнением государственных задач.
Университетский устав 1835 г. стал завершающим аккордом перестройки системы образования, предпринятой от имени государства министрами А. С. Шишковым и затем С. С. Уваровым в 1826—1835 гг. Основная идея очередной реформы образования заключалась в том, что школа должна не только учить, но и воспитывать и что это воспитание должно всецело находиться в руках государства. В основе воспитания предполагалась некая всеобщая национально-государственная идея. Изменения в школьной системе в 20—30-е гг. не коснулись только церковно-приходских школ. Очевидно, религиозная основа воспитания казалась правительству вполне подходящей.
Репрессивные меры были предприняты и в сфере информации. Важной особенностью духовной жизни первой половины XIX в. было создание элементов информационно-интеллектуальной среды. Здесь особенно проявились расхождения государственного и общественного интереса. С одной стороны, набирала силу система официальной информации. Правительственные газеты стали рассылаться все более регулярно благодаря доведенной до совершенства в 30—40-е гг. государственной почтовой службе. По распоряжению Николая I с 1832 г. в каждой губернии стали выходить «Губернские ведомости», ставшие рупором местной администрации. Местные газеты заполнялись не только официальными сообщениями, но и информацией о культурных событиях, всяческими советами, наставлениями. Но для формирования интеллектуальных идей имела значение в основном столичная печать, где выходили «толстые» литературно-общественные журналы. Провинция в данной ситуации оказывалась только случайным собеседником, ее голос почти не был слышен.
В начале века в университетских и частных издательствах в год выходило 143 названия книг. Этот объем был вполне по силам сложившейся системе цензуры. Но книжный вал быстро нарастал: к середине века в год выходило уже более 2 тыс. наименований книг. К тому же в 20—30 гг. частные издательства перешли к массовым тиражам книг. Первым из них было известнейшее издательство А. Ф. Смирдина (1795—1857). Он выпустил более 70 собраний сочинений русских писателей, в том числе Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова. Он начал издавать дешевые массовые книги тиражами 10—15 тыс. экземпляров для широкой продажи.
Произошло и становление русской журналистики. Особый авторитет в дискуссионных публикациях имели не государственные, а общественные издания. Если в первое десятилетие XIX в. выходило 64 периодических издания, то к середине века их было 240. В первой половине XIX в. усилия государства и общества в области просветительства сравнимы по результатам, а интересы уже не всегда совпадали.
В этой ситуации положение с цензурой стало нетерпимым с точки зрения людей власти. Очень скоро источником всех бед в распространении «вольнодумства» стал видеться крайне либеральный устав цензуры 1804 г. Требовалась новая система контроля за печатью, защищавшая позиции правительства.
В начале 20-х гг. очередной министр просвещения адмирал А. С. Шишков пишет любимцу императора А. А. Аракчееву о необходимости государственного контроля за просветительской деятельностью в России. Это убеждение разделял созданный в июне 1820 г. специальный комитет для составления нового цензурного устава. В него вошли чиновники Министерства просвещения, попечители учебных округов: Магницкий, Рунич, Лаваль, Мещерский и др.
Несколько модернизированный проект цензурного устава был представлен императору Николаю I уже в первый год его правления — в 1826 г. В этом проекте предусматривалось две цензуры: министерства просвещения и полицейская; цензоры выводились из структуры университетов и становились государственными чиновниками. Им предписывалось запрещать все, что внушает сомнение в Священном Писании, нарушает почтение к власти. «Вредной» науке истории было посвящено целых пять руководящих параграфов против «пагубных мудрствований новейших времен». Венцом устава стал параграф 151, который запрещал печатать все, что могло иметь двойное толкование.
Устав 1826 г. настолько сильно расходился с общественными интересами, что его вскоре пришлось смягчить, и следующие 20 лет николаевские цензоры руководствовались цензурным уставом 1828 г. Из предыдущего устава были убраны наиболее одиозные статьи и образована отдельная цензура для духовных сочинений и для иностранных книг.
Государство стремилось к тотальному контролю за выходившей литературой. Принятие нового устава цензуры на рубеже двух царствований было очень важным шагом. Цензурный устав 1826— 1828 гг. действовал до середины XIX в., практически до реформ Александра II. Современники называли его «чугунным». Что же смогла сделать власть для удержания баланса просветительских усилий в обществе? Из новой редакции устава было устранено требование к цензорам «направлять общественное мнение», однако остались все запретительные меры. Цензорам вменялось в обязанность не только запрещать подозрительные сочинения, но и доносить об их авторах в тайную полицию (III отделение Канцелярии его императорского величества).
Даже после смягчения устав остался классическим примером предварительной цензуры, т. е. цензор имел право запретить публикацию книги от имени государства и на основании ведомственных инструкций, а не закона. И его решение было обжаловать невозможно, ибо не существовало арбитражного механизма для разрешения спора с ним.
С введением Устава 1828 г. начался расцвет всех видов ведомственной цензуры. Бюрократический порядок приводил к тому, что чиновники всех ведомств стремились участвовать в процессе «разрешения» издания. В результате в составе цензурного комитета постепенно оказались представители чуть ли не всех департаментов и ведомств: от министров внутренних дел и финансов до комитета по археологии, попечительства детских приютов и управления коннозаводства. А для представителя от общественности места там не нашлось. Власть предпочитала сама решать вопрос о том, что полезно читать подданным, а что нет.
Появление специальной службы государственной цензуры подтверждало, что просветительское дело стало не только государственной политикой, но и общественной функцией.