Русский характер.
Психология здоровья
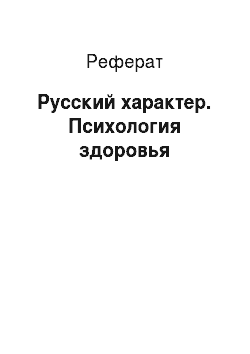
Природный темперамент русских людей, на который накладываются все последующие внешние социальные влияния, исследователи относят к эпитимному типу. Для людей такого склада характерны колебания настроения от глубокой апатии и лени, упрямства и инертности до проявления необычайной энергии и исступленной страсти, перед которой ничто не может устоять. Эти колебания связаны не столько с внешними… Читать ещё >
Русский характер. Психология здоровья (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Большое количество исследователей — этнографов, писателей, философов уделяли внимание проблеме национального характера русского народа, пытаясь найти то особенное и неповторимое качество, отличающее его от других народов. Среди тех, кто пытался понять загадку русской души, мы видим имена А. С. Пушкина и А. С. Хомякова, Г. П. Данилевского и В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева и И. А. Ильина, П. А. Сорокина и И. А. Булгакова, Г. П. Федотова и Н. О. Лосского, многих исследователей советского и постсоветского периода. Этот интерес вполне закономерен, потому что понимание особенностей национального характера позволяет экстраполировать развитие любого общества. Не случайно, что в военных разведывательных ведомствах западных стран изучение проблем национального характера входит в число важнейших направлений, имеющих стратегическое значение для прогнозов военных действий.
Знаменитый французский социолог Г. Лебон в конце XIX в. в своей книге «Психология народов и масс» писал: «Без предварительного знания душевного склада народа история его кажется каким-то хаосом событий, управляемых одной случайностью. Напротив, когда душа народа нам известна, то жизнь его представляется правильным и фатальным следствием его психических черт. Во всех проявлениях жизни нации мы находим всегда, что неизменная душа расы сама гнет свою судьбу.
В политических учреждениях с наибольшей силой проявляется верховная власть расовой души. К каким бы партиям ни принадлежали борющиеся силы, как бы ни называлась власть в стране, королевской, президентской, императорской, коммунистической, любая из них имеет один и тот же идеал, и этот идеал есть выражение чувства расовой души. Народный характер создает судьбу нации… Душа народа, душа расы является неизменной, а государственный строй, политические учреждения — лишь производное от характера народа.
Какие бы события ни происходили в той или иной стране, как бы народ ни пытался изменить существующие формы правления и политические учреждения, он не в состоянии избавиться от того, что вытекает, что является следствием души народа… Правление какогонибудь монарха в той или иной африканской стране будет значительно лучше для народа данной страны, чем применение к ней принципов самой искушенной европейской конституции. В силу того, что у каждого народа душа своя, свой дух, в странах не может существовать одинакового политического строя"[1].
Хотя концепцию Лебона некоторые советские ученые называли антинаучной и антиисторичной, однако этому исследователю удалось выявить проблему связи между особенностями психического склада данного народа и общественным устройством его жизни.
Выявив наиболее существенные черты характера русского народа, можно ответить и на вопрос, какой успех в жизни наиболее соответствует его природному архетипу. Это особенно важно в эпоху бурных социальных перемен, когда только обращение к духовным истокам становится действительным спасением.
Природный темперамент русских людей, на который накладываются все последующие внешние социальные влияния, исследователи относят к эпитимному типу. Для людей такого склада характерны колебания настроения от глубокой апатии и лени, упрямства и инертности до проявления необычайной энергии и исступленной страсти, перед которой ничто не может устоять. Эти колебания связаны не столько с внешними обстоятельствами, сколько с внутренними физиологическими процессами, протекающими в организме. Другими качествами эиитимиков являются вязкость и обстоятельность мышления, стремление к тщательной отделке деталей, основательность и стремление все свои действия подчинить специальному плану. Находясь в спокойной фазе, эпитимики доброжелательны и великодушны, совестливы и мягки. Находясь в раздражении и гневе, они становятся жестокими и необузданными. Воспитание и культурный уровень накладывают на эти природные черты свой отпечаток, но тем не менее опытный психолог всегда может определить эпитимика по особой манере поведения и свойствам мышления.
Среди типичных представителей эпитимного склада личности в русской культуре можно назвать имена Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, нашего современника поэта и певца В. С. Высоцкого.
Если оставить в стороне семидесятилетнее влияние коммунистической идеологии, то следует отметить, что на духовное сознание и самосознание русских людей наибольшее влияние в течение многих веков оказывала Русская Православная Церковь, стремясь воспитать такие черты характера, как тяга к высшим духовным ценностям, необычайное терпение, совестливость, доброту и сострадание к ближнему. ‘Но эти высокие духовные качества могут существовать в одном и том же народе вместе со святотатством, жестокостью и всякими другими пороками, особенно если человек стоит далеко от христианской культуры и должного образования. Известный русский философ-эмигрант Н. О. Лосский, посвятивший изучению русского характера свой выдающийся во всех отношениях труд, обращал внимание на полярность русского характера.
В нем, наряду со способностью к высшим формам опыта, Лосский отмечает такие противоречащие друг другу черты, как страстная сила воли и леность, обломовщина; поиск высших ценностей жизни и склонность к анархии и нигилизму; природная доброта и бессмысленная жестокость; мессианство и отсутствие самодисциплины. Лосский приводит любопытное высказывание английского исследователя М. Бэринга, сравнивавшего свойства характера англичанина и русского: если в каждом англичанине есть сочетание характера Генриха VIII, Дж. Мильтона и мистера Пиквика, то в русском человеке сочетаются свойства Петра Великого, князя Мышкина и Хлестакова.
Об этой же противоречивости и многогранности русского челрвека говорит Н. А. Бердяев в своей книге «Русская идея»: «Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая, дионисическая стихия и аскетически монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизму национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт». Из-за всего этого от русского народа, указывает Н. А. Бердяев, «всегда можно ожидать неожиданность, поэтому он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть»[2].
Обобщенный характер любого народа связан с его коллективным бессознательным, которое, как указывал К. Юнг, может быть выявле-
но в содержании типичных сновидений, в сказках, мифах, легендах, религиозных верованиях. Если мы проанализируем содержание русских народных сказок, то можем найти в них и бессмысленную жестокость, и похвалу хитрости и обману, и стремление поживиться за чужой счет. Б одной сказке голодная лиса притворяется мертвой, ее подбирает мужик, который везет в санях рыбу. Подобрав лису, мужик радуется, что сможет сделать из ее шкуры новую шапку жене. Очутившись в санях с рыбой, лиса повыбрасывала ее на дорогу и потом преспокойно съела. Попутно. она обманула ни в чем не повинного волка, который в результате встречи с лисой был бит и лишился хвоста.
Б сказке «Терем мышки» несколько зверей мирно жили в теремке, который они построили из лошадиного остова. Но пришел медведь, сел на теремок и всех передавил. Почему? За что? Надо полагать, просто так, от нечего делать. Зверюшкам скорее всего — слезы, медведю — пустая потеха.
Бо многих сказках про бесталанного Иванушку-дурачка счастье приходит к нему в виде коня или Василисы Прекрасной неисповедимыми путями, отнюдь не как награда за серьезный труд.
Б качестве иллюстрации желания добиться успеха и стать счастливым, не особенно при этом напрягаясь, могут служить сказки про Емелю, который, лежа на печи, имел все, что хотел, приговаривая магическое заклинание «по щучьему велению, по моему хотению».
Замечательный русский писатель Н. С. Лесков уделил в свое время много внимания этой черте нашего национального характера — желанию, не особенно напрягаясь, разбогатеть как-нибудь сразу, схватив волшебную жар-птицу за хвост. Отмечая, что счастье — это дело случая и произвола, Лесков пишет: «Не каждый ли почти из нас рассчитывает более всего на свое счастие, нежели на свой труд и на более или менее благоприятные обстоятельства, нежели на сознание своих обязанностей, на полное и честное исполнение их?.. Но прочное общественное благосостояние, как и прочное благосостояние отдельных лиц приобретается и достигается несчастием, не даром, а трудом, усилиями и заслугами… счастие, как его обыкновенно понимают люди, не может быть прочным уже потому, что фундаментом ему служит или случай, или произвол, а не закон, не нравственное начало. Между тем, таково счастие, о котором мечтают, которого желают себе люди»[3].
Сравнивая русские сказки с западными, несущими в себе нормы протестантской этики, в частности со сказками братьев Гримм и сказками Г. Х. Андерсена, нельзя не заметить, что в последних гораздо чаще и сильнее делается акцент на достижении успеха не случайным путем, а через упорный труд и профессиональное мастерство.
Особенно тяжелые последствия для русского национального характера имело нашествие монголо-татар. Тогда, пишет Н. М. Карамзин, «забыв гордость народную, — мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых: обманывая татар, более обманывали друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали гораздо корыстолюбивее и гораздо бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов; …чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость во нравах. Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами, однако же действие часто бывает долговременнее причины: внуки имеют некоторые добродетели и пороки своих дедов, хотя живут в своих обстоятельствах». Может быть, заключает историк, «самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством монголов»[4].
Если учесть, что принципы авторитарного управления монголотатар в дальнейшем, после их изгнания, русские цари использовали в своем собственном правлении, подобный уклад общественной жизни естественным образом оказался продленным среди определенной части населения на многие века со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лосский приводит свидетельство уже цитированного нами Бэринга, некоторые мысли которого, к сожалению, продолжают оставаться актуальными для нашего общества до сих пор.
Этот английский журналист, очень любивший Россию и написавший о ней несколько книг, в начале XX в. характеризует ее как страну:
«где издержки на жизнь велики и не пропорциональны качеству доставляемых продуктов;
где работа — дорогая, плохая и медленная;
где гигиенические условия жизни населения очень плохи;
где много всяких болезней, включая чуму;
где медицинская помощь и приспособления для нее недостаточны;
где бедные люди — отсталые и невежественные, а средний класс — беспечный и неряшливый;
где прогресс намеренно задерживается и подвергается всевозможным препятствиям;
страна, управляемая случаем, где все формы администрации произвольны, ненадежны и мешкотны;
где все формы деловой жизни громоздки и обременены канцелярской волокитой; где взятка — необходимый прием в деловой и административной жизни; страна, отягощенная множеством чиновников, которые в общем ленивы, подкупны и некомпетентны;
страна, где нет политической свободы и элементарных прав гражданина, где даже программы концертов и все иностранные газеты и книги подвергаются цензуре;
где свобода прессы стесняется мелкими придирками, а издатели постоянно штрафуются, иногда арестуются;
где свобод** совести стеснена; страна, где динамит есть единственный политический документ, доступный частному лицу, и политическое убийство — единственная форма гражданского мужества; страна плохого управления; страна, где всякое попустительство и нет закона; где всякий действует, не принимая во внимание соседа; где вы можете делать все, что угодно, и не можете критиковать ничего; и где единственный способ показать, что у вас есть мужество иметь свои убеждения, состоит в том, чтобы провести ряд лет в тюрьме;
страна крайностей, нравственной распущенности и экстравагантного потворства самому себе;
народ без держания себя в руках и самодисциплины; народ, все порицающий, все критикующий и никогда недействующий; народ, ревнивый ко всему и ко всем, кто выходит из строя и поднимается выше среднего уровня; смотрящий с подозрением на всякую индивидуальную оригинальность и отличие;
народ, находящийся в рабстве у застывшего уровня посредственности и стереотипных бюрократических форм;
народ, имеющий все недостатки Востока и не имеющий ни одной из его суровых добродетелей, его достоинства и внутренней дисциплины;
нация ни к чему не годных бунтовщиков под руководством подлиз-чиновников; страна, где стоящие у власти живут в постоянном страхе и где влияние может исходить отовсюду;
где ничто не столь абсурдно, что ни может случиться; страна неограниченных возможностей, как было сказано в Государственной Думе"[5].
Сказав эти нелицеприятные слова о России, М. Бэринг тем не менее пишет: «Я люблю эту страну, с удивлением и уважением отношусь к этому народу», потому что «недостатки России — оборотная сторона положительных качеств ее, столь ценных, что они перевешивают недостатки».
Русский эмигрант народник Н. К. Судзиловский, посетивший Америку в середине XIX в., полагал, что пребывание в США накаляло русских революционеров, способствовало лучшему осознанию ими реалий жизни, помогало приспособиться к суровым условиям бытия в этой стране. «Б Америку следовало и следует ехать не только учиться решать политические и социальные задачи, но и лечиться от некоторых важных ущербов русской души. От недостатка веры в себя,
безволья, бестолковости, безалаберности и теоретичности… С этими недостатками русской психологии нечего думать не только спасать других, но и себя самих…" Далее этот же автор проницательно констатирует: «Все зло, все несовершенство русской жизни скрываются в недостатках русского массового характера, в душе мужика ключи и к спасенью, и возрождению России…»1.
В этой же работе приводится отрывок из письма В. Фрея, про которого Л. Н. Толстой, состоявший с ним в переписке, отзывался как об одном из самых замечательных людей своего времени.
В письме Фрея от 2 октября 1874 г. известному русскому революционеру П. А. Лаврову говорится: «Вообще у русских недостаточно развилась еще созидающая способность. Краснобаи на словах, они куда как плохи, когда приходится осуществлять свой теории на практике. А отсутствие энергии и упорства в достижении делает их еще более смешными реформаторами»[6][7].
Однако, как показывает опыт истории, русские образованные люди, осознав в себе определенные недостатки характера, начинают их с успехом преодолевать и достигают на этом поприще поразительных успехов.
Ф.М. Достоевский в романе «Подросток» верно отмечает, что, когда русский увлекается положительными принципами, выработанными Западной Европой, он становится более европейцем, чем сами европейцы — французы, англичане, немцы, — потому что он свободен от их национальной ограниченности. В книге Лосского приводятся достаточно веские доказательства этого.
Так, понимая опасность антисанитарии при лечении болезней, русские врачи достигли в дореволюционное время такого уровня антисептики, что московские клиники стояли в этом отношении выше берлинских.
Преодолевая характерную для русских обломовскую лень и инертность, земские деятели в конце XIX в. поставили городское самоуправление в провинции на такой уровень эффективности, что он оказался выше западноевропейского. Под давлением земских деятелей в октябре 1905 г. правительство было вынуждено издать манифест, дававший русскому народу право на участие в политической жизни страны.
Известно, что до реформ Александра II и отмены крепостного права российские суды и административные органы славились своим взяточничеством и произволом. Это хорошо показал Н. В. Гоголь в комедии «Ревизор». Зная это, русское общество повеЛо борьбу с этими недостатками столь решительно и энергично, что через некоторое время судебные органы России, по свидетельству очевидцев, знавших и западноевропейскую, и русскую культуру, достигли большей высоты, чем аналогичные органы в Западной Европе. Взяточничества в них было меньше, чем во многих других западноевропейских странах.
Во второй половине XIX в. русские купцы и промышленники стали посылать своих детей учиться за границу. Благодаря заимствованию ценного опыта русская текстильная промышленность к XX в. начала вырабатывать сукно такого качества, что стала теснить на рынках англичан. И если прежде, заказывая сюртук, русские требовали, чтобы он был сшит из английского сукна, то позже предпочитали отечественные ткани.
За всеми этими примерами можно видеть успехи не только отдельных промышленников и купцов, но и всего российского общества в целом, достойно вошедшего в начале XX в. в семью европейских государств. Личный успех многих российских предпринимателей оказывался неотделим от успеха России в целом. Единственный путь к этому во всех отношениях праведному успеху — обучение, образование и самовоспитание.
«Вообще все недостатки и пороки нашей общественности выходят из невежества и непросвещения, — писал в своей статье „Россия до Петра Великого“ В. Г. Белинский, — и потому свет знания и образованности разгоняет их, как восход солнца ночные туманы»[8]. В другом своем сочинении Белинский отмечал также способность русских, сохраняя свою самобытность, брать как свое все, что составляет исключительную сторону каждого европейского народа.
Нисколько не умаляя значения выдающихся открытий российских ученых в области науки и техники, таких, как создание периодической системы Д. И. Менделеева, открытие радиоволн А. С. Поповым и запуск первых космических кораблей, тем не менее отметим, что благодаря своей хорошей обучаемости и чувству восприимчивости чужого опыта мы, россияне, в разное время позаимствовали много полезного:
— у монголо-татар — систему государственного устройства, налогообложения и способы связи, а также метод возгонки спирта, т. е. производство водки;
- — у шведов и немцев — стратегию и тактику военного дела;
- — у французов — галантные манеры, а также умение производить тонкие вина и сыры;
- — у китайцев — выращивание и употребление чая, производство фарфора, пороха и бумаги;
- — у англичан — выделку сукна и обработку льна на чесальных машинах и ткацких станках, а также парламент.
Но особенно восприимчивыми россияне оказались в сфере духовного строительства, оставляя здесь далеко позади своих учителей. Так, мы заимствовали:
- — у византийских греков — христианскую религию и иконопись;
- — у французов — жанр литературного романа, классический балет и комическую музыкальную оперетту;
- — у итальянцев — серьезную оперу с ее знаменитым bel canto и академическую живопись;
- — у немцев — философию и музыкальную форму классической симфонии.
Во всех этих сферах духовной жизни нашими русскими писателями, музыкантами, художниками были созданы шедевры, которые навсегда вошли в сокровищницу мирового искусства и достижений человеческого духа.
Чем объяснить тот неоспоримый факт, что русские люди оказываются гораздо сильнее в области духовного строительства, нежели в разумном обустройстве своей повседневной жизни? Традиционно это можно объяснять ленью и отсутствием должного упорства в доведении до конца хороших начинаний, необязательностью и верой в удачу, слепой случай — авось все и так образуется. Но может быть и другое объяснение. Оно связано с исконной направленностью русского ума в потусторонний мир, в область духовного, в Царство Божие, в мир идеального, а не земного, ибо русские следовали завету Иисуса Христа, который говорил: «Царствие мое не от мира сего». Б этом коренное отличие русского православия от католичества и протестантства, утверждавших важность для спасения души земных деяний в посюстороннем мире, т. е. в мире земном.
Один из отцов Русской Православной Церкви святитель Феофан Затворник учил свою паству: «Дело — не главное в жизни человека. Главное — настроение сердца, к Богу обращенное». Другой святой, отец Иоанн Лествичник говорил: «Кто истинно возлюбил Бога, кто истинно желает и ищет будущего Царствия… тот не возлюбит уже ничего временного, уже не станет суетиться и заботиться ни об имениях и приобретениях, ни о славе и чести мира сего, и ни о чем земном»1.
Эти, как и многие другие аналогичные наставления отцов Русской Православной Церкви, исходили из Христовой заповеди, что спокойствие души важнее дела, ибо «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Принцип недеяния характерен для индийской и особенно для буддийской философии. И он в полной мере проявился в православии.
Ориентация на теплые и сердечные отношения, а не на прагматический расчет и материальную выгоду — отличительная черта христианской души русского человека. Поэтому, вероятно, нигде в мире нет той особой сердечности и задушевности, какая есть в русских семьях, когда собир;аются близкие родственники и друзья. Словами не передать то чувство душевного комфорта, внутренней радости и покоя, которые воцаряются за общим столом в кругу друзей и которые оказываются непривычными для попавших за этот стол иностранцев. Уехав за границу в поисках более обеспеченной жизни, многие русские люди тоскуют именно по этому тайному очарованию русского духовного общения, в котором нет места расчету, выгоде и меркантилизму.
Все российские мыслители, сформировавшиеся в традициях православного христианства, отмечали тяготение русского человека к исканию высших духовных ценностей, воплощавшихся в идее Царства Божия, основанного на идеях добра, любви, нравственности и справедливости. По мнению философа Л. П. Карсавина, русский человек не может существовать без абсолютного идеала, ради которого он готов пожертвовать всем, что у него есть. Если же ему доказать отсутствие абсолютного идеала или же неосуществимость, или даже отдаленность его, «он сразу утратит всякую охоту жить и действовать; …усомнившись в идеале или его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотоподобия или мифического равнодушия ко всему»[9][10].
В годы советской власти многие люди поддерживали ее, верили в коммунистический идеал и рассматривали построение социализма как реальную возможность осуществления Царства Божия на земле. Но русские революционеры были атеистами, они отказались от общечеловеческих нравственных ценностей и основу достижения своих целей видели в материальной стороне жизни. Забвение абсолютных нравственных ценностей и пренебрежение ими в конце концов привели к крушению громадной империи, именовавшейся советским государством.
Приведенные примеры заимствования русской культурой достижений других культур надо рассматривать не как отсутствие у русского народа способности к собственному оригинальному мышлению, но как способность к всечеловеческой и всемирной отзывчивости, которую Ф. М. Достоевский находил у А. С. Пушкина и которые называл главнейшей способностью нашей национальности. Из этого положения вырастает и русская идея, как ее понимал Достоевский: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечелойеком… потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».
Сегодня духовным завоеваниям русской культуры противостоят модели западного потребительского общества, идея быстрой наживы и богатства как единственной цели человеческой жизни. Стоит ли говорить, что подобная цель никогда не ставилась во главу угла в русской духовной традиции, более того, она презиралась. Только успешное служение высоким идеалам гуманизма и общественного процветания, добра и справедливости считалось подлинным делом и приносило настоящее душевное удовлетворение. Многие русские купцы и промышленники, среди которых были и старообрядцы, стыдились своего богатства, в быту жили очень скромно и жертвовали огромные суммы на общественно полезные дела — строительство храмов и домов для престарелых, художественных галерей, оперных и драматических театров, больниц, школ и библиотек.
Выдающийся русский философ И. А. Ильин, развивая понятие русской идеи, писал, что она, эта идея, заключается в свободно и предметно созерцающей любви и в определяемых этим жизни и культуре. Отсюда вытекает и задача русского народа — не гнаться за западной католической культурой, основанной на иных идеалах, не соблазняться чужим укладом жизни, а блюсти свою духовную природу и вырастить из свободного, сердечного созерцания свою, особую новую русскую культуру воли, мысли и организации. За Россией, писал Ильин, «стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы все не смеем отказываться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже этого захотели… Хороши мы в данный момент нашей истории или плохи, мы призваны и обязаны идти своим путем — очищать свое сердце, укреплять свое созерцание, осуществлять свою свободу и воспитывать себя к предметности. Как бы ни были ведики наши исторические несчастия и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, русских содержаний и русской формы, а не ходить в кусочки, собирая на мнимую бедность. Мы западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру — из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом — смысл русской идеи»[11].
Как мы видим, русская духовная традиция в своих основных постулатах всегда обращается к Богу. Но как в этом случае вести себя атеисту? Где ему искать опору для определения своего жизненного, успеха, если деньги и прочие материальные блага не являются тем основным жизненным смыслом, ради которых стоит жить? Ответ на этот вопрос дает-все та же гуманистическая этика, о принципах которой шла речь в начале данной главы. В единении русской духовной традиции, основанной на православии и общечеловеческих ценностях, с современной гуманистической этикой нет противоречия. Жизненный успех каждого человека две эти традиции связывают не с царством материальной свободы, но с миром свободного развития личности, открывающей свое сердце навстречу любви, справедливости и уважения к каждому человеку и окружающей его природе. Построение демократического общества в России, ее нравственное пробуждение как от обморочного коммунистического наваждения, так и от бездумного западного потребительства и вещизма, ее достойное место в семье народов связано с личностным ростом каждого ее гражданина и достижением той критической массы нравственного совершенства, после которой все другие проблемы, включая экономические и политические, будут разрешаться сами собой. .
- [1] Левон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896. С. 48—69, 62.
- [2] Цит. по: Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 280—281.
- [3] Лесков Н. Честное слово. М, 1988. С. 80−81.
- [4] Карамзин Н. М. Предания веков. М. 1988. С. 424—425.
- [5] Цит. по: Лососий Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 354−355.
- [6] Цит. по: Гросул В. Я. Российская политическая эмиграция СЩА n XIX веке //Новая и новейшая история. 1994. № 2. С. 57.
- [7] Гросул В. Я. Указ. соч. С. 59.
- [8] Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // Русская идея. М., 1992. С. 82.
- [9] Подвижнические уроки св. Иоанна Лествичника // Добротолюбие. М., 1992.Т.2.С. 493.
- [10] Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Русская идея. М., 1922. С. 322.
- [11] Ильин И. Л. О русской идее // Русская идея. М., 1992. С. 440−441.