Гендерное измерение политических процессов
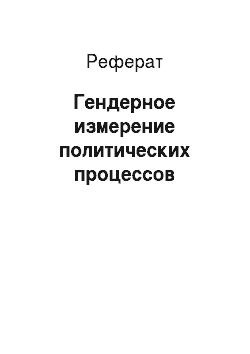
Итогом гендерной социализации является освоение разных социальных ролей, усвоение различий содержания труда, а также формирование стереотипов «мужественности» и «женственности». Все это влияет на разное отношение к политике и политически активной деятельности: восприятие общественных политических событий и ситуации (например, женщины негативно относятся к военным действиям, а мужчины нет… Читать ещё >
Гендерное измерение политических процессов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гендерные различия политических процессов — исторически сложившееся явление, проявляющееся в политическом участии, представительстве, восприятии политической власти и т. д. «Равноценное участие мужчин и женщин в управлении страной по-своему гарантирует понятие сбалансированных, ответственных решений, а потому способно обеспечить ее устойчивое развитие. Устойчивость и стабильность — это то, что абсолютно необходимо нашему обществу»[1]. Рассмотрим современные социально-политические проблемы и изменения в содержании различных государственных политик и процессы самореализации женщин в системе властных отношений с точки зрения гендерного подхода.
Остановимся сначала на рассмотрении гендерного аспекта законодательной деятельности и аспектах правового обеспечения гендерного равенства в политике. Следствием длительной борьбы за равенство полов стало законодательное закрепление гражданского статуса женщин, среди основных достижений выделим Конвенцию ООН «О политических правах женщин» (1952 г.), «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (1966 г.), Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (1979 г.), проведение международных конференций по положению и правам женщин, а также четырех Всемирных конференций по положению женщин (Мехико, 1975; Копенгаген, 1980; Найроби, 1985; Пекин, 1995), в рамках которых были приняты документы, предоставляющие женщине права наравне с мужчиной. Добившись политических прав, женщины обратили внимание на необходимость пересмотра действующего «мужского» законодательства и утверждения унифицирующего значения норм международного права.
По мнению зарубежных специалистов, отсутствие механизма обеспечения на законодательном уровне равных возможностей на практике приводит к дискриминации женщин. Поэтому разные страны разрабатывают политики, направленные на преодоление неравенства полов. Например, в Западной Европе в избирательных кампаниях (при выдвижении и регистрации кандидатур) применяются: квотирование, процентные пороги, устанавливающие минимальное количество представителей того или иного пола во властных структурах (от 10 до 40%), и т. п.
Однако в России до сих пор слабо развито направление гендерно чувствительного законодательства, направленного на развитие конституционных норм и принципов решения тех проблем, где женщины особенно уязвимы (например, о равных правах и равных возможностях и т. д.). Поэтому с точки зрения международных стандартов, где главным критерием, по которому можно судить о социально-политическом статусе женщин, является соотношение законодательно закрепленных прав и условий реализации этих прав, основной недостаток российского законодательства — его гендерная нейтральность, отсутствие норм, обеспечивающих выравнивание возможностей мужчин и женщин и реализацию ими прав и свобод.
Законодательная деятельность тесным образом связана с гендерными аспектами политического управления. Законодательно-нормативные механизмы вовлечения (наличие адекватной гендерно уравновешенной законодательной базы, разработка новых поколений законов, направленных на выравнивание гендерной сбалансированности в обществе) обеспечивают политическое рекрутирование, которое зависит от типа и принципов избирательной системы, а также формы партийной системы и мер продвижения женщин в представительные органы и др. Например, западные исследователи, анализирующие политическое представительство женщин в законодательных органах власти, показали, что пропорциональная система по сравнению с мажоритарной формирует больше возможностей для женщин.
Отмечается также, что разные типы (патриархальный, патерналистский, либеральный) политической государственной политики в отношении женщин также по-разному оказывают влияние на наличие и рост женского участия в политических и управленческих процессах. Примером патерналистской политики по отношению к женщинам выступает советская власть, которая рассматривала «женщин как особую социальную категорию и разрабатывала специальные меры регулирования их социального положения. Патернализм выражался в том, что партийно-государственная политика позиционировала женщин как объект особой заботы; социальные гарантии и льготы, связанные с совмещением репродуктивной, производственной и семейной ролей, превращали женщин в специфическую государственно-зависимую группу, обеспечивали этой категории советских граждан особую позицию в обществе»[2].
Современный же тип государственной политики, основанной на гендерном подходе, исследователи определяют как «эгалитарный» тип, или «политику гендерного равенства». Среди основных направлений такой политики российский исследователь Хасбулатова Ольга Анатольевна выделяет: равное участие женщин и мужчин во всех сферах политики, в управлении государством, в профессиональной занятости; создание условий для максимального высвобождения женщин и мужчин от выполнения рутинной домашней работы; распространение государственных льгот, связанных с уходом за детьми, на обоих родителей, обеспечение равного доступа обоих полов к образовательным, информационным, организационным, административным ресурсам; преодоление патриархальных, консервативных стереотипов о гендерных ролях, создание благоприятного общественного мнения о гендерном равенстве; создание специальной системы подготовки государственных служащих.
Хотя в современном обществе, в отличие от традиционного, и происходит постепенное преодоление гендерной асимметрии, во всех странах в настоящее время существует гендерное неравенство в отношении представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти, определяемое как «гендерная пирамида»: чем выше уровень власти, тем там меньше женщин. Гендерная пирамида власти в российском обществе институализируется государством, воспроизводится системой «гендерно нейтрального права», а также ценностями общества и процессом социализации. Так, например, выделение «женской» политической субкультуры является препятствием демократизации политической системы и нарушением функций политической культуры.
Оказывая влияние на политические процессы, в отсутствие публично признанного авторитета женщины прибегают к использованию сетевых ресурсов и неформальных связей, основанных на принципе паритета и равноправия. Для определения влияния женщин на политические решения и политические события, их роли в общественно-политической жизни, их воздействия на формирование и передачу культурных стереотипов, введен специальных термин «власть женщин» или «женское влияние» (women’s power).
Другое гендерное измерение политической культуры связано с анализом гендерной идентичности государств, которое приводит к созданию определенных образов (например, устойчивая ассоциации «Родина-мать»), и использованием для характеристики национального характера признаков фемининности и маскулинности (в ряде историко-философских работ выдвигается идея о мужественности немецкого национального характера и женственности русского). Американские ученые Дж. Мак Ки и А. Шеффирс определили, что такое типично мужской и женский образы. Первый они связали с социально не ограничивающим стилем поведения, компетенцией и рациональными способностями, активностью и эффективностью. А женский образ соотносится с социальными и коммуникативными умениями, теплотой и эмоциональной поддержкой. Они также показали, что чрезмерная акцентуация типично маскулинных или фемининных черт оценивается негативно. Именно гендерные стереотипы, функционирующие на уровне общества и основывающиеся на представлениях о различиях между мужчинами и женщинами, лежат в основе таких формирований на макросоциальном уровне.
Гендерные стереотипы функционируют также на уровне индивида. И этот тип стереотипов больше соотносится с гендерной ролью. И здесь мы уже можем говорить о гендерном измерении политической социализации, связанной с самосознанием женщин и мужчин, формированием гендерных различий восприятия и гендерным воспитанием.
Как отмечают исследователи, гендерные стереотипы формируются уже в детском возрасте, это происходит при усвоении господствующих в определенной культуре представлений о правильном поведении, распределении способностей и обязанностей и т. д. «С кем человек начинает идентифицировать себя — с мужчиной или с женщиной, равно как и большая часть черт его характера, идей и желаний, зависит в первую очередь от того, к какому полу он был отнесен в детстве»[3].
Анализ современной гендерной политической социализации свидетельствует о том, что в настоящее время в российском обществе с детства в шкале женских ценностей формируется установка на низкий ранг политики. Как отмечает О. Г. Овчарова, «исследования психологов показывают равное наличие у подростков стремления к доминированию и политический интерес. Однако чаще всего у девочек / девушек эти установки присутствуют в косвенных проявлениях, в моделях поведения, присущих гендерным стандартам, и реже в стратегиях инициативного типа, выражающихся в обозначении приоритета общественной самореализации»[4].
В процессе политической социализации, формируется представление о том, что политика — сфера мужчин. «В детстве мальчику говорят, что когда он вырастет, то сможет однажды стать президентом, а девочка может надеяться на то, чтобы выйти замуж за мужчину, который однажды станет президентом»[5]. При воспитании мальчиков агенты социализации стараются поощрять независимое и уверенное поведение, ориентируемое на достижение целей, а девочек ориентируют на заботу об окружающих.
Итогом гендерной социализации является освоение разных социальных ролей, усвоение различий содержания труда, а также формирование стереотипов «мужественности» и «женственности». Все это влияет на разное отношение к политике и политически активной деятельности: восприятие общественных политических событий и ситуации (например, женщины негативно относятся к военным действиям, а мужчины нет), политической власти (женщины интересуются политикой меньше, чем мужчины), политических лидеров, политических партий и т. д. Исследуя эту проблему, Елена Борисовна Шестопал указывает, что «гендерные различия в образах власти весьма существенны как по степени интереса к ней, так и в ее оценках, ожиданиях и поведенческих установках в отношении к власти. Можно сказать, что женщины в основном проявляют лояльность в отношении к власти… в то время как мужчины настроены более критично, радикально и независимо. У мужчин, обладающих большим интересом в отношении власти, данный образ более динамичен. Отсюда более низкая среди мужчин (по сравнению с женщинами) степень компетентности суждений о власти, связанная скорее с переоценкой, переосмыслением этого образа»[6].
Светлана Андреевна Листикова отмечает также, что женщины реже мужчин выражают свое мнение о политических субъектах и чаще поддерживают партии демократической ориентации.
Другой гендерный аспект политической коммуникации связан с формированием и трансляцией женских образов и символов политической культуры: маскулинность и фемининность влияет на различия в коммуникативных аспектах общения, специфику деятельности СМИ (пример: в формировании стереотипного отношения). Используя терминологию Р. Джона Далтона, можно отметить, что именно «индивидуализация политики», использующая гендерный массмедийный дискурс, поможет осознать значимость политического потенциала женщин, необходимость их участия в политических движениях и партиях. Например, политическая реклама все чаще использует гендерную символику, основанную на гендерных стереотипах. Обратимся к примеру Марии Викторовны Томской: «Для привлечения женской части электората, которая составляет более половины всех избирателей, коллективный автор апеллирует к образу матери, изображая при этом Лужкова и Ельцина заботливыми отцами и резюмируя, что они тем самым являются настоящими мужчинами и политиками: Милые женщины! При поддержке Бориса Ельцина московское правительство особое внимание уделяет Вам и Вашим детям. Сегодня в Москве можно купить, что душе угодно, а само понятие очередь просто исчезло из обихода. Москва сохранила систему детских садов и консультационных служб для женщин…
У Юрия Михайловича четверо детей, у Бориса Николаевича уже четыре внука. Юрий Лужков и Борис Ельцин — настоящие мужчины и настоящие политики"[7]. Существуют и другие способы использования гендерных аспектов в политической коммуникации, связанные с идентификацией.
При рассмотрении гендерных проблем политических процессов актуален вопрос о социальном потенциале кадров и степени его востребованности. Поэтому акцентируем внимание на гендерном измерении политического лидерства: особенность мужского и женского лидерства; возможности для женщин стать политическими лидерами;
приверженность женским интересам; создание альтернативных мужским политических правил игры; стиль поведения; продуктивность работы; поведение в присутствии лиц своего и противоположного пола; вербальное и невербальное поведение на переговорах; мотивация достижения и отношение к наградам за деятельность; конкурентоспособность и лидерство.
Структурные барьеры, сложившаяся гендерная асимметрия, культурные нормы, господство патриархального сознания, наличие негативного общественного мнения к образу «женщины в политике», закрытость власти от несистемных игроков, нежелание самих женщин двигаться вверх по карьерной лестнице и сложившиеся гендерные и социокультурные стереотипы удерживают большинство женщин от карьеры в политической сфере.
Это связано и с другими проблемами. Попробуйте, например, определить черты «человека политического», и вы сразу обратите внимание на то, что классический образ никак не соотносится с женскими качествами. Так, например, исследование Татьяны Владимировны Бендас показало, что маскулинная лидерская модель является разновидностью конкурентной модели и подчиняется принципу долженствования (поэтому претендент на лидерскую роль непременно борется за нее) и описывается следующими показателями: мужской пол (хотя лидером может быть и женщина с маскулинными характеристиками), зрелый (или просто старший) возраст, высокие конкурентность, маскулинность, сексуальность (и сексуальная привлекательность), доминантность, агрессивность. А фемининная лидерская модель подчинена принципу комплементарное™, дополнительности, вакуума (лидерская роль принимается только при условии наличия вакуума лидерства, когда нет представителя, отвечающего характеристикам маскулинной модели). Женщине-лидеру свойственны: фемининный отрицательный лидерский потенциал (исключение составляю русские женщинылидеры); зрелое фемининное успешное лидерство; здоровая гендерная идентичность; развитость лидерской мотивации «власть — достижение — аффиляция»; демонстративная ориентация на взаимоотношения с окружающими. Женщины-лидеры превосходили мужчин по коммуникативным характеристикам, эмоциональности, по мотивации достижения и власти, успешности по деловым критериям, лидерскому потенциалу.
Другой исследователь, Бушуева Наталья Викторовна, указывает на то, что гендерные отличия лидеров существуют по всем основным личностным характеристикам политика: Я-концепции (самооценка: для женщин характерны внешняя оценка, и они чувствительны к критике, мужчины практически не чувствительны к критике, причины неуспеха связывают с независящими от них обстоятельствами), мотивационной сфере (разные показатели по мотивам власти, достижения и аффиляции), системе политических убеждений (женщине-политику больше свойственен либерализм и космополитизм, а мужчине консерватизм и национализм), стилю принятия политических решений (женщинам более свойственна осторожность, в то время как мужчины склонны рисковать), стилю межличностных отношений (возможность применения силы у мужчин и стремление к консенсусу у женщин), поведению в стрессовых ситуациях (мужчина-лидер характеризуется вербальной и поведенческой агрессией, а женщина-лидер — обращением за поддержкой). Гендерные характеристики личности политиков влияют на их политику и принятие решений.
Женское лидерство отличается от мужского еще тем, что последние ориентированы на принятие решений в отношении армии, образования и т. п., в то время как женщины-лидеры уделяют большее внимание социальным проблемам. Женские способы действия в политике более разнообразны, так как женщина-политик может избрать и «мужскую» тактику поведения (например, «железная леди» Маргарет Тэтчер). Такая женщина смело принимает решения и не особенно разборчива в выборе средств достижения целей.
Другой аспект гендерного измерения политического участия связан с избирательным процессом и электоральным поведением. В большинстве стран женщины составляют наиболее активную часть электората.
Гендерная разница электорального поведения анализируется посредством явления «гендерный разрыв» (gender gap in election), обнаруженного американскими политологами. Эта категория обозначает отличие в политическом сознании мужчин и женщин, свидетельствует о разнице в ориентирах поведения, их участия, в оценках действий политических лидеров, в отношении к актуальным проблемам государственной политики и путям их решения. Проанализировав количество мужчин и женщин, проголосовавших за того или иного кандидата в президенты в рамках четырех выборов, была выявлена разница от 5 до 9%. Так, например, гендерный разрыв давал Обаме дополнительную поддержку в период выборов президента в 2012 г. в США, так как женщины составляют примерно 54% избирателей. Опросы CNN показывали, что мужчины отдавали предпочтение Ромни (52 против 45%). Обаму преимущественно поддерживали женщины (55 против 44%).
Говоря о специфике женского политического участия в качестве избирателей, также отметим, что женщины активнее действуют, защищая свои права и заботясь о благополучии и безопасности семьи и детей. Как отмечает Наталья Александровна Шведова, «величина гендерной составляющей в волеизъявлении женского электората обуславливается степенью осознания субъектом общности своих интересов, т. е. осознания того, что женщины представляют собой крупную социально-демографическую группу, которая нуждается в целостной государственной политике в отношении женщин»[8].
Исследования Костиковой Ирины Владимировны показывают, «пункты программы кандидата, как открытие новой детской площадки, организация пункта питания и т. д., могут оказаться более мощным мобилизующим фактором, чем абстрактные обещания по улучшению социального обслуживания»[9]. Таким образом, женщина-избиратель отдаст предпочтение политическому лидеру, партии, движению, программа которых содержит конкретные предложения, веря, что они на это способны, и будут ждать от них активных мер.
Исследование гендерных аспектов представляется важным современным проблемным полем политической науки. В данной главе мы рассмотрели только некоторые вопросы, связанные с гендерным измерением политических процессов. Незатронутыми остались вопросы, связанные с социальной политикой и анализом практических политических решений и последствий их принятия для различных социальных групп женщин и мужчин, гендерный аспект политической этики и этикет, гендерный аспект переговорных процессов в политике (например, специфика гендерных стереотипов в дискуссии), гендер и партийная политика и т. д.
- [1] Лахова Е. Ф. Правила игры: равенство возможностей. Государство и политика. М., 2002. С. 38.
- [2] Клёцина И. С. Психология гендерных отношений: концептуализация и эмпирическая иллюстрация макроуровня. URL: http://www.humanpsy.ru/klyotsina/gender-macro
- [3] Lewontin R. Human diversity. L., 1982. P. 142.
- [4] Овчарова О. Г. Гендерная асимметрия политики: неинституциональныеи институциональные аспекты: дис. … д-ра полит, наук. Саратов, 2008. URL: http://www.politlogia.narod.ru/DISSER/diser_doc/2008/GENDER/OvcharovaOG.htm
- [5] Renzetti С., Curran D. Women, Men, and Society. Boston: Allyn and Bacon, 1992. P. 260.
- [6] Психология политического восприятия в современной России / под ред.Е. Б. Шестопал. М.: РОССПЭН, 2012. С. 190—194.
- [7] Томская М. В. Гендерный аспект рекламы (на материале социальных рекламныхтекстов). URL: http://www.gender-cent.ryazan.ru/tomskaya.htm
- [8] Шведова Н. А. Просто о сложном: гендерное просвещение: пособие. М.: Актива, 2002. П2
- [9] Введение в гендерные исследования: учеб, пособие для студентов вузов / под общ.ред. И. В. Костиковой. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 154.