П.Я. Чаадаев.
Культурология
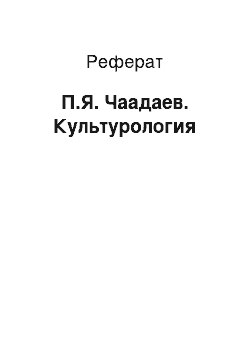
Общественное мнение тогдашней России в целом было не на стороне Чаадаева, и даже его друг Пушкин, защищая в письме философу достоинство Родины, так выразил свою ставшую хрестоматийной мысль: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». В оправдание Чаадаева следует, однако, сказать… Читать ещё >
П.Я. Чаадаев. Культурология (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Яркой и противоречивой фигурой, порожденной болью за изоляцию и отсталость современной ему российской культуры, был друг Пушкина, мыслитель и публицист Петр Яковлевич Чаадаев (1794 — 1856).
Родившись в старинной дворянской семье, он стал офицером лейбгвардии, участвовал в Бородинском сражении и Заграничных походах русской армии в 1813—1815 гг., позднее вступил в Северное общество декабристов. Правда, активного участия в заговоре он не принимал, а вскоре, выйдя в отставку, на три года уехал за границу, где познакомился с Ф. Шеллингом и в дальнейшем поддерживал с ним переписку.
Контраст между передовым европейским обществом и застойной действительностью тогдашней России настолько поразил его, что он, вернувшись на родину уже после разгрома декабристов, написал (между 1829—1831 гг.) свои знаменитые «Философические письма». Первое из них (а всего их было 8), опубликованное в журнале «Телескоп» в 1836 г., произвело эффект разорвавшейся бомбы: это был обвинительный акт против собственного народа, которому приписывались такие пороки, как умственная и духовная отсталость, неразвитость представлений о долге, справедливости, праве и порядке, отсутствие какой-либо самобытной человеческой «идеи», когда, как писал Чаадаев, «ни одна великая истина не вышла из нашей среды», и т. п. «Народы — существа нравственные, — утверждал он, — точно так же, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру»[1]. При этом подразумевалось, что чаще всего это урок отрицательный, как наглядно показала история России XX в.
Властями чаадаевское «Письмо» было воспринято как прямая атака на существующий строй, а его автор, и ранее преследовавшийся за свои связи с декабристами, подобно жертвам советских «психушек», был насильно подвергнут медицинскому освидетельствованию, высочайшим указом объявлен сумасшедшим и навсегда лишен права печататься.
Общественное мнение тогдашней России в целом было не на стороне Чаадаева, и даже его друг Пушкин, защищая в письме философу достоинство Родины, так выразил свою ставшую хрестоматийной мысль: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». В оправдание Чаадаева следует, однако, сказать, как и сам он неоднократно подчеркивал, что, бескомпромиссно критикуя Россию, он делал это из самых высоких побуждений, опираясь на некую общечеловеческую правду и желая родине только блага. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами, — говорил Чаадаев. — Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы»[2].
«Философические письма», особенно первое (остальные были опубликованы много лет спустя после смерти автора), послужили могучим стимулом для полемики между славянофилами и западниками, на стороне последних поначалу выступил Чаадаев. Впрочем, тогдашние славянофилы и западники, не в пример нынешним «патриотам» и «демократам», по меткому выражению Н. А. Бердяева, были «врагидрузья». Герцен как-то сказал по этому поводу: «Мы подобны двуликому Янусу, у нас одна любовь к России, но не одинаковая». А Бердяев добавил: «Для одних Россия была прежде всего мать, для других — дитя»[3]. В этой фразе заложен большой смысл: ведь и в наши дни одни хотят учиться у своей Родины, другие — ее поучать.
Несмотря на резкую критику России, доходившую до национального самоотрицания перед лицом процветающей цивилизованной Европы, нельзя, однако, безоговорочно причислять Чаадаева к западникам. В своих более поздних сочинениях он, не уставая подчеркивать необходимость для русских учиться у Европы, во-первых, провидчески критиковал некоторые отрицательные стороны европейской культуры, такие, как хаос частных интересов, индивидуализм, нарастание «груды искусственных потребностей», вылившихся в современный «вещизм», и т. п. Во-вторых, в духовном облике русских людей зрелый Чаадаев открывал качества, которые, по его мнению, свидетельствуют о «непроявленности» национального духа и должны обеспечить великое будущее России: способность к отречению во имя общего дела, смиренный аскетизм, открытость сердца, совестливость и прямодушие. Из них он выводил возможность почти мессианских свершений русского народа, призванного «ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Таким образом, и славянофилы, и западники с равным правом могли считать его и своим, и чужим, не говоря уже о революционных демократах, которым очень импонировала резкая критика Чаадаевым крепостничества, самодержавия и заскорузлого православия (сам Чаадаев прошел через масонство и исповедовал католицизм).
Собственно культурологические взгляды Чаадаева формировались главным образом под влиянием Гегеля и Шеллинга. Он считал, что источником физического и духовного мира был божественный первотолчок, давший материи движение, а человеку — способность передачи из поколения в поколение всемирно-исторического опыта, направляемого, как и у Гегеля, «всевышним разумом». Чаадаев полагал, что личный интерес и эгоистические стремления ведут человека ко злу, а подчинение общему, объективному, всечеловеческому началу — к нравственному добру, к идеальному общественному устройству, которое будет увенчано установлением «царства Божьего на Земле». Акцент на социальной справедливости, братстве и дружбе людей независимо от их сословных и национальных различий делает Чаадаева провозвестником современных христианско-демократических движений и экуменизма.