Немецкий Национальный союз
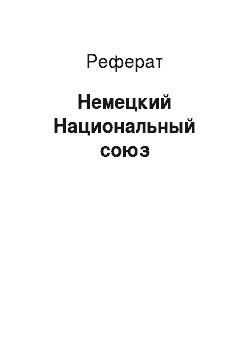
После того как были решены предварительные вопросы, речь зашла о подходящем месте пребывания руководства союза. Во Франкфурте-на-Майне, где союзу было отказано в концессии, не на что было надеяться. Чтобы защитить национальное движение от новых неприятностей, нужно было искусно и осторожно подходить к выбору государства и города, где союз должен был найти пристанище. Пришлось еще раз изучить… Читать ещё >
Немецкий Национальный союз (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Программа союза в целом была сформулирована в первом параграфе Устава, озаглавленном «Цель союза», со ссылкой на заявление, сделанное в Эйзенахе и Ганновере. Там содержался призыв к «единству и свободному развитию общего большого Отечества»[1]. В качестве задачи союза провозглашался принцип: «В патриотических целях нашей партии всеми необходимыми законными средствами, особенно средствами умственной работы, содействовать тому, чтобы цели и средства распространенного по всей стране движения все яснее проникали в самосознание народа»[2]. Эти широкие формулировки были необходимы для того, чтобы объединить в одном союзе всех демократов и либералов как северной, так и южной Германии. Но если мы попытаемся проанализировать конкретное содержание, то станет ясно, что этот первый параграф содержал потенциально опасные положения. В нем было обращение к заявлениям, которые по-разному решали вопрос о центральной власти, даже при том, что они склонялись к признанию руководящей роли Пруссии. Против этого восставали представители южной Германии, прежде всего демократы, которые, в конечном счете, настояли на том, чтобы в уставе вопрос о центратьной власти не упоминался. Однако они не могли выступать против ссылок на два предшествующих заявления, за что особенно ратовали либералы из северогерманских государств. На третьем общем собрании союза либералам удалось еще раз указать на Пруссию в качестве возможного источника центральной власти. В то же время от прусского правительства потребовали деятельно поддерживать интересы Германии «в любом направлении». По вопросу о признании немецких провинций Австрии как «естественных составных частей отечества» резолюция также приобрела двойственный характер. Вряд ли было возможно отделить немецкоговорящие провинции от многонационального государства и поставить их под руководство Пруссии.
Конституционный конфликт в Пруссии чрезвычайно осложнил стремление либералов отстаивать прусскую центральную власть.
Сам председатель союза Р. фон Беннигсен должен был отметить в 1862 г., что этот конфликт делает Пруссию «негодной» для руководства германской политикой. Пятое общее собрание в Эйзенахе хоть и все еще держалось за единую центральную власть, но даже не намекнуло на то государство, которое однажды должно встать во главе Германии. Это собрание постановило, что только немецкий парламент должен решить вопрос о носителе центральной власти. Решению парламента должны подчиниться все партии, сословия и государства[3]. Внутренняя и внешняя политика Пруссии была осуждена. Это была победа демократов и левых либералов, которые резко осудили нарушающую конституцию политику Бисмарка и больше не ожидали от Пруссии никакого либерально-демократического развития, которое было бы связано с достижениями революции 1848 г. После победы Бисмарка под Кенигсгрецем и раскола старой Германии на две части раскололся и Национальный союз. Национал-либералы во всех немецких землях поддержали Бисмарка, а либерал-демократы, среди которых было много настроенных в пользу великогерманского решения южных немцев, пошли своим собственным путем.
Второй пункт, который разделял либералов и демократов в Национальном союзе, — это различное представление о внутреннем устройстве единой Германии. В то время как в центре внимания либералов находилась национальная политика, демократы хотели одновременно с достижением единства обеспечить свободное развитие немецких государств. С первого общего собрания демократы боролись за признание имперской конституции 1849 г. с всеобщим и равным избирательным правом, основными гражданскими правами. Это требование было включено в программу Национального союза резолюцией от 6 октября 1862 г. В 1864 г. это решение подтвердило общее собрание в Эйзенахе. В дальнейшем Национальный союз нацеливал политику всех немецких государств на конституционно-демократическое развитие с той же силой, что и на национальное единение. «Товарищей по союзу» призывали бороться за свободное развитие отдельных государств при помощи действенного использования всех конституционных, законных средств. Одной из важнейших предпосылок свободного развития было всеобщее и равное избирательное право, за которое особенно выступали баварские, вюртембергские, баденские, саксонские и прусские демократы.
На втором общем собрании в Гейдельберге в центре дискуссии находилась военная политика. От имени комиссии Георги из Эслингена сделал доклад, в котором потребовал передать военное руководство в одни руки и добиваться всеобщего вооружения народа путем поддержки спортивных союзов и создания оборонных обществ. В ходе обсуждения либералы отклонили последнее требование. Вопреки им демократы воодушевленно агитировали за введение оборонных обществ. С. Борн, связанный с К. Марксом, призывал со ссылкой на британский корпус волонтеров к созданию подобного корпуса добровольцев в Германии. Это дает представление о более широких претензиях большинства демократов. Очевидно, что корпус добровольцев радикал-демократы хотели бы использовать как инструмент завоевания политической власти в Германии. Ведь именно военные решили судьбы революции в 1848—1849 гг. Даже в Пруссии демократы признавали значение вооруженных сил и поэтому отклоняли роспуск ландвера, где преобладали офицеры из буржуазной среды. Основная идея была правильной, но в 1861 г. было невозможно создание корпуса добровольцев, поскольку такое предложение не могло найти необходимой поддержки в чрезвычайно малой степени политизированном народе, с другой стороны, правительства немецких земель со всей своей военной силой немедленно бы воспрепятствовали реализации подобного плана.
Компромиссным по отношению к обеим крайним позициям — отклонение оборонных обществ либералами и создание корпуса добровольцев, на чем настаивали демократы, — стало предложение Г. В. фон Унру, которое гласило: «Немецкий Национальный союз будет добиваться любыми возможными и допустимыми законом способами создания оборонных союзов в тех государствах Германии, где еще не введена всеобщая воинская обязанность»[4]. Демократ Ф. Штрейт поэтому стал издавать «Газету немецких спортивных и оборонных союзов», которая, как и его «Всеобщая немецкая рабочая газета», представляла национальные и демократические интересы. Эта газета критически полемизировала с Национальным союзом, прусскими прогрессистами и всеми либералами. Она сначала была органом тех оборонных и спортивных союзов, в которых могли собираться многие рабочие и ремесленники, но со временем превратилась в орган стрелковых гильдий, состоявших в большинстве своем из либерально настроенных средних и мелких буржуа. Когда в 1862 г. во Франкфурте состоялись съезды Немецкого стрелкового союза и Немецкого спортивного союза, Шульце-Делич характеризовал оба эти собрания как «предпарламент, который приведет нас к настоящему германскому парламенту»[5]. Свободные и конституционные условия можно было бы внедрить в Германии только тогда, когда «народная армия, состоящая из вооруженного народа, собственно стоит за парламентом»[6]. Создание народных вооруженных сил законными средствами во всех немецких государствах всегда оставалось программным пунктом всех демократов в Национальном союзе.
Некоторые из тех, кто хотел ввести корпус добровольцев, также думали о возможности революции, но подобные намерения отклонялись большинством как демократических, так и либеральных членов союза. Шульце-Делич в беседе с рабочими в Гамбурге говорил, что те, кто ожидают от революции блага для Германии, обманывают себя. М. Мюллер, председатель местного отделения союза в Пфорцхайме, также высказывался против революционных методов. Национальный союз осудил попытку покушения на короля Пруссии, предпринятую студентом из Лейпцига: «Неправда, что в нашем отечестве копает свои подземные ходы тайная партия переворота, предполагая достичь политических целей при помощи баррикад или вероломных убийств… Если бы пуля убийцы поразила сердце короля, то тогда вся немецкая земля была бы осквернена подобным убийством»[7]. Таким образом, Национальный союз выступал только за законные средства политической деятельности.
Значительное большинство Национального союза согласилось со сбором денег для строительства германского флота, поскольку поддерживало точку зрения, что он совершенно необходим для.
«самостоятельности, силы и величия» страны и для общего материального блага. Собранные деньги союз передавал прусскому военно-морскому министерству. Четвертый пункт постановления общего собрания союза от 24 августа 1861 г. гласил: «Деньги должны быть употреблены для строительства кораблей, необходимых для защиты немецкого североморского и балтийского побережий в составе прусского военно-морского флота»[8]. Против такого решения протестовали демократы из южной Германии, которые вовсе не желали усиления Пруссии как великой державы. Уже к началу конституционного конфликта в Пруссии комитет Национального союза приостановил платежи в Берлин. Демократы смогли тогда убедить последовательных либералов в том, что Пруссия не была достойным адресатом получения флотских денег.
Национальный союз был создан как первая массовая политическая организация в Германии: на момент его появления в 1859 г. в границах Германского союза не было ничего подобного. Сначала дискутировался вопрос, в какой форме должны объединиться национально мыслящие представители всех германских государств. На первый план вышли три предложения: учреждение тайного союза, создание «объединения патриотически настроенных людей, собирающегося каждый раз в различных частях Германии», или образование «открытого союза»[9]. Инициатива создания тайного общества исходила от герцога Эрнста II Саксен-Кобург-Готского, который представил свой план 9 сентября 1859 г. Беннигсену, Шульце-Деличу, фон Унру и некоторым другим участникам франкфуртского Учредительного собрания. Он выступал за тайный союз с жесточайшей дисциплиной, разделенный на мелкие группы, которые могли бы поддерживать связь между собой только через доверенных лиц, а во главе всей организации должен был встать высокопоставленный и весьма влиятельный руководитель, указания которого должны были неукоснительно выполняться, — вероятно, честолюбивый герцог думал о себе самом. Беннигсен, фон Унру и Шульце-Делич решительно отвергли такое предложение. Фон Унру считал тайный союз подходящим только против иноземных угнетателей[10].
Шульце-Делич стремился действовать в рамках закона, отвергал конспирацию и высказывался за открытый союз, который должен был «демонстрировать моральную силу». Он решительно требовал создания союза, хотя власти Франкфурта-на-Майне стремились этому воспрепятствовать. В такой ситуации не было ничего необычного, поскольку постановление Союзного собрания от 13 июля 1854 г. (так называемый Закон о союзах) закрепляло регулирующие функции в этой сфере за отдельными союзными государствами. На Учредительном собрании Шульце-Делич прокомментировал закон и обратил внимание на различные условия, существовавшие в германских государствах. Во Франкфурте-наМайне разрешение на создание союза зависело от особой санкции (концессии) властей, в предоставлении которой они могли отказать без объяснения причин. В то же время в Пруссии и Саксонии концессии не требовалось, вместо этого власти требовали предоставить учредительный устав и списки членов организации.
Серьезное сопротивление созданию союза оказали вюртембергские либералы, так как считали неприемлемой централизованную структуру и предлагали создать федералистскую организацию без жестких рамок. Комитет Национального союза отвечал вюртембержцам, что прочная организация союза совершенно необходима для улучшения контактов между политиками из всех германских государств. В конце концов, было принято предложение ШульцеДелича о создании открытого союза.
После того как были решены предварительные вопросы, речь зашла о подходящем месте пребывания руководства союза. Во Франкфурте-на-Майне, где союзу было отказано в концессии, не на что было надеяться. Чтобы защитить национальное движение от новых неприятностей, нужно было искусно и осторожно подходить к выбору государства и города, где союз должен был найти пристанище. Пришлось еще раз изучить законы отдельных немецких государств. Шульце-Делич предложил фон Унру в соответствии со сведениями, полученными от властей и после изучения Веймарского закона о союзах, избрать местом пребывания город Эйзенах. Наряду с ним обсуждались также Веймар, Кобург и Гота. Берлин с самого начала был исключен, поскольку южиогерманские либералы не питали теплых чувств к Пруссии и могли немедленно высказаться против. После проверки закона о союзах речь также не заходила о Веймаре и Эйзенахе, поскольку там разрешение на пребывание полностью находилось в руках административных властей. Выбор оставался между Кобургом и Готой. Представители южной Германии отклонили Готу, поскольку там в июне 1849 г. местные депутаты франкфуртского парламента составили имперскую партию, поддержали политику Пруссии, направленную на создание германской унии, и побуждали Пруссию не принимать имперскую конституцию, выработанную франкфуртским парламентом. Не только «genius loci» (дух места) говорил против Готы, но и близость к герцогу, от которого либералы не хотели зависеть. В конечном счете «почти единогласно» комитет Национального союза принял решение в пользу Кобурга, хотя было известно, что герцог, но различным соображениям согласился с этим весьма неохотно. Он опасался передачи управления делами союза в руки Ф. Штрейта, который состоял в должности городского судьи и за свою демократическую публицистику заслужил нелюбовь герцога. Штрейт все-таки стал управляющим делами, а герцог остался покровителем союза44.
Организация немецкого Национального союза регулировалась Уставом и приложением к нему. В соответствии с этими документами во главе союза находились правление и комитет. Решения каждого органа проводились в жизнь через управляющего делами и секретаря. Они руководили работой центральных органов в Кобурге и через уполномоченных лиц поддерживали связь с членами союза в отдельных немецких государствах. Основные направления политики союза определяло созываемое раз в год общее собрание, которое также выбирало комитет.
Правление первоначально не предусматривалось. Третий параграф Устава, принятого на Учредительном собрании во Франкфуртена-Майне, предполагай создание только комитета. Однако в октябре 1859 г. Шульце-Делич провел изменения в Устав. По его предложению было создано правление в составе трех человек: председателя Р. фон Беннигсена, сопредседателя юриста и председателя городского совета Веймара Г. Ф. Фриза и управляющего делами Ф. Штрейта. Правление собиралось как минимум раз в месяц.[11]
Беннигсен однажды даже публично заявил: он так загружен, что вынужден все свое время отдавать деятельности в союзе. Поскольку и управляющий делами преимущественно работал на союз, можно считать, что им руководили два профессиональных политика. Для Германии того времени это было необычно, так как для подавляющего большинства политическая активность сочеталась с государственной службой или другой профессиональной деятельностью. К августу 1861 г. число членов правления выросло до пяти человек. Там стали заседать также Г. Шульце-Делич и профессор-правовед, депутат нижней палаты вюртембергского ландтага А. Л. Рейшер. Правление заседало в различных местах. Например, 8 мая 1862 г. во Франкфурте-на-Майне члены правления участвовали в процедуре объединения газет «Время» и «Южногерманская газета» и одновременно провели там свое заседание. Поскольку члены правления происходили из разных регионов северной, центральной и южной Германии, им постоянно приходилось искать удобное для всех место встречи.
В дополнении к Уставу были утверждены задачи правления. Оно руководило центральными органами союза и представляло собой орган, «через который комитет поддерживал связь с членами союза, поэтому все предложения и запросы по делам союза направляются в правление»[12]. Во всех своих решениях и действиях правление должно было давать отчет комитету, а решения правления требовали согласия членов комитета. Таким образом, контрольным органом по отношению к правлению был комитет, который избирался общим собранием. По Уставу он состоял из 12 человек. Однако он был уполномочен в случае необходимости кооптировать новых членов. Этим правом комитет активно пользовался. Согласно опубликованным избирательным бюллетеням первого общего собрания союза от 1860 г. в комитете состояло 26 человек, таким образом, его численность более чем удвоилась всего за один год. В августе 1861 г. в комитет входило 22 человека, в 1862 г. — 25, а к концу деятельности союза по состоянию на 24 января 1866 г. — 19 человек[13]. Выборы комитета, который постоянно расширялся за счет кооптации, проходили следующим образом.
Правление представляло общему собранию список всех членов комитета, включая кооптированных. Из предложенных кандидатур каждый делегат мог выбрать в новый состав комитета двенадцать человек. Если члены союза хотели быть избранными в комитет, они могли вычеркнуть из списка одного кандидата и внести имя нового с указанием его социального положения и места жительства. Но вновь избранный должен был происходить из той же провинции, из которой был исключенный член комитета. Таким образом, в комитете были представлены либеральные политики из большинства немецких государств.
В 1860 г. голосование дало следующие результаты: в избирательный бюллетень было внесено 23 кандидата, из них 12 было переизбрано, таким образом, ни один новый человек в комитет не вошел. Голоса общего собрания распределились следующим образом: 238 — Беннигсен, 230 — Метц, 229 — Штрейт, 224 — Фриз, 212 — Братер, 211 — Кремер фон Дос, 205 — Шульце-Делич, 189 — фон Унру, 185 — фон Рохау, 163 — Рейшер, 156 — Мюллер из Франкфурта, 127 — Майер из Лейпцига[14]. Примечательно, что лучшие результаты получили трое членов правления, в то время как оба представителя 11руссии оказались только на седьмом и восьмом местах. В комитете были представлены Ганновер, Гессен-Дармштадт, Саксен-Кобург, Веймар, Бавария, Пруссия, Вюртемберг, Франкфурт-на-Майне и Саксония. Не были избраны ранее представленные в комитете политики из Нассау, Шлезвиг-Гольштейна, Гамбурга и Ольденбурга. Однако они могли быть вновь включены в состав комитета путем кооптации. Вообще это право снижало ценность выборов, и даже наличие самого списка кандидатов уже оказывало значительное влияние на процесс голосования. Такой порядок облегчал однажды избранным представителям руководящего слоя перевыборы и в то же время обеспечивал преемственность руководства.
Избранный комитет согласно Уставу имел право «самостоятельно распределять различные обязанности среди своих членов», «созывать новые собрания, распоряжаться в интересах союза деньгами, поступающими в кассу союза… переносить в другое место заседание союза в случае необходимости»[15]. Одной из самых важных задач комитета было утверждение полномочных представителей союза в отдельных государствах и городах. В дополнении к Уставу значилось: «В каждый населенный пункт и регион комитет назначает людей, которые собирают взносы и пересылают деньги правлению в Кобург»[16]. В этом отчетливо проявился централизованный характер союза, что уже было очевидно современникам. На общем собрании союза в 1864 г. прозвучал целый ряд предложений об изменении организации. Так, делегаты из Дрездена добивались, чтобы комитет высылал свои предложения на места за 14 дней до общего собрания, чтобы местные ячейки могли исчерпывающим образом их обсудить и направить на общее собрание компетентных представителей. Однако это предложение натолкнулось на жесткое сопротивление со стороны Шульце-Делича, который все предложения хотел ставить только в ходе заседаний, поскольку стремился придерживаться средней линии между различными и порой взаимно противоположными стремлениями. Комитет крепко держал вожжи управления союзом в руках[17]. Чтобы справиться со своими задачами, комитет заседал каждые два-три месяца в различных городах Германии. Все публикации, листовки и инструкции союза имели одну и ту же подпись — «Комитет немецкого Национального союза, председатель фон Беннигсен».
Для проведения агитации и организации финансов, созыва собрания и заседаний союза в Кобурге было учреждено центральное бюро, где работало восемь человек. Этим бюро руководил управляющий делами, который избирался комитетом и одновременно являлся членом правления. Он был обязан представлять руководящим органам отчет об управлении союзом. Он вел корреспонденцию, распоряжался кассой, распространял агитационные материалы и руководил еженедельником Национального союза. Как гласил пятый пункт дополнения к Уставу: «Все письма и послания должны были направляться управляющему делами». Чтобы успешно решать эти задачи, управляющий делами имел секретаря, который по его предложению назначался правлением. Секретарь был обязан по поручению управляющего делами оказывать ему поддержку во всех делах, например, при руководстве прессой союза, особенно отбором сообщений с мест для редакции еженедельника. Секретарь замещал управляющего делами в его отсутствие «как в общении с членами союза, так и со вспомогательным персоналом». Первый секретарь союза был назначен 1 июля 1861 г. Это был К. Готбург из Гейдельберга. По договору между Штрейтом и Готбургом жалованье секретаря составляло тысячу рейнских гульденов в год. Наряду с секретарем управляющему делами подчинялся вспомогательный персонал: бухгалтер, экспедитор и помощник экспедитора. Полную ответственность за работу секретариата нес управляющий делами. Он имел право назначать, увольнять и сокращать сотрудников[18]. Для того времени это была хорошо организованная и эффективная политическая организация.
Основные задачи политической деятельности определяло общее собрание, в котором имели право принимать участие все члены Национального союза. Оно проходило раз в год и каждый раз в новом месте. Годовое собрание избирало комитет союза и принимало решения, которые в основном касались актуальных политических проблем, как, например, центральной власти в Германии, австрийских предложений по реформе Германского союза или шлезвиггольштейнскому вопросу. Состав общего собрания всегда зависел от места заседания и личной инициативы членов союза, поэтому постоянно менялся. При голосовании решающее значение имело число представленных делегатов. В связи с этим обстоятельством во избежание возможных проблем на общем собрании 1864 г. в Эйзенахе делегаты от Карлсруэ предложили «голосовать не по числу наличных делегатов, а совокупным голосованием на основе представительства местных отделений союза»[19]. Это предложение было отклонено собранием после того, как Шульце-Делич предупредил, что таким образом «можно легко прийти к столкновению с существующим законом о союзах, кроме того, как на общем собрании акционерного общества отдельные круги могут поставить голоса собрания на службу интересам меньшинства, равным образом и в Национальном союзе может проводиться такого рода мелкодержавная политика»[6]. Шульце-Делич отчасти был прав, поскольку дочерние союзы были запрещены союзным постановлением. С другой стороны, политическая практика показывает, что вопреки жестким предписаниям закона возникали местные и региональные организации, которые провозглашали себя подразделениями немецкого Национального союза или фактически играли эту роль. Отказ от предложения представителей Карлсруэ и случайный состав общего собрания обеспечивал преобладающее влияние руководящих органов — комитета и правления при определении политики союза.
Всякий желающий участвовать в общем собрании должен был предъявить доказательства своего членства. Член союза должен был подписать Устав и аккуратно выплачивать ежегодный взнос, который не мог быть ниже одного гульдена сорока пяти крейцеров. Эта сумма была слишком высока для большинства рабочих, которые таким образом фактически были исключены из деятельности союза. Но поскольку многие из них хотели стать его членами, то протестовали и требовали снижения ставки взноса. На общем собрании союза в Лейпциге 3 января 1863 г. Шульце-Делич вынужден был уделить внимание этой проблеме. Он признал, что не каждый рабочий способен заплатить такую сумму, поскольку уже взнос в кассу рабочего союза сильно бьет по его карману. Он поставил вопрос: что же делать рабочим в этом случае? Сформулированный им ответ фактически побуждал рабочих к разрыву с прогрессистами и национальным движением: «Если рабочий спрашивает меня, куда ему вступить в первую очередь, в рабочий или в Национальный союз, я отвечаю: мой дорогой друг, ты послужишь национальному делу гораздо лучше, если сначала задумаешься об улучшении своего материального положения, так как ничто так хорошо не поддержит наше национальное дело, как рост благосостояния рабочих. Если ты хочешь чего-то еще — мы примем тебя с распростертыми объятиями, но сначала думай о себе и добейся для начала известного уровня благосостояния, а также улучши свое образование. Чему помогут все политические права, если я не достиг хотя бы скромного благополучия? Вся демократия только слова, если она не заботится о том, чтобы рабочие могли участвовать в политике. Но рабочий, который на самом деле живет так скверно, что перебивается только с хлеба на квас, имеет ли он достаточно времени и духа, чтобы проявить заботу об общественных делах? Нет! Правда, нет, насущная потребность — это освобождение от нужды. Это действительно большая национальная задача для каждого друга народа и Германии в целом. И прав рабочий, который употребляет на это свои сбережения, я приветствую здесь таких от имени комитета как сочувствующих членов, как почетных членов Национального союза»[21].
Однако эта речь не устранила проблему. В октябре 1864 г. на общем собрании в Эйзенахе дело дошло до острой дискуссии после того, как делегат из Карлсруэ, поддержанный коллегой Вартенбургом из Геры, предложил снизить ежегодный взнос, чтобы дать возможность рабочим массам вступать в союз и отвести упреки в том, что он представляет только интересы имущих слоев населения. Шульце-Делич решительно отклонил это предложение. На упрек со стороны Вартенбурга, что в Национальном союзе больше думают не о людях, а о талерах, Шульце-Делич смело ответил: «Я совершенно решительно признаю, что являюсь охотником за талерами». Он и без того считал взносы весьма низкими и опасался оскудения союзной кассы. Кроме того, он отметил, что не отсутствие таперов смущает рабочих, а то, что они должны их однажды заплатить. Управляющий делами дал своим агентам на местах распоряжение собирать взносы с рабочих равными долями помесячно, в то время как другие члены союза вносили деньги в кассу четыре раза в год. В своей речи он, однако, должен был признать, что проблема не имеет универсального решения, поскольку для многих порядочных и честных рабочих, которые сердцем с национальным делом, этот взнос, даже поделенный на части, остается еще слишком высоким. Таким образом, он еще раз повторил совет, данный рабочим в Лейпциге в январе 1863 г.: сначала при помощи образования и благосостояния выбраться из нужды, а затем приобрести средства, необходимые для занятия политикой. Он стремился всячески подчеркнуть свою готовность к поддержке рабочих. В частности, напомнил собранию о том, что в 1862 г. союз выделил большие суммы, чтобы послать рабочих на индустриальную выставку в Лондон. В августе 1865 г. он позаботился о том, чтобы Союз просвещения рабочих в Лейпциге получил от Национального союза 200 гульденов[22]. Аргументация Шульце-Делича была воспринята, собрание отклонило предложение депутата из Карлсруэ. Это решение способствовало отдалению средних слоев и рабочих друг от друга и, в конечном счете, стало одним из факторов политической самоорганизации рабочего движения в Германии.
Итак, кто поставил подпись под Уставом и платил членские взносы, получал членскую карточку. Сначала на зеленой, а с осени.
1861 г. на красной членской карточке величиной с почтовую открытку на лицевой стороне значилось: «Немецкий Национальный союз в Кобурге», фамилия, имя, место жительства и профессия члена, который подтвердил свое поступление в немецкий Национальный союз путем подписания Устава и уплаты своего ежегодного взноса. Ниже следовала подпись: «Беннигсен». Вверху справа стоял номер членской карты. На оборотной стороне был напечатан Устав союза и перечислены имена, профессии и места жительства членов комитета16. Число членов союза быстро увеличивалось. В сентябре 1860 г. в союзе числилось свыше 5 тыс. членов, в октябре 1861 г. речь шла уже о 20 тыс. Из них большинство — 7 тыс. — представляли прусские провинции (Вестфалия — 2 065, Рейнская область — 1 161, Бранденбурге Берлином — 1180, Саксония — 909, Восточная Пруссия — 791, Померания — 385, Позен — 341, Западная Пруссия — 336, Силезия — 293 человека). Из других государств Германского союза значительное представительство имели Гессен-Дармштадт — 937, Баден — 714, Нассау — 513 человек17.
В 1862 г. число членов союза вновь стремительно выросло. Дельбрюк послал в Кобург из Берлина телеграмму от 27 февраля.
1862 г. с вопросом: «Могу ли я ожидать получения заказанных 1 000 карточек в субботу?»[23][24][25] Наивысшая численность членов, судя по поступлению членских взносов, была достигнута в 1863 г., в период борьбы Шульце-Делича с Лассалем за рабочие массы. Прогрессисте кая партия в Пруссии одержала в этой борьбе убедительную победу, повсеместно в немецких государствах возникли либеральные партии прогрессистов. С внутриполитической точки зрения 1863 г. для Германии был самым динамичным в промежутке между 1858 и 1866 гг. Национальный союз объединял тогда, по меньшей мере, 30 тыс. человек. Даже если считать, что большинство членов внесли лишь минимальный взнос в размере 1 гульдена 45 крейцеров, то союз получил в 1863 г. 55 117 гульденов[26]. Таким образом, численность членов союза скорее выше, чем ниже названной цифры.
Наряду с членскими взносами поступали и многочисленные пожертвования. Сразу после его основания ганноверский фабрикант Г. Эгесторф пожертвовал полторы тысячи талеров, которые он непосредственно передал Беннигсену, поскольку при официальном вступлении в Национальный союз вынужден был заявить о банкротстве своего зависимого от ганноверского правительства предприятия[27]. В 1861 г. некто «патриот» пожертвовал 500 талеров. Только пожертвований, сделанных при основании союза, было достаточно, чтобы покрыть расходы членов правления и комитета. Если проследить динамику доходов Национального союза до его роспуска (в 1860 г. было учтено 16 550 гульденов, в 1861 — 37 021, в 1862 — 48 155, в 1863 — 55 117, в 1864 — 37 021, в 1865 — 19 352, в 1866 — 12 022, в 1867 — 5 727), то непонятно, почему Шульце-Делич выступал против снижения взносов для рабочих[28]. Сумм из кассы союза вполне хватало для обеспечения его деятельности. Например, типография в Хильдбургхаузене напечатала тысячу экземпляров Устава Национального союза всего за 5 гульденов 14 крейцеров, а за издание 2 тыс. экземпляров Устава и 1 тыс. листовок просила всего 45,5 гульдена[29]. Даже если учесть высокие персональные расходы руководства и траты, связанные с проведением собраний, этих сумм было вполне достаточно. О том, что в период с 1861 по 1864 г. имелся даже избыток средств, свидетельствует передача в 1861 г. 10 тыс. гульденов из средств союза на строительство германского флота. Судя по этим возможностям, членский взнос для рабочих мог быть понижен. Однако очевидно, что подобное мероприятие было не вполне желательно для руководства союза, хотя рабочие могли бы своими скромными взносами даже увеличить его доходы. Наконец, такое решение могло бы предотвратить раскол между рабочим классом и буржуазией и сделать возможным создание единого движения против политической реакции.
Достаточно активно развивались региональные объединения и местные отделения немецкого Национального союза. Уже 4 сентября 1861 г. «Вестфальская газета» заметила, что члены комитета Национального союза «должны принимать участие в большом количестве местных и провинциальных собраний»[30]. Эти многочисленные собрания союза проводились для того, чтобы поддерживать постоянные связи между единомышленниками, побуждать сочувствующих к вступлению в союз и обсуждать те задачи, которые «представители определенного государства, провинции или города способны решать на общей основе программы союза»[6]. На втором общем собрании докладчик комитета отметил, что повсеместно обнаруживаются стремления «местных собраний инициировать новые или обновленные направления деятельности союза». Он настоятельно просил группы членов союза «строго оставаться в рамках программы» и «следовать импульсам, исходящим от центральных органов союза — общего собрания, комитета и правления»[32]. Из этого ясно, что национальное движение побуждало союз декларировать особые политические цели. Речь не шла только лишь о национальном объединении. Под председательством М. Мюллера довольно хорошо организованное местное отделение союза в Пфорцхайме, где в 1861 г. числилось 300 человек, на своих ежемесячных собраниях не ограничивалось обсуждением политических вопросов, но также проявляло заботу о «различных интересах современного умственного развития»[33]. В программе собраний стояли, например, такие доклады: «Пессимизм и материализм в народе и развитие идеальных элементов», «Гете и его национальное значение».
Можно сказать, это отделение союза представляло собой определенного рода просветительское общество. Отделение союза в городе Люденшейд раз в месяц собиралось для обсуждения «общегерманских и отдельно прусских дел», а также проводило дискуссии по вопросам общественной пользы[34]. Отделение союза в Арнсберге поставило перед собой задачу воспитывать в своих членах гражданскую сознательность. Шульце-Делич даже отметил, что развитие и просвещение рабочих является первой обязанностью Национального союза[35]. В этой связи представляется, что было бы неверно рассматривать союз только как политическое объединение для достижения германского единства. Национальные проблемы дали импульс его развитию, но на местах он вел деятельность намного шире, чем просто политическую и просветительскую. Отделения союзов в некоторых местах достигли такого уровня, что наряду с вышеназванными задачами пытались также влиять на исход выборов. В предвыборной борьбе они сотрудничали с прогрессистами во всех немецких государствах. Отделение союза в Арнсберге высказывало мнение, что сильная организация может получить преобладающее влияние па выборах и, таким образом, победа национального движения станет сама собой разумеющейся[36]. В городе Везсль отделение союза в 1862 г. опубликовало «предвыборную программу местных членов Национального союза» к выборам в прусскую палату представителей. В трех пунктах программы сообщалось, каких депутатов они хотели бы избрать: они не должны были «принадлежать к экстремистским партиям ни в политическом, ни в конфессиональном смысле». Но приветствовалось стремление к «умеренному прогрессу в либеральном смысле»[37]. Это означало придерживаться конституционных взглядов и в мирное время добиваться того, чтобы военные расходы соответствовали способности подданных платить налоги.
Подобные призывы буквально следовали программе Немецкой прогрессистской партии, которая распространялась с 6 июня 1861 г. по инициативе ее Центрального комитета. Эту программу в качестве своей предвыборной принял также Национальный союз в Инстербурге. Однако чтобы не провоцировать государственные власти, местное отделение постановило, что осуществление этой программы — всего лишь личное дело каждого из членов союза[38].
Местные отделения, которые сами не участвовали в выборах, привлекались к ним по инициативе центральных органов союза в Кобурге. В одном из циркуляров активистам союза значилось: «При выборах в прусскую палату представителей настоятельная обязанность членов нашего союза посильно содействовать при проведении выборов на местах, чтобы в прусскую палату представителей попали национально мыслящие люди»[39]. Также во время сессий парламентов Национальный союз пытался оказывать на них влияние. В распечатанной инструкции 1862 г. (большинство инструкций были рукописными, напечатанный текст означал, что ему придавалось большое значение и он предназначался для широкого распространения) управляющий делами союза запрашивал активистов, «сколько экземпляров брошюры о нынешнем состоянии вооруженных сил необходимо для распространения среди членов законодательных собраний ваших земель»[40]. Контакт с парламентариями устанавливался достаточно легко, так как члены союза были представлены в ландтагах всех германских государств.
То, что местные организации не были просто комитетами для созыва собраний с целью демонстрации национального единства, показывает пример Устава отделения Национального союза в Люденшейде (январь 1861 г.), состоящего из пяти параграфов. Первый параграф проекта Устава гласил: «Проживающие в городе и сельской общине Люденшейд, вступившие в Национальный союз, согласно Уставу члены образуют дочерний союз Люденшейда»[41]. Впоследствии фраза «дочерний союз» была вымарана из-за опасения проблем с властями, поскольку согласно закону дочерние союзы были запрещены. Вместо вычеркнутых слов была вставлена фраза «немецкий Национальный союз», так что в конце параграфа значилось: «…образуют немецкий Национальный союз Люденшейда». На практике же это ничего не меняло. Тактика местных отделений была достаточно хороша, чтобы убеждать полицейские власти в формальном отсутствии дочерних союзов.
Об этом свидетельствует случай в Инстербурге. Там в августе 1861 г. бургомистр потребовал от местного отделения Национального союза направить полицейским властям Устав и список членов, но местное отделение не поддалось на эту тонкую уловку Бургомистру предложили по этому делу обратиться в Кобург, где он мог бы узнать имена членов союза из родного города[42]. Местные полицейские власти обратились с этим случаем к министру внутренних дел. В своем ответе министр сообщил, что назначит проверку для выяснения, относится ли этот случай к сфере применения Закона о союзах. Не могли быть запрещены собрания, на которых обсуждались публичные вопросы, сообщал министр, но члены Национального союза совершали подсудное деяние, «если они вступили в особый местный союз». Министр должен был отметить, что «границы между подобными местными союзами и регулярными собраниями членов любого союза провести очень тяжело, и при недостатке общих критериев решение должно выноситься в каждом конкретном случае с учетом особых обстоятельств». Но решение может выносить только суд. В случае с Инстербургом министр советовал при существующих обстоятельствах пристально наблюдать за положением дел. Судом было сделано определение, что подобные собрания не могут рассматриваться как деятельность дочернего союза. Это был образчик бюрократической изворотливости либерально-консервативного министра.
В действительности все же речь шла именно о дочернем союзе, что отчетливо показывает третий параграф Устава союза в Люденшейде. Согласно ему во главе союза стояло правление из семи человек, которое ведало делами союза, готовило заседания и поддерживало связь с комитетом немецкого Национального союза. Собрание избирало правление простым большинством голосов на один год. Из своей среды правление назначало председателя, секретаря и казначея. Заседания союза были публичными, повестка дня должна была публиковаться в местной ежедневной газете[43]. Отделение союза в Пфорцхайме было организовано подобным образом, только вместо правления там был комитет, во главе которого стоял весьма усердный председатель М. Мюллер. Одно из его распоряжений гласило: «Кто желает вступить, должен обратиться к производителю бижутерии Й. Марольду, у которого находится подписной лист. При получении членской карточки, как правило, необходимо внести один талер»[44].
Надрегиональных организаций, например, на уровне отдельного союзного государства, практически не существовало. Известно только о собраниях, в которых принимали участие члены Национального союза одного союзного государства, которые созывались по инициативе ведущих политиков, чаще всего депутатов местных парламентов. Так, например, 18 января 1861 г. состоялось собрание членов Национального союза Гольштейна в Киле[45]. Это собрание и принятые там политические заявления стали основанием для запрета Национального союза в Гольштейне и Лауэнбурге. Многочисленные запреты, придирки и преследования создавали препятствия для расширения организации и агитации, особенно плохо обстояли дела у приверженцев Национального союза в Гессене и королевстве Ганновер. В Гессене они боролись против «врага Пруссии» и «врага свободных национальных устремлений» министра-президента Р. фон Дальвига. Сразу после создания Национального союза правительство Гессен-Дармштадта провело дисциплинарное расследование и добивалось тюремного заключения членов союза. Дармштадтские адвокаты Надворного суда К. Гофман и А. Мец, которых называли «душами нового либерального движения в Гессене», успешно защищали себя в суде и избежали уголовного наказания[46]. В январе 1860 г. был конфискован 52-й номер «Гессенской утренней газеты», которая под редакцией Ф. Эгкера из Касселя осторожно распространяла информацию о важности Национального союза. За это газета была осуждена Криминальным сенатом Верховного суда, который постановил, что она получит разрешение на выход только, если откажется от поддержки союза, который получил регистрацию в другом союзном государстве, а правительство Гессена не обязано «следить за имеющей место пребывания на территории другого союзного государс тва организации»[47].
Власти пытались проводить обыски даже у немцев с американским гражданством, поддерживавших программу Национального союза[48]. Самым известным случаем стал процесс против 109 (!) жителей Оффенбаха: торговцев, фабрикантов, одиннадцати советников местного уровня и даже одного городского судьи, которые вступили в Национальный союз. В письме на имя Великого герцога они заявили, что хотели бы предотвратить революцию путем своевременных реформ. Национальный союз никогда не позволял себе нарушать покой и порядок. Он против демагогии, анархии и атеизма. Постановление суда во многом объясняется пробелами в законодательстве. В конце подсудимые начали собственное следствие, которое оказалось ненужным, поскольку Великий герцог в 1861 г. отменил приговор[49]. Это была победа либералов. Р. фон Дальвиг пытался противодействовать Национальному союзу на уровне Германского союза. Однако зимой 1861 г. Союзное собрание отклонило его требование запретить деятельность союза. В созданной для разбора этого дела комиссии по расследованию решающую роль сыграли представители Пруссии, которые высказались против запрета союза[50]. Несмотря на дальнейшие происки, Национальный союз увеличивался численно, поскольку многие немцы испытывали неприязнь к «мелкодержавному реакционному господству». Даже событие, которое имело место в мае 1861 г. в Гессене и вызвало большое брожение умов, когда полиция, жандармы и линейные войска разогнали посетителей трактира, среди которых был адвокат Мец, проводивший там тайное собрание, не могло помешать расширению национального движения.
В королевстве Ганновер министр внутренних дел В. фон Ворье преследовал Национальный союз по любому поводу с момента его основания. Он ощущал особую угрозу со стороны крупного землевладельца Р. фон Беннигсена, главы оппозиции во второй палате Ганноверского сословного собрания и руководителя немецкого Национального союза. В распоряжении от 31 октября 1859 г., направленном всем органам власти и полиции королевства, министр предупреждал о «революционных устремлениях союза», которые представляют серьезную опасность для общественного порядка и спокойствия, так как направлены на организацию толп для устранения «самостоятельных прав отдельных немецких монархов и их народов». Министр приказал властям «строго следить за деятельностью комитета союза, а также отдельных единомышленников каждого члена этого комитета, особенно за деятельностью, направленной на расширение союза в нашем королевстве, и в этой связи докладывать сведения о результатах наблюдений и о проведении необходимых мероприятий»[51].
Двумя годами позднее язык правительства стал еще более жестким. Чтобы добиться обвинения национально мыслящих либералов, их стали связывать с коммунистами: «Пустой либерализм в свойственной ему переоценке самого себя забыл, что за его спиной стоит совершенно другая радикальная партия, которая, как только либерализм перестанет ей быть нужным — сразу устранит его. За либералами теснятся демократы, а за демократами — социалисты и коммунисты»[52]. Они работают, по мысли министра, вместе с итальянцами, французами и поляками ради изгнания немецких князей. Уже можно представить, что затем должно случиться с правительствами и правящим классом: «…будут вскрыты и розданы правительственные кассы, сундуки богатых и земли крестьян»[6]. Этот страх правительства перед либералами из Национального союза был не вполне обоснован, так как именно либералы из Ганновера, такие как Беннигсен и Микель, которые в 1868 г. присоединились к прусским национал-либералам, были уже готовы после некоторых уступок поддержать консервативное правительство. Если бы правительство Ганновера проявило сочувствие к объединительным стремлениям либералов, то тогда было бы возможно взаимопонимание между ними.
Наряду с бдительным наблюдением правительство проводило конкретные мероприятия против членов Национального союза. Так как на законных основаниях союз невозможно было запретить, все подписанты Франкфуртского воззвания из Ганновера были занесены в черную книгу. В отношении них последовало распоряжение, чтобы их «не принимали во внимание при увеличении жалованья, повышения по службе, приеме на работу, а также не допускали никаких успехов и изменений к лучшему; все это до тех пор, пока сохраняется подобного рода ситуация и эти ограничения не будут отменены до возможного роспуска союза»[54]. Несмотря на все эти интриги, Национальный союз приобретал все больше сторонников. Именно из него образовалась, в конце концов, Ганноверская прогрессистская партия, которая восприняла национал-либеральную программу и в 1866 г. присоединилась к прусской Национал-либеральной партии. Р. фон Беннигсен эволюционировал от председателя Национального союза к первому политику Национал-либеральной партии в северной Германии, и уже в прусской провинции Ганновер завоевал для своей партии почти все избирательные округа.
В Мекленбурге, Саксонии, Бадене и Вюртемберге члены Национального союза в глазах местных властей также проходили по категории «нелюбимчиков». Для своих преследуемых властями соратников в Пруссии, которые во время конституционного конфликта потеряли работу и лишились денежного дохода, либералы и демократы основали «национальный фонд», в котором сначала участвовали только члены Национального союза, но впоследствии к нему присоединилась Немецкая прогрессистская партия. Уже вскоре после создания фонд располагал более чем 100 тыс. талеров. Пожертвования шли не только из Пруссии, но и из южногерманских государств. В то время как Упру подчеркивал, что при помощи средств из этого фонда многим удалось избежать нужды, один из демократов жаловался в 1866 г. на недостаток средств, которых не хватило, даже чтобы соразмерно компенсировать убытки уволенному со службы высокопоставленному чиновнику. Следствием было то, что предложили выплачивать компенсацию только за реально политическое преследование, а не за приговоры по судебному решению вследствие нарушений существующего законодательства. Когда в 1867 г. национал-либералы окончательно отделились от Немецкой про гресс и стекой партии и начали создавать собственную политическую организацию, фонд был разделен между обеими партиями. Из имевшихся в кассе 10 тыс. талеров демократы и либералы получили поровну. Национал-либералы хотели использовать свою долю для поддержки печатного органа партии — газеты «Берлинская реформа». Как впоследствии писал в своих воспоминаниях Унру, последние остатки средств фонда были распределены в 1876 г. «между теми, кому не удалось добиться нового места в жизни»[55].
Организация немецкого Национального союза стала фундаментом для создания либеральных и демократических партий во всех немецких государствах. На это указывает пример многочисленных отделений Национального союза, которые распространились по всей Германии, а также персональная преемственность между руководством союза и руководством новых партий.
Во главе Национального союза стояли либерал Р. фон Беннигсен и демократ Ф. Штрейт. В то время как один был председателем союза и исполнял представительские функции, другой в качестве управляющего делами и члена правления решал организационные вопросы. Эти личности и их деятельность наложили отпечаток на весь союз. Обе эти фигуры играют ключевую роль для понимания либерально-демократического движения в Германии.
Рудольф фон Беннигсен (1824−1902), выходец из старого ганноверского дворянского рода, родился 10 июля 1824 г. в Люнебурге, учился в гимназиях Люнебурга и Ганновера, причем демонстрировал выдающиеся успехи, чаще всего был первым учеником класса. В свободное время много читал, особенно охотно заучивал наизусть стихотворения Шиллера. Был молчалив, отличался тактичностью и ярко выраженным чувством справедливости. В 16 лет предпринял попытку самоубийства по неясным причинам[56]. В 1842 г. получил аттестат зрелости и поступил в Геттингенский университет, чтобы изучать там юриспруденцию. У профессора Рошера слушал курсы истории права и национальной экономики. Одновременно с началом обучения вступил в студенческую корпорацию ганноверцев, где за десять лет до него состоял Бисмарк.
Как и Бисмарк, Беннигсен был набран главой корпорации. На протяжении всего студенчества Беннигсен настолько активно участвовал в общественной жизни, что это даже периодически мешало его обучению. В Гейдельберге, где он продолжил обучение с 1843 г., он вступил в корпорацию «Вандалия», где господствовали следующие принципы: «практические и энергичные действия… без всякого теоретизирования и схематичности, твердое следование единожды принятому намерению, решительный взгляд вперед без оглядки назад, непобедимое веселье, верное братство, соединенное с выраженной обособленностью»[57]. И эта корпорация вскоре выбрала его своим главой. Биограф Бепнигсена Г. Опкен в этой связи заметил: «Личность и внешний облик стояли для него на первом месте, поскольку он имел самообладание, твердость и владел словом, руководящая роль далась ему рано и без труда, как впоследствии также в политической деятельности»[58]. В университете он увлекся Шлоссером, Гервинусом и Миттермейером. Он читал книги об Америке, об основах коммунизма и много французских романов. В 1844 г. с друзьями он предпринял путешествие по Италии и Швейцарии. В 1845 г. вернулся назад в Геттинген и в следующем 1846 г. сдал там государственный экзамен. Главным впечатлением студенческих лет стала его жизнь корпоранта. Она оставила отпечаток на всей его жизни и предоставила ему возможность опробовать свои руководящие способности.
В 1846 г. Беннигсен в Люхове начал свою успешную в дальнейшем юридическую карьеру, причем к службе не испытывал никакой симпатии. Молодой целеустремленный человек, который сам себя считал гением, не желал прозябать в рутине повседневных обязанностей и стремился к большей личной свободе, чтобы посвятить себя политике. Поэтому он хотел уволиться со службы, чтобы дополнить свои знания в сфере государственного права в Гейдельберге и начать карьеру ученого. Он надеялся, что в качестве университетского преподавателя сможет больше времени посвящать политике. Его прошение об отставке было отклонено, порыв угас и вскоре он отказался от намерения стать ученым. Беннигсен продолжил административную карьеру и принял решение стать судьей. В эту должность он вступил 12 января 1848 г. в Оснабрюке.
В период мартовской революции Беннигсен не принимал активного участия в политике. Возможно, это связано с тем, что 24-летний молодой человек все еще продолжал обучение, которое он завершил только в 1850 г., когда сдал экзамен на чин асессора. Однако он был страстным наблюдателем событий во Франкфурте. Каждый раз, когда он посещал там своих родителей, следовали долгие обсуждения. Он даже усердно пытался получить место имперского секретаря в министерстве иностранных дел временного германского правительства, что ему, однако, не удалось. В политическом отношении он находился между левыми и правыми, между Ф. Геккером с А. Руге, на одной стороне, и Ф. К. Дальманом с Г. Гервинусом, на другой. Он больше склонялся к умеренным левым, чем к либералам справа. Он не мог понять, почему, после того как Фридрих Вильгельм IV отказался от имперской короны, Ф. К. Дальман, Г. Гагерн и их сторонники вышли из парламента. По его мнению, разлад между демократами и либералами нужно было устранить, чтобы обеспечить единство и свободу Германии. Беннигсен был сторонником сильной центральной власти, конституционную монархию он рассматривал только как переход к республике, которая рано или поздно будет установлена. Но эти взгляды на монархию и увлечение социалистическими теориями скоро были изжиты.
После второго государственного экзамена Беннигсен поступил на службу в юстиц-канцелярию в Аурихе, но вскоре переехал в Ганновер, где в 1852 г. поступил на службу в Верховный суд. В 1854 г. ему удалось получить место судьи в Геттингене. Здесь он сдружился с Г. Планком, будущим соратником по созданию Национального союза.
В 1855 г. он принял решение начать политическую деятельность и выдвинул свою кандидатуру во вторую палату ганноверского ландтага. Он был избран в округе Аурих и Эссене. Однако правительство отказало ему в положенном депутату ландтага отпуске. Поэтому Беннигсен оставил государственную службу, чтобы целиком посвятить себя политике. В местечке Беннигсен близ Ганновера он вступил во владение отцовским имением. О причинах своего выбора в пользу политики он писал в 1895 г., оглядываясь назад: «Я был тогда молодым человеком, 32 лет отроду, и принял это решение, так как сказал себе: однажды все-таки должны настать времена, когда вопреки победоносной реакции, которая добилась низвержения движения 1848 г., по всей Германии вновь приобретут ценность гражданские права. В конце концов, должны настать времена и благоприятные условия, когда удастся вновь возродить разбитое и прерванное национальное движение, начатое в 1848—1849 гг. франкфуртским парламентом, и наконец дать Германии такое политическое устройство, которого ее великий народ заслуживает по всем своим качествам»[59]. Он боролся против реакционного режима в Ганновере, который представлял исключительно интересы дворян.
Наиболее значимой личностью в кабинете министра-президента графа Э. Кильмансэга был министр внутренних дел Вильгельм фон Борье (1802−1883), который в своем сочинении «Учебник искусства управления с точки зрения правителя», написанном для короля Георга V, возвеличивал неограниченную наследственную монархию. Именно против него Беннигсен направил свое ораторское искусство во второй палате сословного собрания. На новых выборах 15 января 1857 г. юный политик победил сразу в двух округах — в Геттингене, где ему деятельно помогал Планк, и в округе Люхов, Данненберг и Хитцакер. В новой палате 40 депутатам — сторонникам правительства противостояло 70 человек оппозиции. Такая ситуация не устраивала правительство. За счет отказа предоставления отпусков государственным служащим (даже бывшим) правительству удалось сократить оппозицию на 18 человек. Бывшим министрам Стюве, Брауну, фон Мюнгхаузену и Виндхорсту было запрещено вступать в палату. Консул Броне из Эмдена не смог попасть в парламент, поскольку принадлежал к секте меннонитов, которая с точки зрения властей не относилась ни к одной из признанных христианских церквей. Молодой либеральный политик должен был быть благодарен этим многочисленным исключениям, против которых протестовал в парламенте, когда его вскоре стали рассматривать в качестве вождя оппозиции. Беннигсен возглавил оппозицию, состоявшую преимущественно из представителей крестьян и нескольких бургомистров, против господства дворян, хотя сам принадлежал к дворянскому сословию. Он выступал за вооружение народа, за действенный контроль над государственным бюджетом и самостоятельность городского самоуправления. Он подверг жестким нападкам министра Борье, который попытался провести закон о государственной службе, по которому все чиновники должны были стать королевскими служащими, т. е. слепыми исполнителями воли короны и правительства. Он решительно отвергал частноправовые взгляды правящей верхушки на государство.
С началом «новой зры» в Пруссии и франко-итало-австрийской войной политика национального объединения Германии выступила на передний план интересов Р. фон Беннигсена. Поскольку он связывал свои надежды с полулиберальным министерством в Пруссии и считал, что в случае возможного распространения войны между Австрией и Францией Ганновер не был способен в одиночку защитить себя, то стал отстаивать необходимость признания руководящей роли Пруссии. При основании немецкого Национального союза Беннигсен отстаивал необходимость передачи верховной власти в союзе самому большому чисто немецкому государству. В 1866 г. он стал одним из основателей Национал-либеральной партии и был избран ее председателем. Беннигсен был согласен с аннексией Ганновера Пруссией. Он сотрудничал с правительством Бисмарка. В Национальном союзе и Национал-либеральной партии его считали человеком середины, которая соединяет противоположные крылья.
Федор Штрейт (1820−1904) был последовательным демократом, который получал удовольствие от политической борьбы и не имел никакой склонности к дипломатическим ходам. Он родился в Гильдбургсхаузене в 1820 г., его предки были юристами и геологами и происходили из Богемии. Его отец, армейский офицер, воспитывал его в духе консерватизма и верности монархии, в строгой религиозности. Однако воспитание на него не повлияло. В Йене и Гейдельберге он изучал право и государственные науки. В отличие от Беннигсена он не получал никакого удовольствия от участия в мероприятиях студенческой корпорации.
В годы революции он сочувствовал «левым» во франкфуртском парламенте, особенно Г. Струве и Ф. Геккеру. Вместе со Струве он принимал участие в публичных народных собраниях. Его политической целью уже тогда стало уничтожение абсолютизма и создание народного государства. Для развития политического образования народа он основал две газеты — «Кобургскую ежедневную» и «Новую немецкую сельскую газету», обе они выходили в Кобурге. Его политическая активность привела к тому, что с 1849 по 1851 г. он находился под следствием и был приговорен к тюремному заключению по обвинению в оскорблении Его Величества.
Он был одним из соучредителей немецкого Национального союза, был избран его управляющим делами. Он много сделал для развития организации, пополнения ее кассы и вел большую бесперебойную переписку. Шульце-Делич имел даже намерение отстранить его от этой должности не потому, что он не доверял его политической позиции, а потому, что не верил в «его способности и его энергию на этой тяжелой работе»[60]. Шестью годами позже, когда Штрейт должен был передать пост управляющего делами Л. Т. Нагелю (1828−1895), оказалось, что ему не хватало вовсе не энергии и способностей, а именно твердых политических позиций. Теперь Шульце-Делич заговорил о «лжеце» Штрейте. Он упрекал его за то, что тот позволял себе в тоне «крестовой газеты» и «социал-демократов» подвергать нападкам либеральных политиков Национального союза и Прусской прогрессистской партии. Штрейт постоянно отмечал: либералам в Пруссии должно быть ясно, что «господин Бисмарк предал конституционный процесс». В 1866 г. прогноз Штрейта сбылся, либералы пошли вместе с Бисмарком, но еще годом ранее Шульце-Делич не хотел верить в подобное развитие событий. Его ужасали эти предупреждения Штрейта, он писан «С этой бессмыслицей нужно однажды разобраться, он наносит больше ущерба как друг, нежели чем враг. На ближайшей конференции я поймаю его на слове спокойно, но решительно. Так больше продолжаться не может»[61]. Штрейт, в конце концов, потерял свой пост управляющего делами.
Свои демократические взгляды он провозглашал во «Всеобщей немецкой рабочей газете» и «Немецкой газете спортивных и оборонных союзов», которые он издавал в собственной типографии в Кобурге. Шульце-Делич пытайся объяснить полемические выпады Штрейта против либералов тем, что его газеты не находили среди либералов должного отклика. В «Рабочей газете» Штрейт упорно высказывался за решение рабочего вопроса. Он даже вел переговоры с Лассалем, с которым так и не смог найти общий язык, поскольку сам выступал в поддержку самопомощи, в то время как Ф. Лассаль добивался помощи от государства. Он так и не вступил в союз ни с лассальянцами, ни с представителями саксонской Народной партии А. Бебелем и В. Либкнехтом, поскольку оба эти течения казались ему слишком радикальными. Однако ему также было не по душе сильное влияние либералов в Национальном союзе, которых абсолютно не заботил рабочий вопрос. В 1865 г. он отвернулся от Национального союза и вступил в южнонемецкую Народную партию. Его «Кобургская ежедневная газета» с 1866 г. стала органом этой партии. После сражения у Кенигсгреца Штрейт был разочарован тем, что отныне либералы, до тех пор противники Бисмарка, были ослеплены его успехами. Его жесткие нападки против политических противников обеспечили ему много личных врагов.
У пристрастного политика Штрейта была хорошая концепция. Он стремился свести в одной партии буржуазию и рабочий класс. Скорее всего, его недостаточная склонность к компромиссам и недипломатичное поведение можно рассматривать как главные причины провала его политических замыслов. Он добился успеха как организатор немецкого Национального союза и издатель нескольких газет. Не имея никакого образца для подражания в пределах Германии, Штрейт превратил Национальный союз в хорошо работающую централизованную организацию. То, что он должен был уступить пост управляющего делами союза, связано преимущественно с личной антипатией, которую испытывал к нему Шульце-Делич. Трагизм ситуации заключался в том, что оба представительных демократа, которые одновременно упорно стремились решить рабочий вопрос и выступали за всеобщее, равное избирательное право — не смогли понять друг друга. Это способствовало тому, что все более сильное влияние в союзе приобретали либералы. Когда Национальный союз в 1867 г. самораспустился, большинство его членов вступили в Национал-либеральную партию.
Программу и решения общих собраний Национального союза широко пропагандировала либеральная пресса Германии. Особенно выделялось издание «Еженедельник Национального союза», которое выходило в Кобурге с 1860 по март 1864 г. Преемником этого издания стал «Еженедельный листок Национального союза», который издавался во Франкфурте-на-Майне, а позже в Гейдельберге. В первые годы им руководил А. Л. Рохау, который входил в комитет союза. Еженедельник предназначался для того, чтобы «обеспечивать регулярное интеллектуальное общение между членами и сторонниками Национального союза, распространять взгляды и основные положения союза в широких кругах, посредством этого поддерживать его цели, в равной степени также обеспечивать знания и представления о расширении союза, о его всесторонней текущей жизни и о его деятельности во всех частях отечества и далеко за его пределами»[62]. Еженедельник сообщал преимущественно о делах союза и возникновении прогрессистских партий во всех германских государствах. Некоторые сторонники, однако, высказывали недовольство еженедельником. Анонимный «друг бюргеров и крестьян» из Гумбинена требовал «общедоступной народной газеты, которая должна была выходить ежедневно для поддержки местных либеральных изданий в целях агитации в пользу Национального союза среди горожан и крестьян»[63]. Национальный союз отклонил это предложение, поскольку не имел финансовых возможностей распространять свои издания во всех провинциях страны. Аноним сетовал: «Как народ может измерить пользу своего избирательного права, если он даже не знает, какие люди должны быть избраны»[6].
Национальный союз в большинстве мест воспринимался как политическая партия, которая в ходе выборов должна заботиться о том, чтобы в них победили сторонники национального единства. Тесно связана с Национальным союзом была «Южногерманская газета», которая выходила в Мюнхене с 1 октября 1859 г. как национальный либеральный орган[65]. Ведущими редакторами газеты, которая с 1861 г. выходила дважды в день, были К. Братер, член комитета союза, и А. Вильбрандт. По финансовым причинам в 1862 г. она объединилась с газетой «Время» и с тех пор выходила во Франкфурте-на-Майне. Национальный союз участвовал в финансировании этого издания путем подписки на 10 акций по 120 талеров каждая. Близкие позиции к идеям Национального союза занимали «Северогерманская газета» в Ганновере, «Вестфальская газета» в Дортмунде, «Национальная газета» в Берлине и множество мелких местных газет.
Распространение газет внутри Германии чрезвычайно тормозил Закон о Почтовом союзе; если издание выходило за границы своего государства, то власти соседнего имели право взимать предусмотренный законом почтовый сбор, который особенно болезненно сказывался на политических изданиях. Цена на «Еженедельник Национального союза» доходила до 1 талера и 10 серебряных грошей. Политические издания, как правило, облагались сбором от 100 до 200%, в то время как «поучительные и просвещающие неполитические издания» — всего в 25%[66]. Высокая цена затрагивала в основном рабочих, мелких ремесленников и торговцев, члены союза требовали от руководства добиваться снижения сборов. В их представлении подобные мероприятия властей приравнивались к запрету на газеты. Этот пример показывает, насколько сильно Национальный союз зависел от внутриполитических проблем. Его деятельность была направлена на устранение династической мелкодержавности путем либеральных реформ и, по мнению многих его членов, прокладывала путь к единству страны. В публичных выступлениях и листовках, разовые тиражи которых доходили до десяти тысяч экземпляров, они поддерживали избирательную программу прогрессистских партий, поскольку сам союз развернутой программы не имел. Члены союза входили в земельные парламенты и были хорошо организованы, Национальный союз с полным основанием можно назвать политической партией.
Когда в 1861—1862 гг. «новая эра» в Пруссии подошла к концу, а со стороны прусского правительства не было предпринято ни малейшей попытки к объединению Германии, да к тому же в 1862 г. новым министром-президентом Пруссии был назначен О. фон Бисмарк, союз вынужден был изменить свою стратегию. После того, как Бисмарк спровоцировал военный и конституционный конфликт, о сотрудничестве с прусским правительством нечего было и думать, союз начал дрейфовать влево. Он признал имперскую конституцию от 28 марта 1849 г. соответствующей своей программе и заявил: «В ней содержится все самое существенное». Фактически правое крыло союза вновь нашло в конституции принцип главенства Пруссии (в малогерманской версии), левое же крыло, напротив, особенно ценило избирательное и прочие основные права конституции.
Вместе с тем союз все сильнее испытывал на себе давление унификации. После того как уже в 1861 г. в Пруссии дело дошло до создания Немецкой прогрессистской партии как «исполкома Национального союза» (руководство этой партии состояло из прусской части руководства Национального союза), с 1862 г. началось создание прогрессистских партий в средних и мелких германских государствах. В значительной степени этот процесс инициировал Национальный союз. Существовала надежда, что эти партии смогут стать такими же успешными, как и прусская, которая выиграла выборы уже в год своего основания. Так они надеялись повсеместно достичь парламентского большинства и оказывать давление на правительства союзных государств. Эта тактика предполагала, что прочие германские власти должны будут оказать решительное давление на прусское правительство.
Начиная с 1863 г. союз вступил в полосу кризиса. В ситуации обострения шлезвиг-голынтейнского вопроса в рядах союза возникла надежда, что оба герцогства могут быть освобождены добровольческими отрядами и станут частью нового национального немецкого государства. Но в этот момент их опередил Бисмарк. Он заключил союз с Австрией, и обе державы отвоевали герцогства со ссылкой на нормы международного права, а вовсе не на национальное объединение.
По окончании шлезвиг-голынтейнского кризиса возникло стремление вновь активизировать союз, что удалось в октябре 1864 г. Правда, отныне союз больше занимали внутренние конфликты, чем обращение к осуществлению своих целей. В восьмилетней истории Национального союза напряженные ситуации между демократами и либералами возникали постоянно. Когда дело дошло до братской войны, вследствие чего возник Северо-Германский союз, Национальный союз раскололся и начал дрейфовать вправо. Так, его правое крыло отныне искало соглашения с Бисмарком и было готово поддержать его предложение об индемнитете 1866 г. Левое крыло откололось от союза. Когда в 1866 г. Пруссия в результате победоносной войны против Австрии встала во главе движения за объединение Германии, либералы отделились от демократов, поскольку для них единство значило гораздо больше, чем свобода. Демократы, в свою очередь, не верили, что Пруссия способна осуществлять такую политику, с помощью которой на законодательной основе возможно будет добиться свободы и равенства граждан.
Поведение Беннигсена и других либералов на Учредительном рейхстаге Северо-Германского союза (после некоторых незначительных поправок они голосовали за проект конституции, предложенный Бисмарком) дало повод демократам Шульце-Деличу, Дункеру, Говербеку выйти из Национального союза. На последнем общем собрании в Касселе председатель союза Беннигсен заявил о роспуске союза и обосновал это решение следующим образом: «В 1859 г. представители различных либеральных направлений собрались вместе и похоронили свои прежние разногласия. Эти узы сейчас оказались порваны, когда части прежде единой партии жестко и решительно противостоят друг другу… В 1859 г. такое соединение либеральной и демократической партий было предпосылкой любого хотя бы незначительного прогресса, сегодня же обновление является условием их движения вперед. События 1866 г. разорвали нашу связь, и мы не можем и, я бы сказал, не хотим снова ее восстановить»[67].
События 1866 г. спровоцировали раскол между либералами и демократами, но решающей причиной для него стали различные политические концепции обеих групп. «Партия компромисса» из либералов и демократов неизбежно должна была расколоться, когда германский вопрос стал решаться Бисмарком в соответствии с ожиданиями умеренных либералов. Отныне правое крыло сочло себя способным разделить правительственную ответственность, правда, только в качестве младшего партнера. Из правого крыла союза возникла Национал-либеральная партия.
Интересна оценка союза его современниками. Так, в словаресправочнике Мейера читаем: «Прусское правительство, которому в первой программе (союза) было задумано руководство Германией, к несчастью, не желало иметь дела с этим движением и с самого начала вело себя по отношению к нему очень холодно, почти враждебно. Еще больше Пруссия утратила к себе доверие, когда там в 1862 г. вспыхнул конституционный конфликт. Друзья Пруссии в Национальном союзе все больше и больше теряли мужество открыто выступить в поддержку прусской гегемонии, и демократические элементы вскоре добились перевеса. Пожертвования на флот, которые были собраны, больше не передавались прусскому правительству; в 1863 г. Национальный союз даже пытался открыто выступить против Пруссии, когда выдвинул собственную программу по шлезвиг-гольштейнскому вопросу… Национальный союз проявил свой полный разрыв с прусской гегемонией даже в том, что только всегерманский парламент должен определить будущего носителя центральной власти, а его правление отвергло предложения Бисмарка о реформе союза от 9 апреля 1866 г. Между тем, как только Пруссия летом 1866 г. на самом деле провела свою союзную реформу, Национальный союз был уничтожен. Перед лицом такого неожиданного изменения вещей Национальный союз осенью 1867 г. формально самораспустился»[68]. Располагая в 1862 г. свыше 25 тыс. членами и многими влиятельными позициями в массовых организациях, таких как спортивные или стрелковые союзы, в 1867 г. Национальный союз насчитывал всего 1 000 членов. Тем не менее Национал-либеральная партия, которая возникла на его останках, выиграла выборы как в северогерманский рейхстаг в 1867 г., так и в общегерманский в 1871 г.
- [1] Deutschland — Italien, 1850−1871. ZeitgenossischeTexte/Hrsg. von D. Stabler. Leipzig, 2007. S. 144.
- [2] Ibid. S. 145.
- [3] См.: Eisfeld G. Op. cit. S. 35.
- [4] Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
- [5] Цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 55.
- [6] Ibidem.
- [7] Цит. no: Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
- [8] Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
- [9] См.: Ibid. S. 39.
- [10] См.: Oncken H. Rudolf von Bennigsen. Ein deutscher liberaler Politiker; nach seinenBriefen und hinterlassenen Papieren. In 2 Bde. Stuttgart; Leipzig, 1910. Bd. 1. S. 340.
- [11] См.: Schulze-Delitzsch Н. Schriften und Roden / Hrsg. von F. Thorwart. In 5 Bde.Bd.3. Berlin, 191 l.S. 146.
- [12] Цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 41.
- [13] См.: Schwabischer Merkur. 24. Januar. 1866.
- [14] См.: Karlsruher Zeitung. 9. September. 1869.
- [15] Deutschland — Italien, 1850−1871. S. 145.
- [16] Eisfeld G. Op. cit. S. 42.
- [17] См.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 222.
- [18] См.: Eisfeld G. Op. cit. S. 43.
- [19] Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 222.
- [20] Ibidem.
- [21] Wochenschrift des deutschen Natiionalvercins. № 142.16. Januar. 1863.
- [22] См.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 239.
- [23] Bundesarchiv Berlin. R 8031. АЕ 22. Bl. 446.
- [24] Westfalische Zeitung. 5. September. 1861.
- [25] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 25. Bl. 70.
- [26] Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 119.
- [27] См.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 147.
- [28] Cm.: PatisiusL. Deutschlands politische Parteien. S. 119.
- [29] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 8. Bl. 96.
- [30] Westfalische Zeitung. 4. September. 1861.
- [31] Ibidem.
- [32] Bundcsarchiv Berlin. N 2292. AE 179.
- [33] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 19. Bl. 173.
- [34] Bundesarchiv Berlin. R 8031. АЕ 22. Bl. 58−59.
- [35], s См.: Schulze-Delitzsch II. Op. cit. Bd. 3. S. 224.
- [36] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 26. Bl. 48.
- [37] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 24. Bl. 26.
- [38] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 19.
- [39] Bundesarchiv Berlin. R 8031. АЕ 20. Bl. 293−294.
- [40] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 27. Bl. 175.
- [41] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 193.
- [42] 63 Westfalischc Zeitung. 8. September. 1861.
- [43] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 193.
- [44] Bundesarchiv Berlin. R 8031. АЕ 25. Bl. 132−133.
- [45] Westfalische Zeitung. 18.Januar. 1861.
- [46] Cm.: Не/S A. Die Landtagsund Reichstagswahlen im GroBherzogtum Hessen, 1865−1871. Oberursel (Taunus), 1957. S. 43−45.
- [47] Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 8. Bl. 81−82.
- [48] Bundesarchiv Berlin. R 8031. АЕ 10. Bl. 4.
- [49] 77 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 16. Bl. 35.
- [50] Cm.: Hep A. Op. cit. S. 43.
- [51] Цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 51.
- [52] Ibid. S. 51−52.
- [53] Ibidem.
- [54] Planck G. Der Nationalverein, seine Entstchung und bishcrige Wirksainkeit. Coburg, 1861. S. 27.
- [55] Unruh Н. V. von. Erinnerungcn aus dem Leben / Hrsg. von H. von Poschinger. Berlin, 1895. S. 218−220.
- [56] Cm.: Oncken H. Op. cit. Bd. 1. S. 68−70.
- [57] Oncken Н. Op. cit. Bd. 1. S. 95.
- [58] Ibid. S. 26.
- [59] Oncken Н. Op. cit. Bd. 1. S. 280.
- [60] Schube-Delitzsch Н. Op. cit. Bel. 3. S. 146.
- [61] Ibid. S. 239.
- [62] Wochenschrift des Nationalvereins. № 154. 10. April. 1863.
- [63] Цит. no: Eisfeld G. Op. cit. S. 37.
- [64] Ibidem.
- [65] Cm.: Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Berlin, 1966. S. 144−145.
- [66] См.: Eisfeld G. Op. cit. S. 38.
- [67] Ци г. но: Parisius L. Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck. Ein Beitrag zur vaterlandischen Geschichte. Berlin, 1878. S. 119.
- [68] Meyers GroBes Konversations-Lexikon. Bd. 14. Leipzig; Wien, 1908. S. 446.