Систематизация искусств в xix и xx веках
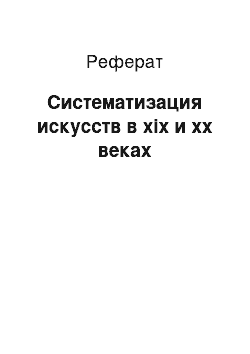
Идея и ее образ (содержание и форма) не просто связаны (ведь их связь может быть и условной), а взаимопроникнуты; другими словами, здесь действует тот же диалектический принцип перехода в свое-иное. Это означает, что в форме нет ничего такого, чего не было бы в содержании, а содержание до конца развонлощено в форме. Взаимодействие идеи и формы нельзя понимать как выражение какого-либо содержания… Читать ещё >
Систематизация искусств в xix и xx веках (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Типология искусств как форм самопознания духа в эстетике Г. Гегеля
Учение Иммануила Канта об эстетической идее как противоречивом единстве чувственной способности воображения и идеи разума было развито в философской системе Георга Гегеля. В «Лекциях по эстетике» Гегель высоко оценил философию и эстетику Канта, хотя и интерпретировал ее в своем духе. Согласно Гегелю, кантовская мысль развивалась в том направлении, по которому вслед за ней пошла его собственная философия, с той только разницей, что Кант остановился на полпути и не сделал всех надлежащих выводов из правильно выбранной им позиции. Отправная точка философии Канта есть самосознающий разум, что, но мнению Гегеля, сразу позволило ему подняться над всем хаосом эмпирических исследований различных форм проявлений красоты и искусства. Однако Кант нс преодолел противоречия между субъективным мышлением и «вещью-в-себе», так же как между всеобщностью морального закона и чувственной индивидуальностью субъекта, оставив эту задачу субъективным идеям чистого разума, обладающим не реализующей, а только регулятивной способностью. Преодоление этих противоречий осталось на стадии долженствования (требования осуществления). Кант, правда, продвинулся в сторону интуитивного рассудка, способного схватывать единство реального и идеального, добавляет Гегель. Движение в эту сторону наиболее ощутимо в «Критике способности суждения»: Кант говорит о целесообразности в природе и в наших познавательных способностях, но и здесь он не доходит до конца.
Канту открылась сущность красоты, представляющая собой органическое единство чувственного и идеального, единичного и всеобщего, средства и цели, части и целого. Но при этом найденное в красоте единство природы и свободы, чувства и идеи оказывается у Канта не более чем субъективной рефлексией по поводу игры чувственных способностей сознания с разумом, вызывающей душевное удовлетворение (благодушие) у субъекта вкусовой оценки или у реципиента субъективной идеи творца искусства (гения). По мнению Гегеля, ему выпала честь досказать то, что не решился сказать Кант: идея разума не только субъективна, но и объективна. По убеждению Гегеля, формы мышления и формы мыслимого совпадают. Понятие является началом и концом мира, однако задача заключается в том, чтобы показать не только его пределы, но и то, как происходит его становление и развитие, достигающее идеи. Логическая, или абсолютная, идея, по Гегелю — «идея-в-себс», у которой нет еще самопознания, так как самопознание осуществляется только через самореализацию. Лишь реализовавшись в мире, идея достигнет полного знания себя, т. е. «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя».
Познавая самое себя, идея из целокупности определенностей разделяется на свои составляющие, отрицает себя в них, переходит в свое инобытие — в природу, которую философ считает сферой обусловленного, несвободного, конечного. Эволюция природы, т. е. движение идеи из инобытия к «бытию-в-себе», приводит к появлению человека, а вместе с ним является сознание — дух. Дух вступает на тернистый путь мировой истории человечества, объективируясь в формах совместного бытия — в семье, гражданском обществе, государстве. В этих формах духа идея не может достигнуть полного познания собственной природы. В экономической, политической и повседневной жизни человек осуществляет свои ограниченные цели, удовлетворяет конкретные потребности и жизненные заботы: материальные, политические, социальные, социально-психологические. Остается неудовлетворенной потребность в свободном, истинном бытии, где снимается противоположность природы и духа, существующая в отношениях человека с внешним миром, а также противоречие между влечениями и долгом в человеческом сердце.
Познание своей истинной (т.е. бесконечной, свободной) сущности человечество осуществляет в трех видах деятельности, надстроенной над жизненным бытом: в искусстве, религии и философии. Эти три вида человеческой активности свидетельствуют о том, что дух перешел в высшую фазу развития, поднялся на ступень Абсолютного духа. Свобода, поясняет Гегель, достигается, когда субъект находит себя в ином, когда иное перестает быть его границей, пределом и он может бесконечно реализовывать себя в мире, достигая с ним полной примиренности. Такое осознание себя как конкретной целостности, достижение действительного, высшего единства конечного и бесконечного, есть жизнь в истине, высшее блаженство. Наиболее ясно оно достигается в религии, которая находится в центре развития Абсолютного духа. Но искусство и философия в определенном смысле также суть религия, утверждает Гегель. В чем же заключаются их различия?
Главное различие состоит в том, что только в искусстве идея выступает в форме идеала, свидетельствующего о появлении красоты. Ни в религии, ни в философии идеал уже не присутствует. Таким образом, категория идеала становится центральной в эстетике Гегеля, а сами границы эстетики определяются жизнью идеала: от момента зарождения до полного исчерпания его возможностей. Основное содержание теории идеала заключается в следующем. Абсолютная идея, генезис которой прослежен в логике, является «истиной-в-себе», не получившей еще действительного существования. Идея, проявляющаяся как активность Абсолютного духа, приобретает способность формировать действительность, обладающую неразрывным единством особенного (индивидуального) и всеобщего. Индивидуальное формирование действительности идеей, или действительность как идея, получившая адекватную своему понятию (истине) форму, образ выражения, и есть идеал[1].
Идея и ее образ (содержание и форма) не просто связаны (ведь их связь может быть и условной), а взаимопроникнуты; другими словами, здесь действует тот же диалектический принцип перехода в свое-иное. Это означает, что в форме нет ничего такого, чего не было бы в содержании, а содержание до конца развонлощено в форме. Взаимодействие идеи и формы нельзя понимать как выражение какого-либо содержания в любой подходящей форме, предупреждает Гегель. Идея есть истина, и она подбирает такую форму, которая может выражать истину, но на это способна далеко не любая форма. Совершенство формы является не только и не столько плодом мастерства ее создателя, сколько доказательством ее адекватности идее, которая в себе самой носит способы своего проявления, свободного созидания формы как своего истинного образа. Когда идея достигает своего истинного существования и остается в единстве со своим внешним явлением, эта идея не только истинна, но и прекрасна. Таким образом, прекрасное следует определить как чувственное явление, «чувственную видимость идеи».
Далее Гегель прослеживает разворачивание целостной идеи на ее особенные формы в диахроническом (историческом) аспекте и в типологическом плане. В первом случае рассматривается историческая последовательность всеобщих форм искусства: символическая (древневосточная), классическая (античная), романтическая (христианское искусство). Во втором случае создается классификация видов искусств, объединенных по способам реализации идеи в чувственном материале, т. е. «мир осуществленной красоты».
Философ предупреждает, что сам по себе внешний материал в его физических различиях, а также пространственные или временные способы внешнего существования художественных произведений не могут стать базой классификации. По его мнению, основа деления искусств «имеет свое происхождение в высшем принципе и должна находиться в зависимости от него»[2]. Таким высшим принципом является характер перехода всеобщей идеи прекрасного в ее особенные формы.
Появление отдельных видов искусства связано с распадением бесконечной идеи прекрасного на свои определения, получающие самостоятельное существование в формах чувственного материала. Особенные художественные формы как части бесконечной идеи сами гоже являются бесконечными, поэтому они остаются одновременно и всеобщими формами. Каждое отдельное искусство представляет в своем особенном способе внешнего формирования целостность форм искусства, а значит, в каждом искусстве присутствуют черты других искусств, и все вместе они образуют организм, имеющий единство частей в целом, в идеальной сущности прекрасного. Соответственно и рассмотрение отдельных видов искусства совершается исследователем не порознь, а в тесной их взаимосвязи и переходах друг в друга.
Гегель начинает разговор об искусствах с рассмотрения архитектуры. Он считает, что архитектура возникает не тогда, когда строятся прикрытия от дождя и холода (на это способны и животные), а когда выгороженное пространство демонстрирует волю к собранности общины, под которой он понимает людей, собравшихся во имя Бога. Формами архитектуры являются «образования внешней природы, связанные правильно и симметрично, так что, будучи чисто внешним отражением духа, они есть целостное художественное произведение»[3]. Если архитектура сумела подняться на такой уровень, значит, она выполнила свою миссию:
«Архитектура, таким образом, очистила неорганический внешний мир, сделала его симметрически упорядоченным, родственным духу, и вот перед нами храм божества, дом его общины. В этот храм вступает сам бог, молния индивидуальности ударяет в косную массу, проникает ее, и теперь не только, как в архитектуре, чисто символическая форма, а бесконечная форма самого духа концентрирует и формирует телесность. Такова задача скульптуры»[4].
Скульптура, по словам Гегеля, — эго чудо, ибо в ней «дух воплощает свой образ в материальное и формирует это внешнее начало так, что становится в нем явным для самого себя и познает в нем адекватный облик своей внутренней жизни»[5]. Если в архитектуре преобладало символическое начало, то скульптура есть полное и безусловное воплощение классики. Ее достоинства и ограниченности полностью дедуцируются из того, что уже было сказано Гегелем о классическом искусстве.
Третья часть гегелевской типологии объединяет те искусства, которые выражают внутренние переживания субъекта и где, следовательно, значение внешнего материала пропорционально уменьшается, пока не сойдет на нет. Первой в этом ряду романтических искусств стоит живопись. Подобно своим предшественникам, архитектуре и скульптуре, живопись тоже пользуется внешним чувственным материалом — линиями и красками на плоскости, но ее стихия — мир видимости; можно даже сказать, употребив современный термин, что в живописи виртуальный характер искусства становится особенно наглядным, ибо в ней всё есть правда и всё обман. Фигуры на картинах подобны фантомам: их можно видеть, но до них нельзя дотронуться; их реальное существование размыто, поэтому для живописи диапазон изображения различных состояний духа неизмеримо расширяется по сравнению с архитектурой и скульптурой.
Дальнейший шаг в сторону углубления духовного состояния делает музыка. Отличие ее от всех предыдущих по порядку рассмотрения искусств состоит в том, что, апеллируя к слуху, а не к зрению, существуя только в исполнении на инструменте или вокально, музыка вообще теряет предметную форму. Музыка уже больше не артефакт, а только коммуникация внутренних движений духа, эмоциональных душевных состояний, которые, как считает Гегель, все же остаются неопределенными в себе.
Следующее, но порядку рассмотрения искусство, пользующееся звуками, — поэзия. В отличие от музыки она приводит к собранности внутреннего душевного состояния, к концентрации в нем идей. Это связано с тем, полагает Гегель, что звук в поэзии уже не имеет такой ценности звучания, которой обладает музыка; его функция — быть носителем духовного значения, т. е. он выступает в роли знака, а не в форме внешнего чувственного материала. Сбрасывание с себя поэзией оков подчиненности особенностям определенного внешнего материала делает ее поистине безграничным искусством, утверждает философ, но она не выпадает из сферы прекрасного, потому что в ней идея не лишена образности и продолжает выступать в форме идеала. Внешний чувственный материал поэзия замещает образным внутренним представлением:
«Поэзия соответствует всем формам прекрасного и распространяется па всех них, потому что ее настоящей стихией является художественная фантазия, а фантазия необходима для творчества красоты, какова бы ни была форма последней»[6].
Завершая свое изложение эстетики как философии искусства, Гегель пишет:
«…Единственной его целью было проследить понятие красоты и искусства на всех стадиях, которые оно проходит в своем осуществлении, постигнуть его в мышлении и подтвердить в его истинности»[7].
Вместе с тем убеждение Гегеля в том, что искусство является одной из форм самопознания Абсолютного духа, причем не самой высшей, привело к парадоксальному выводу: золотой век искусства в прошлом, значение искусства в жизни человечества идет по ниспадающей линии. Романтическое искусство как последняя историческая стадия существования идеала указывает на следующую ступень развития Абсолютного духа, на которой он вообще перестает нуждаться в каком-либо внешнем чувственном воплощении, ведь духу присуща потребность находить удовлетворение лишь в своей внутренней жизни как истинной форме воплощения истины. Это значит, что мысль и рефлексия обогнали художественное творчество, и искусство как познавательный процесс теперь должно уступить место более глубоким формам логического познания.
Рассматривая дальнейшее развитие европейской эстетики, мы можем отметить, что гегелевское положение об идеале как самопознании духа через свою внешнюю выраженность вошло в арсенал последующих эстетических учений (место абсолютного духа мог замещать в них психологический субъект, бессознательное в психоанализе, сознание в феноменологии, эстетический опыт, категории бытия и т. п.). Диалектическая трактовка идеала (образа) как единства идеи и формы, чувственного и духовного, единичного и всеобщего, части и целого, образующих, по Гегелю, сущность прекрасного искусства, также сохранялась в различных формах.
В то же время гегелевская философия духа отводила искусству определенное место, ставила на некую ступеньку в развитии всей системы, что приводило к подчинению искусства внешним для него факторам существования, закончившегося в конце концов признанием преодоления искусства другими «более духовными» формами. Эта сторона гегелевского учения не могла быть принята. Две ведущие эстетические школы XX в., феноменологическая эстетика и теория эстетического опыта, имевшие на себе некий отпечаток гегелевской эстетики, категорически отказывались от нее в одном отношении — в признании красоты и искусства сферой познания.