1920 годы.
История русской литературы XX века
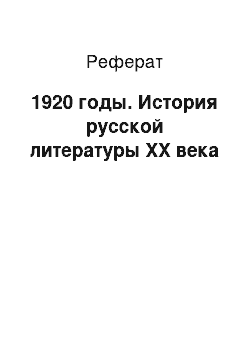
Стихийно-хаотическое начало вошло в плоть бытия, расплавило его твердые формы, сдвинуло все со своих мест. Восприятие мира в этот период проходит у Мандельштама иод знаком спутанности элементов, текучести форм. В «Сумерках свободы» земля обретает свойство жидкости («земля плывет»), а океан представляет собой твердую субстанцию, поскольку его можно разделить плугом («как плугом океан деля… Читать ещё >
1920 годы. История русской литературы XX века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Второй период творчества Мандельштама пришелся на эпоху социальных потрясений и культурных перемен. Мировая война мало отразилась в тематике его поэзии, однако повлияла на изменение картины мира поэта, разрушив гармоническое равновесие бытия. Октябрьский переворот Мандельштам поначалу принял со «страхом и отвращением». Но уже в 1918 г. поэт меняет свое отношение к революции. Это сказалось в аксиологическом освещении революционного лидера: «октябрьский временщик» (см. стихотворение «Когда октябрьский нам готовил временщик…») превращается в «Сумерках свободы» в «народного вождя», берущего на себя «роковое бремя» истории.
Из Петрограда поэт дважды уезжает на юг. Первая поездка — в 1919—1920 гг. на Украину (Харьков, Киев), в Крым (Феодосия, Коктебель), на Кавказ (Батум, Тифлис). В Киеве Мандельштам знакомится со своей будущей женой Надеждой Хазиной, молодой художницей. В Феодосии поэта как большевистского агента арестовала и едва не расстреляла врангелевская контрразведка. Освободил его полковник А. В. Цыгальский, а помогли в этом М. А. Волошин и В. В. Вересаев. В 1921—1922 гг. состоялась вторая поездка на юг (Украина, Кавказ). В марте 1921 г. Мандельштам разыскал Надежду Яковлевну Хазину, и с тех пор они не расставались вплоть до последнего ареста поэта. После всех путешествий чета Мандельштамов обосновалась в Москве.
В 1922 г. в Берлине выходит вторая книга Мандельштама " Tristia" , объединившая стихи 1916−1920 гг. «Tristia» — книга финалов и канунов, эсхатологических чаяний и предчувствия «новой жизни», вызывающей у поэта ассоциации со «скифским праздником». Эсхатологические мотивы гибели ярче всего отразились в стихах о Петербурге («Мне холодно. Прозрачная весна…», 1916; «В Петрополе прозрачном мы умрем…», 1916; «На страшной высоте блуждающий огонь…», 1918, и др.). Петербург уже в 1916 г. ощущался поэтом как город смерти, в котором вся жизнь есть лишь ожидание конца:
Богиня моря, грозная Афина, Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
Мотив умирания, образ Прозерпины и эпитет «прозрачный» выявляют скрытые параллели образного пространства стихотворения с мифологическим пространством Аида, которое будет развернуто в «летейском» цикле. Мотив умирания в Петербурге актуализирует и рифмическая ассоциация Петрополь — Некрополь, которая в 1931 г. отзовется строками: «В Петербурге жить — словно спать в гробу» .
Но если в 1916 г. мотив гибели дается в модальности будущего времени и воспринимается как предсказание, то в стихах 1918 г. перед читателем разворачивается мифопоэтически осмысленное настоящее. В стихотворении «На страшной высоте блуждающий огонь…» картина гибели города запечатлена в апокалипсических тонах:
На страшной высоте земные сны горят, Зеленая звезда мерцает.
О, если ты звезда, — воде и небу брат, Твой брат, Петрополь, умирает!
Образ «умирающего» Петербурга ассоциативно притягивает к себе мифологические ситуации, описывающие падение великих городов прошлых эпох: гибель Трои («За то, что я руки твои не сумел удержать…»), закат Венецианской республики («Веницейской жизни, мрачной и бесплодной…»), падение Иерусалима («Среди священников левитом молодым…»). Однако известные культурно-мифологические сюжеты предстают в сдвинутом, трансформированном виде, становясь строительным материалом для авторского мифа. При этом возникает ситуация интертекстуального диалога, когда мифологические реалии оказываются архетипическими ключами к настоящему.
Так, в стихотворении " За то, что я руки твои не сумел удержать…" падение Трои дано в парадоксальном стяжении с любовной драмой лирического героя — то ли нашего современника, то ли эллинского воина (возможно, Менелая), тоскующего по Елене. Мандельштам мастерски использует прием образного скрещивания: мифологические мотивы сливаются с современностью, пространство переживания — с внешними реалиями. Гибель Трои воспринимается как мифологическая параллель «умиранию» Петербурга, столицы российских царей: «Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? / Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник» .
А. А. Ахматова отмечала, что Мандельштам увидел Петербург 1920;го г. «как полу-Венецию, полутеатр». Театральная ипостась Петербурга ярче всего отразилась в стихах «Чуть мерцает призрачная сцена» (1920), «В Петербурге мы сойдемся снова» (1920). Оба стихотворения построены на противопоставлении «сцены» и «улицы», «театрального легкого жара» и «советской ночи», переходящей в инфернальный образ «всемирной пустоты» .
Знаменательна перекличка последнего образа с рассуждениями В. В. Розанова о судьбах России и мировой истории в «Апокалипсисе нашего времени». «Пет сомнения, — пишет философ, — что глубокий фундамент всего происходящего заключается в том, что в европейском (всем — в том числе и русском) человечестве образовались пустоты от былого христианства: и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатство»[1].
Сочетая в пространстве одного произведения контрастные смысловые ряды, выражающие стихию «скифства» и высокое искусство, Мандельштам улавливает основной тон переходной эпохи и показывает нам «хрупкое веселье русской культуры посреди гибельной стужи русской жизни»[2].
Отношение Мандельштама к искусству, уходящей культуре моделируется в мифологеме «Орфей и Эвридика». Культура — Эвридика — в переломную эпоху освобождается от своей материальной оболочки, отрешается от обстоятельств, породивших ее, и выступает в своей идеальной, «психейной» сущности: в родной речи, поэтическом слове. Это посмертное, идеальное бытие культуры воплотилось и в " летейских" стихах 1920 г. («Когда Психея-жизнь спускается к теням…», «Ласточка», «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…», «Возьми на радость из моих ладоней…»), описывающих посмертное блуждание души в «чертоге теней». Уникальность этих стихов состоит в том, что в них Мандельштам разворачивает особого рода пространство, мифологическим прототипом которого выступает царство Персефоны, но в то же время оно не адекватно Аиду. «Чертог теней» скорее служит аналогом посмертного бытия (развоплощения) культуры, души, слова. Это мир чистых форм, прозрачных очертаний («полупрозрачный лес», «прозрачные дубравы», «прозрачные голоса»; «прозрачны гривы табуна ночного», «мысль бесплотная»). Пространство, смоделированное Мандельштамом, с равной степенью вероятности можно истолковать, во-первых, как «психейную» сущность культуры, утратившей свою материальную оболочку; во-вторых, как загробное бытие души; в-третьих, как психическое пространство сознания, блуждание мыслеобразов, так и не воплотившихся в слове.
Культурологическим противопоставлением, организующим метасюжет сборника «Tristia», становится столкновение стихии (нового мира) и культуры (старого, уходящего мира). Это противостояние Мандельштам мифологически истолковывает и как оппозицию дионисийски-хаотического и аполлонического начал. Причем у Мандельштама хаос, дионисийский разгул включает в себя и социальную сферу. Стихия революции привлекает Мандельштама своими мощными энергетическими всплесками, огромным жизненным порывом, но одновременно и пугает его. С победой революции, полагает поэт, все индивидуалистические проявления вновь возвращаются в «связанное состояние» массы, коллективного творчества, следовательно, гражданской и личной свободе приходит конец:
Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год!
Восходишь ты в глухие годы -.
О солнце, судия, народ!
(«Сумерки свободы»).
Мандельштамовское прославление «сумерек свободы», с одной стороны, восходит к тютчевскому «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые…», а с другой — к гимну «в честь чумы» пушкинского Вальсингама. Не случайно в стихотворении «Кассандре», посвященном Анне Ахматовой, Мандельштам прямо называет происходящее «гиперборейской чумой» .
Стихийно-хаотическое начало вошло в плоть бытия, расплавило его твердые формы, сдвинуло все со своих мест. Восприятие мира в этот период проходит у Мандельштама иод знаком спутанности элементов, текучести форм. В «Сумерках свободы» земля обретает свойство жидкости («земля плывет»), а океан представляет собой твердую субстанцию, поскольку его можно разделить плугом («как плугом океан деля…»). Образ водной стихии во второй книге Мандельштама, возможно, восходит к своему мифологическому прототипу — библейскому Всемирному потопу. В «Сумерках свободы» семантика потопа угадывается в образах «плывущей земли», «кипящих ночных вод», «океана», а «корабль времени» своим «огромным, неуклюжим, скрипучим поворотом руля» вызывает ассоциации с Ноевым ковчегом. Но тогда сумеречное состояние мира знаменует не окончательную его гибель, а разгул стихийных сил, состояние хаоса:
Не видно солнца, вся стихия Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые -.
Не видно солнца, и земля плывет.
Образ черного солнца, ставший в «Tristia» своего рода лейтмотивом, истолковывается и как знак нарушения мировой гармонии, солнце затмения, что в древних мифах предвещает мировые катаклизмы. Не случайно в стихотворении, открывающем вторую книгу Мандельштама, «солнце черное» становится метафорой Федры. Объяснение этому видится в том, что изначально, по происхождению, Федра, согласно Мандельштаму, — носительница солнечного начала как внучка солнца-Гелиоса, однако солнечную, аполлоническую ее природу затемняет темный чувственный хаос, страсть. Лирическая героиня сама признается: «Любовью черною я солнце запятнала…» Таким образом, речь идет о том же разгуле стихии, что и в «Сумерках свободы», но только не на природном, а на чувственном уровне. Симптомы «страсти дикой и бессонной», ее дионисийский размах, затемняющий аполлоническую упорядочность бытия-космоса, Мандельштам увидел в современной действительности, поэтому в статье (1919?) метафорой России «в час мировой войны» оказывается Федра.
Поэт остро ощущает свое «пограничное состояние»: принадлежность сразу двум культурным эпохам — старой и новой. Вот почему в «Tristia» появляется лирический субъект с ярко выраженной «пограничной» семантикой. Это и декабрист, «честолюбивый сон» променявший «на сруб / В глухом урочище Сибири»; упомянутый выше Орфей, переправившийся из царства живых в царство мертвых; наконец, Овидий, изображенный на исходе последней ночи в Риме перед черноморской ссылкой. Мифологема Овидия собирает воедино разрозненные смысловые мотивы сборника «Tristia» и становится принципом, порождающим инвариантные сюжеты, разыгрывающие на мифологическом, культурно-историческом и бытовом уровнях главную тему книги. Ее лейтмотивом «становится повторяющийся образ заключительного этапа политической, национальной, религиозной и культурной истории»[3].
Если в «Камне» природа отождествляется с культурой и потому ей приписываются черты гармонического равновесия, соразмерности, целесообразности, то в «Tristia» бытие представлено в разгуле стихии, в спутанности субстанциональных качеств. В «Tristia» модифицируется и концепция единства времени, заданная в «Камне». Во-первых, время здесь обретает качества пространства («Время вспахано плугом»). Во-вторых, время качественно различно, дискретно: с одной стороны, это время завершающейся исторической формации (время, корабль которого «идет ко дну»), с другой — целостное время мифа, включающее в себя все времена. Вот почему мифологические и исторические аллюзии (гибель Трои, падение Иерусалима, Московская смута и т. д.) в поэтике «Tristia» играют роль архетипических аналогов современности.
Все это, естественно, сказалось на функции слова, обретшего семантическую подвижность, или, в терминологии Мандельштама, психейность. На смену метафоре, выявляющей в «Камне» потаенное тождество природы и культуры, приходит метаморфоза, ибо тождество нарушено, мир «вышел из пазов», вещи сорвались со своих мест, потеряли свои прежние свойства и обрели противоположные. Отсюда крайнее усложнение метафорических ходов, использование оксюморонов («сухая река», «горячие снега»), приемов, близких к сюрреалистической технике письма («В огромной комнате тяжелая Нева»; «И хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла»). Эти поэтические новации — результат новой картины мира художника, обусловленной тотальными историческими сдвигами. Отсюда и проекция нескольких семантических планов на один образ (нередко представляющий собой причудливый сплав внешних впечатлений, литературномифологических ассоциаций и внутренних переживаний субъекта), усложненные ассоциативные ходы, когда одна ассоциация влечет за собой другую, та — третью и т. д. Возникают ассоциативные цепочки.
В частности, по принципу ассоциативной цепочки построено стихотворение " На розвальнях, уложенных соломой…" (1916), смысловой ключ к которому — имя потаенного адресата (Марины Цветаевой) остается за пределами стихотворения. Однако образ и имя Цветаевой вызывают аналогию с Мариной Мнишек, а лирическое «Я» соответственно ассоциируется с Дмитрием Самозванцем, что в корне трансформирует стихотворную фабулу. Прогулка по Москве Мандельштама и Цветаевой как бы перетекает в далекое прошлое, оборачиваясь роковым путешествием их лирических двойников («мы ехали огромною Москвой», «меня везут без шапки»). Далее, образ Самозванца, которого везут на казнь, ассоциативно, по смежности имен, притягивает к себе другой сюжет Смутного времени — темную и таинственную смерть в Угличе малолетнего царевича Дмитрия: «А в Угличе играют дети в бабки». Посредством ассоциативной связи образов, системы намеков в стихотворении кристаллизуется мотив насильственной смерти, сгущается тревожная атмосфера московской Смуты. Московская тема, в свою очередь, связана с мессианской концепцией России. Русскую историю Мандельштам осмысливает в духе триады В. С. Соловьева («три свечи», «три встречи», «три Рима»). Подспудно в стихотворении вырастает образ «Москвы — третьего Рима»: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать» .