Теоретико-правовые основы формирования досудебного производства
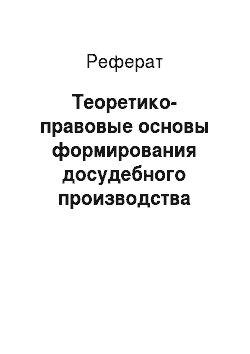
До сих пор одним из наиболее дискуссионных теоретических вопросов досудебного производства является вопрос отнесения согласно гл. 6 УПК РФ следователя к стороне обвинения, что должно предопределять, как утверждает ряд ученых1, направленность процессуальных действий и процессуальных решений данного участника уголовного процесса на обвинение лица, которое вовлечено в сферу уголовного… Читать ещё >
Теоретико-правовые основы формирования досудебного производства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Теоретические воззрения о досудебном уголовном судопроизводстве
Сущностные черты досудебного уголовного судопроизводства определяются, главным образом, его типом. И разработчикам проекта УПК РФ надлежало концептуально определиться, какой модели отдать предпочтение при осуществлении правосудия: континентальной или англосаксонской.
Между тем активно обсуждалась научная идея о создании в России, по аналогии с англо-американским, состязательный тип уголовного процесса, не предусматривающего, как известно, самостоятельности этапа досудебного производства по уголовным делам1. Схожей точки зрения придерживаются В. Т. Корниенко и В. Ф. Крюков. Последний, исследуя проблему уголовного преследования в досудебном производстве, однозначно указывает на состязательную концепцию современного уголовного судопроизводства[1][2].
Возражая указанным авторам, следует подчеркнуть, что ни в Концепции судебной реформы в Российской Федерации, ни в проектах УПК РФ, представляемых к обсуждению в начале 1990;х гг.[3], не находила отражения концепция состязательности уголовного судопроизводства.
Анализируя причины, препятствующие переходу в настоящее время от континентальной модели уголовного процесса к англо-американской (нехватка материальных и кадровых ресурсов; незавершенность процесса становления новых социально-экономических отношений; медленное (по сравнению с законом) изменение правосознания правоприменителя и общества), А. А. Давлетов и Л. А. Кравчук пришли к выводу о необходимости отнесения отечественного уголовного процесса к континентальной модели высказываются1.
Характеризуя в своих исследованиях содержание УПК РФ, Л. В. Головко отмечает, что отечественный уголовно-процессуальный кодекс представляет собой, но сути, попытку кардинально сменить парадигму уголовного судопроизводства и перейти от традиционного (для России) постинквизиционного «смешанного» процесса континентального типа к процессу полностью состязательному[4][5].
Для развития досудебного уголовного судопроизводства полезным представляется анализ начавшего действовать с 1 января 2015 г. УПК Казахстана. Указанный уголовно-процессуальный закон Казахстана закрепил отказ от предварительного расследования как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания, а также переход к расследованию в форме полицейского дознания, характерной для уголовного процесса Франции, с отказом от процессуальной деятельности по проверке заявления, сообщения о преступлении и, соответственно, от существующих правил возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела и упрощение ряда других правил в досудебном производстве. На отличительные черты проекта указанного уголовно-процессуального закона ранее обращал внимание Л. В. Головко[6].
Следует заключить, что реализация в России предлагаемой модели полицейского дознания, имеющей место в Республике Казахстан с учетом его особенностей, начиная со значительного перечня органов дознания и должностных лиц, которым такое право предоставлено, и завершая территориальными проблемами, вряд ли может быть осуществлена эволюционным путем. Для изменения досудебного производства требуется коренное реформирование положений УПК РФ, регламентирующих процессуальный порядок производства предварительного следствия и дознания.
В качестве критериев отнесения российского уголовного процесса к определенному тину уголовного процесса автором были определены:
- 1) соотношение досудебного производства и уголовного судопроизводства;
- 2) основные черты досудебного производства и особенности их реализации в современных условиях; 3) соотношение указанных черт с критериями разграничения типов уголовного процесса.
Исходя из содержания п. 56 ст. 5 УПК РФ, досудебное производство является частью уголовного судопроизводства. Однако толкование конституционно-правовых норм, в частности ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации, приводит к утверждению, что поскольку судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, то уголовное судопроизводство выступает одной из форм реализации судебной власти.
Судебная власть согласно положениям Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г.1 представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия (рассмотрение и разрешение гражданских, уголовных, административных дел), контрольных полномочий (проверка законности задержания, заключения под стражу, производства обыска в жилище и др.), иногда — полномочий по обязательному толкованию норм права (Конституционный Суд Российской Федерации) и некоторых других (установление юридически значимого факта, например лишение родительских прав), а также систему органов, осуществляющих эти полномочия — суды.
Системное толкование правовых норм Конституции Российской Федерации (ст. 129), а также федеральных законов (УПК Российской Федерации (ст. 21, 40, 151, 157 и др.), Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 17.01.1992 № 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и других) позволяет заключить, что в качестве субъектов, уполномоченных на осуществление досудебного производства по уголовным делам, выступают органы исполнительной власти и органы специального конституционно-правового статуса (прокуратура)[7][8].
Кроме того, согласно ст. 47, ч. 2 ст. 50, ст. 120, 123, 126 Конституции Российской Федерации, ст. 4, 5, 9, 20 и других статей Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ст. 8, 15, 29, 165 и других статей УПК РФ суд не выступает субъектом осуществления уголовного преследования. На недопустимость осуществления судом уголовного преследования указывается и в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. Между тем, согласно и. 55 ст. 5, ст. 20, 21, 220, 225 УПК РФ уголовное преследование является основным средством осуществления досудебного производства по уголовным делам. В досудебном производстве суд согласно ст. 29, 123, 125, 165, 448, 450 УПК Российской Федерации выполняет специфическую для уголовного процесса функцию судебного контроля[9].
Исходя из изложенного, следует заключить, что уголовное преследование осуществляется органами исполнительной власти и прокуратурой, а непосредственно уголовное судопроизводство согласно конституционно-правовому толкованию осуществляется органами судебной власти — судами1.
По мнению автора, существуют особый вид государственной деятельности — уголовно-процессуальная деятельность, под которой следует понимать досудебное производство по уголовным делам, осуществляемое органами исполнительной власти при судебном контроле и прокурорском надзоре, и непосредственно уголовное судопроизводство, осуществляемое органами судебной власти.
Представленное отличное от общепринятого соотношение досудебного производства и уголовного судопроизводства обусловливает особый подход к оценке реализации ст. 15 УПК РФ. Одновременно следует учитывать содержание ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, согласно которому судопроизводство, следовательно и уголовное, осуществляется на основе состязательности сторон.
Состязательность сторон может быть обеспечена при наличии: 1) двух сторон — обвинения и защиты; 2) процессуального равенства сторон;
3) независимости суда от сторон, выполняющего арбитральную функцию[10][11].
Согласно первому критерию состязательности сторон, нашедшему законодательное закрепление в ч. 2 ст. 15 УПК РФ, недопустимо возложение функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела их на один и тот же орган или на одно и то же должностное лицо.
Преломляя положения главы 6 УПК РФ через призму правовых положений ст. 15 УПК РФ, следует подчеркнуть, что к стороне обвинения в УПК РФ 2001 г. отнесены прокурор, следователь, руководитель следственного органа (прежде — начальник следственного отдела), орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. При этом впервые в досудебном производстве появился такой его участник, как дознаватель, наделенный широким кругом процессуальных прав и обязанностей, во многом схожим с процессуальными правами и обязанностями следователя. По УПК РСФСР дознание осуществляло лицо, производящее дознание (ст. 117 УПК РСФСР).
Позже, в 2007 г., Федеральным законом № 90-ФЗ[12] в досудебное производство был введен еще один участник со стороны обвинения — начальник подразделения дознания. При действующей конструкции досудебного производства наделение начальника подразделения дознания процессуальным статусом по аналогии с руководителем следственного органа позволило оптимизировать процессуальное руководство за расследованием уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности органов дознания, а также процессуальный контроль за процессуальной деятельностью дознавателя.
До сих пор одним из наиболее дискуссионных теоретических вопросов досудебного производства является вопрос отнесения согласно гл. 6 УПК РФ следователя к стороне обвинения, что должно предопределять, как утверждает ряд ученых1, направленность процессуальных действий и процессуальных решений данного участника уголовного процесса на обвинение лица, которое вовлечено в сферу уголовного судопроизводства. Однако нет достаточных оснований, чтобы согласиться со столь однозначным толкованием и восприятием данного утверждения. Так, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 73 УПК РФ указанный участник уголовного процесса обязан устанавливать обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности. В данном случае следователь выступает как сторона защиты. Тем самым требования ч. 1 ст. 73 УПК РФ, обеспечивая объективность расследования уголовного дела, нивелируют обвинительный уклон процессуальной деятельности следователя и, соответственно, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания[13][14]. Такое двойственное определение назначения деятельности указанного субъекта порождает противоречивые суждения о роли следователя в уголовном процессе.
Следует подчеркнуть, что против отнесения следователя к стороне обвинения высказывался в 50-е годы XX столетия Р. Д. Рахунов[15]. Эту же позицию занимал и академик А. Я. Вышинский[16]. Иного мнения придерживался М. С. Строгович, который полагал, что деятельность следователя «в отношении определенного лица, привлеченного к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, направлена на то, чтобы изобличить это лицо в совершении преступления, доказать его виновность, обеспечить применение к нему заслуженного наказания»[17].
Относительно научных споров о процессуальном статусе следователя в рассматриваемом аспекте автор отмечает, что они не определяют практическую составляющую деятельности указанного участника уголовного процесса, поскольку согласно требованиям уголовно-процессуального закона следователь выполняет следственные действия и принимает процессуальные решения, направленные как на обвинение, так и оправдание подозреваемого, обвиняемого. А это может быть реализовано только в том случае, если следователь осуществляет полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела, на чем настаивали И. Л. Петрухин и Э. Ф. Куцова1 и что было закреплено в ст. 20 УПК РСФСР.
В настоящее время, хотя в УПК РФ прямо не закрепляется обязанность следователя полно, всесторонне и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела, однако наличие такой обязанности усматривается из системного анализа правовых положений ряда норм УПК РФ, в том числе ч. 1 ст. 73 УПК РФ, устанавливающей обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в том числе характеризующие личность обвиняемого (пункт 3), исключающие преступность и наказуемость деяния (пункт 5), смягчающие наказание (пункт 6) и которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (пункт 7). Эти положения вошли в авторскую концепцию досудебного производства.
В связи с изложенным целесообразно изменить редакцию ч. 2 ст. 21 УПК РФ, уточняя функциональное назначение следователя. В частности, оно должно заключаться в принятии следователем (дознавателем, органом дознания, прокурором) всех предусмотренных законом мер по всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного дела, собиранию как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого доказательств. Аналогичную нашему предложению точку зрения озвучил II. К. Барабанов[18][19].
Критически оценивая распространенную точку зрения об обвинительном уклоне в деятельности следователя, обусловливающим выполнение указанным участником уголовного процесса функцию обвинения, следует заметить, что в настоящее время отечественная теория трех процессуальных функций подвергается обоснованной критике. Так, по мнению Л. В. Головко, концепция разделения процессуальных функций является «сугубо отечественной концепцией, не всеми разделяемой и не всегда понимаемой в аспекте сравнительного уголовно-процессуального права»[20]. Он, в частности, уточняет, что во французском уголовном процессе защита не выделяется в качестве автономной, как по УПК РФ, процессуальной функции. Участие в уголовном деле защитника и предоставление обвиняемому соответствующих прав является реализацией иного принципа французского уголовного процесса — обеспечение обвиняемому права на защиту. Функция защиты от иеобоснованного привлечения к уголовной ответственности реализовывается в соответствии с требованиями французского законодателя, не только защитником и обвиняемым, но и всеми государственными органами, осуществляющими производство по уголовному делу1.
По своей сути, с учетом изложенного выше, функция защиты от необоснованного привлечения к уголовной ответственности осуществляется по УПК РФ аналогично уголовно-процессуальному законодательству Франции всеми государственными органами, осуществляющими расследование уголовного дела.
Следует отметить, что принцип состязательности, закрепленный ст. 15 УПК РФ, не допускает осуществление разных процессуальных функций одним и тем же органом либо одним и тем же должностным лицом. Однако сторона обвинения осуществляет деятельность как по обвинению лица, так и по его защите. Одновременно осуществление функции обвинения (в российском досудебном производстве) сопровождается выполнением должностными лицами функций процессуального контроля и прокурорского надзора. Их соотношение, объем процессуальных полномочий уполномоченных субъектов — руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания и прокурора продолжает сегодня вызывать многочисленные дискуссии.
Одну из составляющих теоретических основ досудебного производства в процессе реализации положений ст. 15 УПК РФ составляет такой критерий, как равенство сторон. Установление наличия или отсутствия такого равенства применительно к современному российскому досудебному производству предопределяет в свою очередь необходимость акцентирования внимания на соотношение процессуального положения стороны обвинения и стороны защиты.
Исследование правовых положений гл. 7 УПК РФ позволяет заключить, что сторону защиту представляют субъекты — физические лица. Основное положение среди них занимает защитник, в качестве которого выступает адвокат. На возможность осуществления защиты в досудебном производстве по уголовным делам только адвокатом, а не иными лицами, перечисленными в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, указал Конституционный Суд Российской Федерации. В частности, в его Постановлении от 28 января 1997 г. № 2-II отмечается, что участие в качестве защитника в ходе предварительного расследования любого лица по выбору подозреваемого или обвиняемого не гарантирует указанным лицам квалифицированную юридическую помощь (п. 3 описательно-мотивировочной части указанного Постановления)[21][22].
Как справедливо отмечают Д. А. Гришин и Ю. В. Малышева, право на квалифицированную юридическую помощь является неотъемлемым элементом правового статуса человека и гражданина, который гарантируется не только национальным, но и международным правом1. В соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека в качестве одного из международных стандартов в области уголовного судопроизводства закреплено право каждого человека на защиту законом. Указанные стандарты закреплены и в Конституции Российской Федерации, в которой указывается, что «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется» (п. 1 ст. 45). Однако такая защита может осуществляться негосударственными органами, в частности согласно Федеральному закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»[23][24] (ч. 1 ст. 3).
Это обусловливает ряд негативных последствий. Во-первых, обязанность государства, закрепленная Конституцией РФ, о защите конституционных прав, основных свобод личности приобретает формальную неопределенность. Во-вторых, отсутствуют условия, позволяющие обеспечить равные возможности участникам в реализации их прав и обязанностей в досудебном производстве. Например, защитник, в качестве которого в большинстве случаев выступает адвокат, лишен права собирать доказательства, хотя перечень его полномочий, закрепленный ч. 3 ст. 86 УПК РФ и Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, на первый взгляд кажется достаточно широким. Между тем необходимо указать на неудачную редакцию процессуальной нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, закрепляющей пути собирания защитником доказательства. Более верной представляется редакция ч. 2 ст. 86 УПК РФ, закрепляющей право невластных участников уголовного судопроизводства собирать и представлять письменные документы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Полученные адвокатом сведения приобретают силу доказательств только после удовлетворения следователем ходатайства защитника (ч. 1, 2 ст. 119 УПК РФ) о признании, например, предмета, документа в качестве вещественных доказательств и приобщении их к материалам уголовного дела. При этом согласно ст. 122 УПК РФ следователь имеет право частично удовлетворить указанное ходатайство защитника либо отказать в его удовлетворении. Нарушение требований УПК РФ в части собирания доказательств влечет их юридическую ничтожность (ч. 1 ст. 75 УПК РФ).
У адвоката, выступающего в качестве защитника в уголовном процессе, отсутствует также право воспрепятствовать необоснованному применению следователем мер процессуального принуждения, не требующих судебного решения. То есть защитник не обладает достаточными процессуальными правами, позволяющими ему обеспечивать личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища подзащитного, тайну его переписки, телефонных и иных переговоров и др.[25]
Ранее Ю. В. Деришев указывал на ограниченные права защитника в российском уголовном досудебном производстве, на отсутствие у него права вести параллельное адвокатское расследование. Очевидно, что введение указанного адвокатского расследования обусловливает необходимость изменения всей структуры уголовного судопроизводства, для чего в настоящее время в российском государстве как со стороны органов уголовного преследования, так и адвокатского сообщества отсутствуют условия.
Таким образом, следует утверждать о том, что стороны обвинения и защиты не обладают равными процессуальными правами в досудебном производстве, что не согласуется с правовым содержанием ст. 15 УПК РФ.
Третьим критерием, обусловливающим состязательность сторон, выступает независимость суда в досудебном производстве от участников уголовного судопроизводства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Анализ действующего УПК РФ свидетельствует, что суд полностью самостоятелен в принятии решений. Более того, его роль в досудебном производстве существенно возросла. Это находит проявление:
- • во-первых, в разрешении судом все большего количества жалоб на действия (бездействие), решения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, прокурора, способные причинить ущерб конституционным правам и свободам участников досудебного производства либо затруднить доступ граждан к правосудию. В частности, количество рассмотренных судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ в 2008 г. составило 85 488, в 2009 г.- 105 583; в 2010 г, — 117 321, в 2011 г. — 125 961, в 2012 г, — 129 454, в 2013 г. — 136 063 и в I полугодии 2014 г. — 61 936. Процент удовлетворенных судом жалоб составил соответственно — 18,6, 15,8, 13,1, 11,1, 8,7, 6,9 и 7,1%1. То есть граждане достаточно активно реализуют право на защиту судом своих конституционных прав, основных свобод, законных интересов;
- • во-вторых, в осуществлении судом непосредственной защиты конституционных прав и основных свобод граждан посредством реализации ряда его процессуальных полномочий: а) дача разрешения на производство отдельных следственных действий, производство которых сопряжено с ограничением конституционных прав и свобод (и. 3—12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); б) признание законности проведенного без судебного решения и нуждающегося в таковом следственного действия в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ); в) разрешение ходатайств о применении мер процессуального принуждения в отношении подозреваемого, обвиняемого (и. 1,2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), ущемляющих конституционные права, основные свободы и законные интересы личности[26][27].
Вместе с тем ряд решений Европейского Суда по правам человека (в решении от 9 ноября 2006 г. ЕСПЧ по делу № 7615/02 «Имакаев М. против России» к России предъявлен иск ввиду незаконного задержания Имакаева, а также нарушения его права на уважение личной, семейной жизни,.
2013. С. 22.
жилища и корреспонденции; в решении от 21 июня 2007 г. ЕСПЧ по делу № 24 552/02 «Мельникова Е. против России» к России предъявлен иск ввиду незаконного содержания под стражей Мельниковой Е. К).; в решении от 28 июня 2007 г. ЕСПЧ по делу № 65 734/01 «Шухардин В. против России» к России предъявлен иск ввиду незаконного содержания под стражей Шухардинова, а также длительности срока содержания под стражей1) формируют основу для утверждения о том, судебный контроль в досудебном производстве не стал эффективной процессуальной гарантией защиты конституционных прав, основных свобод, законных интересов личности от незаконного и необоснованного их ограничения властными субъектами.
Указанные и иные схожие решения Европейского Суда по правам человека дают основания отдельным ученым[28][29] утверждать, что отсутствие законодательного запрета одним и тем же судьей осуществлять судебный контроль по уголовному делу и разрешать это же уголовное дело по существу способствует формированию предварительной убежденности судьи о виновности лица. Исходя из изложенного, они полагают, что «действующая конструкция оперативного судебного контроля … не соответствует ни назначению, ни задачам, ни конституционному предназначению указанной деятельности»[30].
Ранее такой законодательный запрет содержался в ч. 2 ст. 63 УПК РФ, что фактически означало специализацию судей по осуществлению судебного контроля и первый шаг к созданию института следственных судей, который в настоящее время вновь активно обсуждается с точки зрения целесообразности его введения по аналогии с Республикой Казахстан. Однако первоначально проблемы финансового, материально-технического, кадрового характера привели к исключению Федеральным законом от 29.05.2002 № 58-ФЗ[31] данной процессуальной нормы из УПК РФ.
Следует отметить, что среди ученых есть противники введения института следственных судей. В частности, по мнению Н. Н. Ковтуна, учреждение следственного судьи для ведения только судебно-контрольных производств не обеспечит им необходимую нагрузку в одно-, двусоставных районных судах. Свое утверждение он обосновывает статистическим данными, характеризующими деятельность судей районных (городских) судов Нижегородской области[32]. Схожие суждения высказывались и прежде в специальной литературе[33].
В данной связи уместным является обращение к правовой позиции Европейского Суда по правам человека, допускающей ведение одним судьей не более четырех судебно-контрольных производств по уголовному делу, которое впоследствии будет рассматривать, но существу и распространяющейся на правоприменительную деятельность в российском уголовном судопроизводстве, включая досудебное производство.
На основании изложенного необходимыми выступают уточнение и корректировка теоретических основ досудебного производства, включающие следующие положения:
- а) в современных условиях не представляется возможным утверждать о рациональном распределении процессуальных полномочий среди участников досудебного производства, что является одним из элементов авторской концепции досудебного производства;
- б) в досудебном производстве отдельные контрольные функции суда осуществляются без соблюдения принципа состязательности сторон;
- в) современные правовые основы досудебного производства по уголовным делам в качестве доктрины закрепляют приоритет защиты конституционных прав и законных участников уголовного процесса. Однако в уголовно-процессуальной сфере отмечается смещение баланса интересов потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) в сторону последнего.
Одновременно следует подчеркнуть, что современные теоретические основы досудебного производства являются неполными и требуют дополнения теоретическими положениями о начальном этапе досудебного производства, применении мер процессуального принуждения, разумности срока досудебного производства, процессуальном контроле, прокурорском надзоре и др.
- [1] Чердынцева И. Л. Назначение современного российского уголовного процесса как элемент его типологической характеристики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008.С. 17, 27.
- [2] Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. М., 2010. С. 39.
- [3] Проект УПК Российской Федерации, разработанный Министерством юстиции Российской Федерации // Российская юстиция. 1994. № 11. С. 35—63; проект УПК РоссийскойФедерации, принятый 05.06.2007 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. В некоторой степени идеологию состязательного типауголовного процесса представлял проект общей части УПК Российской Федерации, разработанный Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации подруководством С. А. Пашина, однако данный проект был отвергнут еще в середине 1990;х гг.(см.: Российская юстиция. 1994. № 9. С. 2—92).
- [4] Давлетов А. А., Кравчук Л. А. Стадия возбуждения уголовного дела — обязательныйэтап современного отечественного уголовного процесса // Российский юридический журнал. 2010. № 6. С. 114−120.
- [5] Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 51.
- [6] Головко Л. В. Казахстан: десоветизация уголовного процесса // Уголовное судопроизводство. 2011. № И. С. 10−13.
- [7] О концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление Верховного Совета РСФСР24 октября 1991 г. // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.1991. № 44. Ст. 1435.
- [8] На особый правовой статус прокуратуры указывает Д. В. Березовский, полагая, что прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, обладая при этом особой компетенцией: Теория государства и права / колл, авторов; отв. ред. А. В. Малько. М., 2011. С. 75. М. М. Рассолов, подчеркивая важное место прокуратуры в механизме государства, уточняет, что онавыступает в качестве специализированного органа государственной власти, также обладающейособой компетенцией в целях осуществления прежде всего надзора за соблюдением законности в государстве: Рассолов М. М. Теория государства и нрава. Мм 2010. С. 203—204.
- [9] Данная точка зрения встречается в научных публикациях других авторов. См., например: Лваков О. О. О сущности и значении судебной деятельности в досудебном производствепо уголовным делам // Общество и право. 2010. № 2. С. 193—196; Дикарев И. С. Правосудиеи судебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий // Государство и право.2008. № 2. С. 51; Жеребятьев И., Шамардин Л. Некоторые вопросы реализации правосудияв уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 2004. № 3. С. 83.
- [10] Малышева О. А. Обеспечение законности в досудебном уголовном производстве. Мм2013.С. 12−13.
- [11] Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 1. С. 63—64; Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 18—19; Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-правового построения: автореф. дис… д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 41—42.
- [12] О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24.Ст. 2833.
- [13] Быков В. М. Судебный контроль за предварительным следствием // Уголовный процесс. 2007. № 1. С. 35—38 и др.
- [14] Далее по тексту монографии под следователем при осуществлении процессуальнойдеятельности понимаются все указанные выше участники уголовного процесса, осуществляющие расследование уголовного дела, в том числе руководитель следственного органаи начальник подразделения дознания при принятии уголовного дела к своему производству (ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 40 УПК РФ).
- [15] Рахуиов Р. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М, 1954.С. 24−25.
- [16] Вышинский Л. Я. Итоги второй сессии Верховного Совета СССР // Социалистическаязаконность. 1938. № 9. С. 13.
- [17] J Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951.С. 65.
- [18] Петрухин И. Л., Куцова Э. Ф. О концепции уголовно-процессуального законодательстваРоссийской Федерации // Государство и право. 1992. № 12. С. 83.
- [19] Барабанов II. К. Реализация назначения уголовного судопроизводства при доказываниив суде первой инстанции: автореф. дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 13.
- [20] Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 52.
- [21] Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 53.
- [22] По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гиттисаи С. В. Абрамова: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П //Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 1.
- [23] Гришин Д. Л., Малышева 10. В. Регламентация права подозреваемого, обвиняемогона защиту в отечественном законодательстве и международных правовых актах // Человек: преступление и наказание: юрид. издание Академии ФСИН России. 2011. № 4. С. 65—67.
- [24] Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
- [25] Малышева О. Л. Обеспечение законности в досудебном уголовном производстве. М., 2013. С. 21.
- [26] URL: http://www.cdep.ru. Раздел 4.
- [27] Малышева О. А. Обеспечение законности в досудебном уголовном производстве. М"
- [28] Официальный сайт Европейского Суда по правам человека. URL: http://www.ourcourt.ru.
- [29] Петрухин И. Л. Об эффективности судебного контроля за следствием и оперативнорозыскной деятельностью. С. 93.
- [30] Ковтун Н. Н. Следственный судья в уголовном судопроизводстве: за и против // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 44.
- [31] О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РоссийскойФедерации: Федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2002. № 22. Ст. 2027.
- [32] Ковтун II. II. Следственный судья в уголовном судопроизводстве: за и против // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 42—43.
- [33] Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросытеории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис… д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 5; Николюк В. В., Деришев 10. В. Оптимизация досудебного производствав уголовном процессе России. Красноярск, 2003. С. 170.