Общая характеристика авангарда в архитектуре 1920-1930 гг
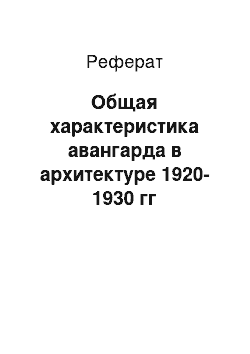
Принципиально иной была позиция членов ОСА — конструктивистов. Реставраторским тенденциям и «левому формализму» АСНОВА они противопоставили ведущую роль функционально-конструктивной основы зданий. В отличие от рационализма, формообразование здесь шло «изнутринаружу»: от разработки планировки и внутреннего пространства через конструктивное решение к выявлению внешнего объема. Подчеркивалась… Читать ещё >
Общая характеристика авангарда в архитектуре 1920-1930 гг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Основные черты авангарда в архитектуре и способы его выражения
Авангамрд (фр. Avant-garde, «передовой отряд») — обобщающее название течений в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, выраженное в полемически-боевой форме (отсюда само имя, взятое из военнополитической лексики). Его временными рамками принято считать период с.
1870 по 1938 год. Авангард характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической эстетики, с использованием оригинальных, новаторских средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов. Понятие авангард в большой степени эклектично по своей сути16. Этим термином обозначают целый ряд школ и направлений в искусстве, порой имеющих диаметрально противоположную идейную основу.
Слово французского происхождения авангард первоначально относилось исключительно к военной терминологии и означало отряд, выдвигающийся вперёд по движению войска; передовой отряд. В годы Французской революции это слово стало революционной метафорой и в 1794 году вошло в название якобинского журнала. С тех пор политический смысл начал вытеснять военный.
Термин в его фигуральном значении использовался в работах французских социалистических утопистов. В их же работах термин впервые получил следующий, художественный смысл — основатель школы утопического социализма Анри Сен-Симон в статье «Художник, учёный и рабочий», вышедшей в год его смерти в 1825 году, в союзе художника, учёного и рабочего ведущую роль отвёл художнику. Художник, по СенСимону, наделён воображением и должен воспользоваться силой искусства для пропаганды передовых идей: «Это мы, художники, будем служить вам авангардом».
Долгое время термин сохранял своё политическое значение, а художник наделялся особой политической миссией. В этом значении термин начал усваиваться в других европейских языках. Так, в английском языке слово vangard в его фигуральном значении впервые появилось в работах британского историка Томаса Карлейля.
Последователи Сен-Симона, продолжая вслед за ним акцентировать ведущую роль художника в политических процессах, фактически оставляли в стороне социальные цели искусства, обязывающие его быть утилитарным, дидактическим, понятным широким массам, и тем самым парадоксально сближали политический авангард с «искусством для искусства» (фр. l’art pour l’art) как революционной идеей.
В последние десятилетия XIX века термин авангард в его милитаристском значении получил широкое распространение в Европе благодаря популярности анархических идей Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Кропоткиным восхищались хорошо его знавшие Оскар Уайльд и Уильям Батлер Йейтс; большое влияние Кропоткин оказал на Герберта Рида. Бакунин и Кропоткин не только использовали термин в своих работах, но в 1878 году дали название L’Avant-Garde своему журнал.
Авангардная архитектура всегда имела особый социальный посыл. Масштабные градостроительные эксперименты 1920;1930;х годов, которые имели место в разных частях мира, были направлены не только на установку новых архитектурных и эстетических стандартов, но и на распространение новых ценностей, привычек, жизненных укладов и, в конечном итоге, на формирование нового общества и нового человека. Авангардная архитектура была не только неотделима от социального заказа, она непосредственно реализовывала его, задавая новые тенденции общественной жизни. В этом смысле крайне важно понять, что мы можем увидеть в авангардной архитектуре сегодня, кроме «памятника» и исторической «наследия». Какие смыслы она демонстрирует? И что нового позволяет выявить в окружающем городском пространстве, его обустройстве, символике и нас самих?
В трудную пору интервенции, гражданской войны, хозяйственной разрухи и восстановительного периода строительная активность в стране была минимальной. Соревнование архитектурных тенденций шло преимущественно теоретически, порождая обилие деклараций и экспериментальных проектных материалов. Однако «бумажное проектирование» 1917—1925 гг., несмотря на малую практическую отдачу, сыграло известную положительную роль18. Оно позволило критически разобраться в обилии теоретических мыслей и проектов, отвергнуть крайности архитектурных фантазий, приблизить творческую мысль к решению практических задач.
Первые годы после революции характеризовались приподнятым восприятием новой жизни. Духовный подъем широчайших народных масс толкал фантазию к безудержному полету и чуть ли не каждый художественный замысел трактовался как символ эпохи. Это был период романтического символизма, сочинялись грандиозные архитектурные композиции, рассчитанные на многотысячные манифестации, митинги. Архитектурные формы стремились сделать остро выразительными, предельно понятными, чтобы подобно агитационному искусству непосредственно включить архитектуру в борьбу за утверждение идеалов революции.
Общим было стремление создать великую архитектуру, но поиски велись в разных направлениях. Как правило, представители старшего поколения мечтали о возрождении больших художественных традиций мировой и русской архитектуры. Сквозь налет гигантомании проступают мотивы могучей архаизированной дорики, римских терм и романской архитектуры, Пиранези и Леду, архитектуры Великой Французской буржуазной революции и русского классицизма. Гипертрофия исторических форм должна была, по мысли авторов, отразить величие завоеваний революции, мощь нового строя, крепость духа революционных масс.
На другом полюсе романтико-символических исканий группировалась главным образом молодежь. В работах этих архитекторов преобладали простейшие геометрические формы, динамичные сдвиги плоскостей и объемов. Связанная с влияниями кубофутуризма деструктивность и зрительная неустойчивость композиций с использованием диагональных и консольных смещений была призвана, по мысли авторов, отразить динамизм эпохи19. Возможности новых материалов и конструкций (в основном — гипотетических) использовались для создания активно изобразительных композиций, как бы выводящих архитектуру на грань монументальной скульптуры. Многие формы, родившиеся в этих ранних «левых» проектах, в дальнейшем прочно вошли в арсенал выразительных средств новой советской архитектуры.
Некоторые архитекторы выдвигали на первый план «индустриальные» мотивы, романтическое истолкование техники в качестве особого символа, связанного с пролетариатом. К фантазиям индустриального типа иногда причисляют и знаменитый проект памятника III Интернационалу, созданный в 1919 г. В. Татлиным. Однако значение этого проекта намного превосходит задачи романтизации и эстетизации самой по себе техники и его влияние выходит далеко за рамки архитектуры романтического символизма.
Не случайно памятник III Интернационалу стал своеобразным символом-знаком советской архитектуры 20-х годов.
Вся трудная и голодная жизнь первых послереволюционных лет была пронизана искусством, которое активно выполняло агитационные функции и было призвано мобилизовать массы на строительство новой жизни. Ленинский план монументальной пропаганды обобщал и вводил в единое русло разнородные художественные усилия. Для тех лет вообще было характерно стремление к взаимосвязи, «синтетическим формам» искусства, вторжение его в повседневность, стремление искусства как бы слиться с жизнью. Искусство, вышедшее на улицу, устремилось дальше по пути преобразования не только облика, но самой структуры и содержания жизненных процессов, их изменения по законам целесообразности и красоты20. На стыке архитектуры и художественных исканий возник специфический феномен «производственного искусства», провозгласившего смыслом художественного творчества «делание вещей», предметов повседневного обихода и «через них» — переустройство самой жизни.
Провозглашаемое «производственниками» грандиозное, необозримое по своим задачам «искусство жизнестроения» ставило целью преобразить, одухотворить идеями коммунизма всю жизненную среду. И хотя в их программах было много непоследовательного, теоретически незрелого, а их призывы порвать с традиционным искусством и художественной культурой были просто ошибочными, объективно вредными, особенно в тот переломный период. Однако утопичность идей не помешала возникновению задатков социалистического дизайна, получившего широкое развитие лишь в наши дни.
Тесные контакты с художниками имели большое значение для обновления формального языка архитектуры. Новые средства архитектурной выразительности рождались не без влияния экспериментов «левого» искусства, включая «архитектоны» К. Малевича, «проуны» (проекты утверждения нового) Л. Лисицкого и т. д. Взаимосвязанность архитектуры и искусства отразилась на комплексном характере ряда организаций, объединявших творческие силы: Инхук, Вхутемас, Вхутеин, где формировались различные творческие концепции и проходили экспериментальную разработку в острой борьбе идей.
Начало 20-х годов было временем становления новаторских течений советской архитектуры. Основные силы группировались вокруг возникшей в 1923 г. Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и созданного двумя годами позже Объединения современных архитекторов (ОСА). АСНОВА образовали рационалисты, они стремились «рационализировать» (отсюда и их название) архитектурные формы на основе объективных психофизиологических законов человеческого восприятия21. Рационализм непосредственно восходил к романтическому символизму, для которого образные задачи архитектуры играли доминирующую роль. Рационалисты шли в формообразовании «снаружи-внутрь», от пластического образа к внутренней разработке объекта. Рационализм не отвергал материальных основ архитектуры, но решительно отодвигал их на второй план. Рационалистов упрекали в формализме — и не без основания, они давали для этого повод своими отвлеченными экспериментами. Вместе с тем, преодолевшая традиционный эклектизм и прозу утилитаризма художественная фантазия рождала новый яркий архитектурный язык и раскрывала невиданные творческие горизонты. Весь актив рационалистов был связан с преподаванием и потому, за исключением примыкавшего к АСНОВА К. Мельникова, относительно мало проявлял себя в практике. Зато рационалисты оказали существенное влияние на подготовку будущих архитекторов.
Принципиально иной была позиция членов ОСА — конструктивистов. Реставраторским тенденциям и «левому формализму» АСНОВА они противопоставили ведущую роль функционально-конструктивной основы зданий. В отличие от рационализма, формообразование здесь шло «изнутринаружу»: от разработки планировки и внутреннего пространства через конструктивное решение к выявлению внешнего объема. Подчеркивалась и возводилась в ранг эстетического фактора функциональная и конструктивная обусловленность, строгость и геометрическая чистота форм, освобожденных, по формулировке А. Веснина, от «балласта изобразительности». Строго говоря, зрелый конструктивизм выдвигал на передний план не конструкцию, технику, а социальную функцию. Однако нельзя отождествлять советский конструктивизм с западным функционализмом. Сами конструктивисты решительно подчеркивали существующее здесь принципиальное отличие, социальную направленность своего творчества. Они стремились создать новые в социальном отношении типы зданий, средствами архитектуры утвердить новые формы труда и быта и рассматривали архитектурные объекты как «социальные конденсаторы эпохи» (М. Гинзбург).
Метод конструктивизма не отрицал и необходимости работы над формой, но эстетическая самоценность формы — вне связи с конкретной функцией и конструкцией — принципиально отвергалась. Теперь, в исторической ретроспективе достаточно четко ощущается, что конструктивизм — во всяком случае в теории — тяготел все же к некой инженерной схематизации задач архитектуры, к подмене целостности социально-синтетического мышления архитектора техническими методами конструирования22. И это было слабостью течения. Тем не менее, конструктивизм обосновал социальную обусловленность и материальные основы нового архитектурного содержания и новой архитектурной формы, заложил основы типологии нашей архитектуры, способствовал внедрению научно-технических достижений, передовых индустриальных методов, типизации и стандартизации строительства. Социально ориентированные и в то же время практичные, деловые установки конструктивизма соответствовали периоду развертывания реального строительства после окончания гражданской войны. Это и обусловило то, что он занял господствующие позиции в советской архитектуре 20-х годов.
Отношения между рационалистами и конструктивистами были сложные. На первых порах негативизм в отношении прошлого был их общей платформой. Затем, в середине 20-х годов на первый план вышло диаметрально противоположное понимание творческого метода архитектора. Тем не менее, нельзя абстрактно противопоставлять эти новаторские течения. Революция, с одной стороны, дала творческим исканиям мощный духовный импульс и потребовала новой образности, а с другой — поставила перед архитектурой новые социально-функциональные задачи, решать которые можно было лишь с помощью новой техники23. С этих двух сторон и подходили рационалисты и конструктивисты к задаче переустройства материальной и духовной среды общества, но работали разобщенно, находясь в полемическом противостоянии и потому практически были односторонними.
В творческом плане архитектура заявила о своей художественной зрелости в 1923 г. конкурсным проектом Дворца труда в Москве, разработанным лидерами конструктивизма братьями Весниными. Проект не изображал идею Дворца труда, а наглядно воплощал и выражал ее в динамической и функционально оправданной композиции, отстаивал новые принципы архитектурного мышления, новые формы и стал вехой на пути дальнейшего развития советской архитектуры.
Заметное влияние на развитие советской архитектуры оказала серия конкурсов 1924;1925 гг. Конкурсный проект здания акционерного общества «Аркос» братьев Весниных с его выраженным железобетонным каркасом и большими остекленными поверхностями стал образцом массового подражания. Еще значительнее в творческом плане был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» тех же авторов. Его называют одним из самых артистичных проектов XX в. К 1925 г. относится первый и сразу же триумфальный выход советской архитектуры на международную арену. Построенный по проекту К. Мельникова Советский павильон на Международной выставке в Париже остро выделялся на общем фоне эклектичной архитектуры.
В конце 1925 г. XIV съезд ВКП (б) определил курс на индустриализацию народного хозяйства. В предвидении предстоящего строительства развернулась дискуссия о принципах социалистического расселения. В связи с проблемой преодоления противоположностей между городом и деревней широко обсуждался вопрос о городах-садах. Остро выявились в конце 20-х годов позиции урбанистов, ратовавших за развитие концентрированных очагов расселения, и дезурбанистов, отстаивавших преимущества безочагового, рассредоточенного дисперсного расселения. Разумеется, ни один из утопических проектов этого плана не был реализован даже частично.
В рамках концепции урбанизма были созданы интересные с профессиональной точки зрения проекты «жилых комбинатов», также не получившие практической реализации24. Более перспективным и, главное, полностью пригодным для практики оказался другой— упрощенный вариант первичной структурной единицы «соцгорода» — в виде укрупненного жилого квартала с развитой системой культурно-бытового обслуживания. Такие кварталы и жилые комплексы, появившиеся в 20−30-х годах во многих городах, можно рассматривать как своего рода реальный вклад концепции урбанизма в практику социалистического градостроительства.