Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века: М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева
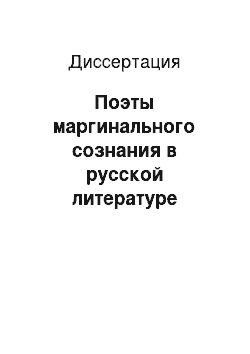
В связи со смыслообразующей интенцией к святости надлежит сделать еще одно заключение. В русской традиции маргинальным поэтам в меньшей мере, чем в западной, присущ пафос нравственного эксперимента, i опровержения моральных устоев. Экстремальные идеи де Сада, Ф. Ницше (его анти-христианство), А. Арто будут усвоены лишь русскими маргиналами «второго призыва» — Э. Лимоновым, Н. Медведевой, А… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. МАРГИНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ t КАК ОБЪЕКТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
- 1. 1. Итоги и перспективы изучения маргинальное&trade- в современных гуманитарных науках
- 1. 2. Поэты маргинального сознания в литературном контексте Серебряного века: генетические и методологические параметры исследования
- Выводы к главе
- ГЛАВА 2. ПОЭТ «ВНЕ ЛИТЕРАТУРЫ»: М.А. ВОЛОШИН
- 2. 1. Становление поэта в духовной ситуации рубежа веков
- 2. 2. Миф о Петербурге и миф о Коктебеле: апология окраин
- 2. 3. «Совесть народа — поэт». Слово и поступок в жизнетворчестве М. Волошина
- Выводы к главе
- ГЛАВА 3. «ДРУГАЯ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ.»: Е.Г. ГУРО
- 3. 1. Е. Гуро и футуризм 152 ^ 3.2. Художественная система Е. Гуро. Книги «Шарманка», «Осенний сон» и «Небесные верблюжата», публикации в коллективных сборниках
- 3. 3. Повесть «Бедный рыцарь» и философия творчества Е. Гуро
- Выводы к главе
- ГЛАВА 4. «МЫ ВСЕ СТОИМ У НОВОГО ПОРОГА.»
- Е.Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (МАТЬ МАРИЯ)
- 4. 1. Е. Кузьмина-Караваева и культура Серебряного века
- 4. 2. «Православное дело» и философия жизнетворчества
- Выводы к главе
Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века: М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В наше время, когда в отношении реалий русской литературы прошлого столетия уже возобладал гамбургский счет, первоочередной задачей становится формирование комплексного подхода к ее многообразным и порой противоречащим друг другу составляющим. В частности, заслуживают серьезного внимания факты и тенденции, обладавшие высоким идейным потенциалом и в новом качестве проявившие себя на современном этапе ее развития. К числу таких тенденций относится усиление центробежных импульсов, связанное с возросшим субъективизмом искусства XX века. В то время как историческая действительность все сильнее подвергалась унификации (что способствовало возникновению к жизни феномена массовой культуры), художественное сознание отвоевывало для себя право на недопустимую ранее автономность.
Уже к началу 1910;х годов в отечественной поэзии обозначилась группа авторов, в большей или меньшей степени репрезентирующих маргинальное сознание, которое было впервые охарактеризовано Р. Парком лишь два десятилетия спустя. Дистанцировавшись от ведущих проектов своего времени, эти художники исповедовали искусство как сугубо частное дело, что подтверждалось практикой литературного отшельничества, юродства и изгойства — вплоть до полного ухода из литературы. Наиболее талантливые из них — такие как А. Добролюбов, И. Анненский, М. Волошин, М. Кузмин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева — со временем были признаны влиятельными фигурами, предварившими дальнейшее развитие русской лирики. Одновременно с этим маргинальный склад сознания и перспективы его художественного воплощения получили точную оценку со стороны крупных мыслителей Серебряного века — Вяч. Иванова и В. Розанова. Обозначение сути проблемы, вошедшей в гуманитарный дискурс XX века под именем маргинальное&trade-, стало прозрением русского ренессанса о современном состоянии культуры, которая переживает крупнейший за все время своего существования конфликт с цивилизацией.
Поскольку опыт XX века — века мировых войн, Хиросимы и Холокостасам по себе стал для человечества пороговой ситуацией (ср. у Е. Кузьминой-Караваевой: «Мы все стоим у нового порога,/ Его переступить не всем дано, -/ Испуганных, отпавших будет много» [147, 269]), маргинальный дискурс приобрел всеобщее значение, а фигуры поэтов и мыслителей, некогда попадавших в разряд «одиноких», оказались провозвестниками нового пути человечества. Кроме того, принципиально важно, что в литературе 1910;х годов, впервые открывшей для себя потенциал носителей маргинального сознания (в связи с чем мы берем на себя смелость говорить о ситуации маргинального взрыва), был наработан арсенал художественных средств, обеспечивших состоятельность этого дискурса. В экспериментах перечисленных нами поэтов сказывались крайности модернистского жизнетворчества — вплоть до полного разрыва с литературой, осуществленного А. Добролюбовым, радикализм в восприятии символистской поэтики (отсюда их неспособность слиться ни с одним из постсимволистских течений) и идеи синтеза искусств, хотя все эти тенденции сочетались с глубоким традиционализмом в понимании миссии художника и трепетным отношением к классическому наследию. Одним из существенных аспектов нашей работы представляется обоснование своеобразного историзма поэтики М. Волошина, Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой, ощутимо повлиявшей на формы художественного «самостоянья» поэтов середины и конца XX века. Актуальность исследования. Первая попытка вычленить общие черты, присущие творчеству поэтов маргинального сознания, актуальна в связи с назревшей необходимостью адекватного прочтения этой страницы русской литературы XX столетия. Она поможет принципиально обновить представления о поэзии Серебряного века, обнаружить ранее недооцененную взаимосвязь между центробежными тенденциями в культуре начала и конца минувшего столетия. Наконец, она позволит отечественным литературоведам расширить рамки диалога с зарубежными коллегами, которые плодотворно исследуют литературную маргинальность в свете последних достижений социологии, психологии и других гуманитарных дисциплин. Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследование выполнено на кафедре русской и зарубежной литературы РУДН в рамках комплексной темы «Основные тенденции мирового литературного процесса».
Цель и задачи исследования
Изучение творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой проводилось с целью выявления роли поэтов маргинального сознания в литературном процессе начала XX века, что, в свою очередь, способствует формированию целостного взгляда на этот период в развитии русской литературы.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
— представить феномен маргинальное&tradeв историко-литературном аспекте;
— показать своеобразие воплощения маргинального сознания в литературном тексте на материале творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой;
— осуществить анализ произведений, наиболее репрезентативных для художественного мира названных поэтов, определить соотношение в них центростремительных и центробежных тенденций;
— охарактеризовать литературные и внелитературные факторы, влияющие на формирование поэтов маргинального сознания;
— соотнести идейно-художественные искания М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой с основными течениями искусства начала века, уясняя характер их взаимосвязи с литературой своего времени;
— оценить роль других форм творчества (в частности, живописи) и концепции синтеза искусств в художественном наследии поэтов маргинального сознания;
— охарактеризовать этические принципы М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой и близких им поэтов, определить особенности их жизнетворчества;
Объект исследования — творчество М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой, представленное в широком контексте литературы начала XX века, в частности, в соотнесении с произведениями других поэтов маргинального сознания — И. Анненского, А. Добролюбова, М. Кузмина и др. Предмет исследования — маргинальное сознание в поэзии начала XX века, а также пути и способы его реализации в рамках русской литературной традиции. Методы исследования. Теоретической основой диссертации являются работы современных ученых по проблемам поэтики (Ю.М. Лотман, З. Г. Минц, С. Н. Бройтман, Н. А. Богомолов, М. Н. Виролайнен, А. К. Жолковский, И. П. Смирнов, В. И. Тюпа, Т. В. Цивьян, Н. А. Фатеева, Е. Г. Эткинд, А. Ханзен-Леве, Ж. Старобинский, М. Цимборска-Лебода, Э. Хьюз, С. Хатчингс, У. Эко), философии и психологии творчества (A.M. Пятигорский, М. Бланшо, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лакан, В. В. Иванов, М. Мамардашвили, В. П. Руднев, М.Н.Эпштейн), литературной эволюции (эволюционные идеи Ю. Н. Тынянова и.
B.Б. Шкловского в интерпретации Ю.М. ЛотманаИ.П. Смирнов, Н. В. Дзуцева,.
C.И. Кормилов, Н.Ю. Грякалова). В определении признаков маргинального сознания автор опирался на получившие признание концепции социологов, психологов и культурологов — Р. Парка, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, М. Фуко, Т. Шибутани, Б. С. Ерасова, А. И. Атояна и др.
В соответствии со спецификой исследуемого материала были применены методы системного, сравнительно-генетического и сравнительно-типологического анализа, а также методики целостного и интертекстуального анализа художественного произведения. В контексте нашей работы оказались исключительно актуальными методологические разработки Е. Г. Эткинда, обосновавшего концепцию психопоэтики, а также бахтинская идея событийности произведения (триединое событие создания — созерцанияпонимания), отраженная современными практиками его анализа, особенно последовательно у М. М. Гиршмана. Рассмотрение литературного произведения как «воплощаемой первичности общения, которое адекватно единству единственных, ответственных и отвечающих личностей Я и Другого» [84, 159], сделало неизбежным обращение к интертексту, приобретающему «онтологическое» значение «процесса текстопорождения» [254, 6]. В той мере, в какой интертекстуальный анализ позволяет определить позицию писателя относительно своих источников, он приближает нас к разгадке «иных культурных кодов» [14, 297], которыми оперируют в своем творчестве поэты маргинального сознания.
В основу исследования была положена гипотеза о растущей роли маргинальных тенденций в русской литературе XX века. Применительно к поэзии начала столетия она рассматривалась на материале творчества трех авторов, сделавших средоточием своих исканий саму проблему маргинального сознания. И М. Волошин, и Е. Гуро, и Е. Кузьмина-Караваева задавались вопросом своей «совместимости» с основным руслом литературы того времени, разрабатывая проблему ее исторических и символических границ. Переживание предельности открывшегося им опыта стало для каждого из поэтов своеобразным «культурным комплексом», проявившимся в пренебрежении условностями литературного быта в пользу сосредоточенной внутренней работы. При этом культурное одиночество так или иначе обернулось для всех названных авторов расширением пространства нравственного и эстетического эксперимента: поэты смело пользовались языком других искусств, в частности, живописи (причем их разноязыкие произведения не только перекликались, но, как это особенно часто бывало у Е. Гуро, принципиально продолжали друг друга), вводили в свои художественные тексты «будничное» (по выражению И. Анненского [6, 507]) слово, веря в его мистическое содержание.
М. Волошин шел к самопознанию через углубленное ознакомление с масонством, теософией, оккультными практиками, а также восприятие традиции герметической поэзии разных эпох. Даже на фоне общей эзотерической открытости Серебряного века опыт поэта оказался исключительным — по интенсивности привнесения философской струи в искусство — явлением: недаром современники (в том числе известный своей ученостью Вяч. Иванов) упрекали М. Волошина в замкнутости, скупости в выражении непосредственных поэтических переживаний. Положение сверхчувствительной Е. Гуро, напротив, определялось ее «подростковой» боязнью внешнего мира, исключительной ранимостью и неуверенностью в себе, обрекавшей на незавершенность самые грандиозные замыслы поэтессы. Вместе с тем эта последовательная незавершенность, возведенная в ранг поэтического принципа, сделала автора «Шарманки» и «Небесных верблюжат» провозвестницей эстетики новой эпохи — что в принципе ощущали уже футуристы, испытавшие ее духовное влияние. Грань восприятия, которую намеревалась превзойти наделенная синестезией Е. Гуро, оказалась горизонтом новых исторических и культурных возможностей — отсюда особый статус поэтессы в современной литературе. Что же касается Е. Кузьминой-Караваевой, чья исключительная роль в русской духовности XX века закреплена фактом церковной канонизации, то ее поэтическое наследие обозначило связь между исканиями творцов Серебряного века и традицией русского православия. Воспитанная на моральном примере А. Блока, переосмыслившая пророчества и заблуждения своих современников — от Вяч. Иванова до М. Волошина, м. Мария дала миру опыт предельной слиянности жизни и творчества, ставший закономерным порождением русской литературы рубежа веков. В этом смысле ее маргинальное сознание (направленное в 1910;е годы на разрыв с господствующими формами жизнетворчества, а в 1930;е годы утвердившее себя в уникальной творческой практике «монашества в миру») стало значительным достижением русской художественной и общественной мысли XX века.
Сопоставительный анализ творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой, а также отдельные наблюдения над поэтикой других родственных им авторов, в частности, И. Анненского, А. Добролюбова, М. Кузмина позволяет уточнить классическое определение маргинального сознания применительно к представителям интеллектуальной элиты, сформировавшимся в России рубежа XIX — XX веков. Дело в том, что маргинальное сознание, для которого, по мысли прародителя этого понятия Р. Парка, характерны «серьезные сомнения относительно своей ценности, неопределенность связей с друзьями и страх предательства с их стороны, тенденция к уходу от неопределенных ситуаций, болезненная застенчивость<.>, одиночество и чрезмерная мечтательность, постоянная озабоченность будущим.» [344, 152], в культурной ситуации 1910;х годов оказалось способным породить новый гуманитарный дискурс, исследующий внутреннее бытие человека в пороговой ситуации. Тем самым оно обнаружило свои сильные черты: мобильность, высокую способность к трансцендированию и своеобразную устойчивость, обусловленную присущим этому сознанию «компонентом закрытости» [14, 297].
Достоверность результатов исследования обеспечивается системным использованием обширных текстовых, в том числе архивных, материалов, сопоставительным анализом произведений М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой в последовательном соотнесении с основными идейно-художественными тенденциями литературы начала XX века, привлечением большого круга авторитетных источников из разных областей гуманитарного знания, в частности, философии, психологии, культурологии и социологии.
Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что:
1. В работе впервые установлена роль поэтов маргинального сознания в русской литературе XX века.
2. На материале творчества М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой впервые описаны формы и пути реализации маргинального сознания в русской культурной традиции.
3. Предложена оригинальная концепция духовной эволюции М. Волошина, в свете которой осуществлено принципиально новое прочтение программных произведений поэта («Киммерийские сумерки», «Corona Astralis»,.
Подмастерье", «Поэту», «Доблесть поэта», «Дом поэта» и др.), а также существенно переосмыслены его дневники, переписка, литературно-критические работы.
4. Предпринята первая попытка всестороннего анализа творчества Е. Гуро — от дебютного сборника «Шарманка» до последних незаконченных произведений, — показана его направленность и эволюция.
5. Решение проблемы «Е. Гуро и русский футуризм» осуществлялось в аспекте диалогов поэтессы с товарищами по цеху, результатом чего стало доказательство ее причастности к футуристическому мифои жизнетворчеству.
6. Впервые предложена целостная концепция творчества Е. Кузьминой-Караваевой: выявлены основные темы и мотивы, осуществлено прочтение всех этапных поэтических произведений (от стихотворений периода «Скифских черепков» до итоговой поэмы «Духов день»), определена эволюция художественных принципов поэтессы.
7. Последовательно решен вопрос о взаимодействии творчества Е. Кузьминой-Караваевой с литературой Серебряного века, в связи с чем получил новую интерпретацию ее лирический диалог с А. Блоком, была осмыслена степень актуальности для ее художественного сознания поэтического опыта В. Соловьева, В. Брюсова, Вяч. Иванова, Н. Гумилева, А. Ахматовой, философских идей Н. Федорова, Н. Бердяева, С. Булгакова, Г. Федотова и др.
8. Произведен системный анализ сборников Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой, показавший своеобразие художественного мышления поэтесс.
9. Анализ поэтических и прозаических текстов М. Волошина, Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой неизменно проводился в соотнесении с их живописными и прочими (вышивка у Е. Кузьминой-Караваевой) художественными работами, что способствует углублению представлений о философии творчества трех поэтов.
Теоретическая значимость диссертации заключается в обосновании и внедрении категории «поэт маргинального сознания" — исследовании стратегий, при помощи которых реализует себя на письме личность маргинального склада в рамках русской культурной традицииосмыслении эволюционных процессов в русской литературе начала XX века в аспекте маргинального сознанияразвитии теории психопоэтики, рассматривающей художественный текст на уровне соотношения «мысль — слово».
Практическое значение полученных результатов определяется возможностью их использования в курсах истории и теории литературы на гуманитарных факультетах высших учебных заведений, в курсах русской литературы средних учебных заведений, а также в работе с учениками старших классов гуманитарных лицеев и гимназий.
Апробация результатов диссертации проведена на IX и XI Волошинских чтениях (Коктебель, 1999 и 2003), X и XI Пушкинских чтениях (Гурзуф, 2000; Керчь, 2001), III Ахматовских чтениях «Женский вектор в русской литературе XX века» (Ливадия, 2003), Международной научной конференции «Постсимволизм как явление культуры» (Москва, РГГУ, 2003), Международной научной конференции «Современные проблемы литературоведения и лингвистики: к 200-летию харьковской филологической школы» (Харьков, Харьковский национальный университет, 2004), V и VI Международных форумах русистов (Ливадия, 2005; Ливадия, 2006), Международном симпозиуме «Глобальный культурный кризис Нового времени и русская словесность» (Шуя, Шуйский государственный педагогический университет, 2006).
В полном объеме диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы РУДН 13 января 2006 года. Публикации. Результаты диссертационного исследования изложены в монографии «Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева)» (25, 57 п. л.) и 18 статьях (общий объем 14,5 п. л.).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Полный объем диссертации 436 страниц. В списке использованных источников 368 наименований, среди которых значительную часть составляют редкие, в том числе зарубежные, издания. В работе впервые вводятся в научный обиход многочисленные архивные материалы из фондов М. Волошина (ИРЛИ, ф. 562), Е. Гуро (РГАЛИ, ф. 134), а также ряда других архивов, связанных с культурой рубежа XIX — XX веков (Государственный музей В. Маяковского, Государственный Русский музей, отделы рукописей РГБ и РНБ). Приложение к диссертации включает в себя иллюстрации, большинство из которых приводится впервые.
Выводы к главе 4.
Нравственный и эстетический опыт Е. Кузьминой-Караваевой, без сомнения, в высшей степени поучителен, поскольку открывает возможности для преодоления маргинализации современного общества. Он свидетельствует о возможности синтеза в многополярном мире, где значительная часть человечества сознает свою принадлежность к нескольким этническим и ^ культурным парадигмам. И действительно, именно в этом мире возрастает шанс почувствовать себя ближним по отношению к каждому встречному, тем самым возвратясь к истокам христианской духовности и превратив свою вынужденную беспочвенность во «всемирную отзывчивость». | Анализ творчества Е. Кузьминой-Караваевой в аспекте маргинального сознания позволил проследить сложную динамику преодоления внутренних конфликтов, идейных колебаний и кризисов, присущую этой удивительной женщине как яркому, во многом типичному представителю своего времени. Нам удалось показать, как изживался ею внутренний раскол, а жажда ухода постепенно сменилась жертвенной обращенностью к миру, с которым связала t свою жизнь смелая революционерка в монашестве. В итоге положение монахини в миру, всецело маргинальное для современного м. Марии церковного сознания, стало прямым путем к святости, отменяющей идеологию времени вечными заповедями Христа. При этом художественное творчество Е. Кузьминой-Караваевой оказалось неотъемлемой частью ее православного дела, поскольку превратилось в духовную практику гармонизации современного человека. Вместе со своим другом и единомышленником Н. Бердяевым м. Мария настаивала на актуальности идеи творчества, подкрепив эту философию собственным опытом поэта, критика, живописца, мастера силуэта и вышивки.
Избранный нами подход позволил впервые охарактеризовать все основные этапы развития авторского сознания поэтессы — от первых сборников «Скифские черепки» и «Дорога» до итоговой поэмы «Духов день», отмеченной пророческим гением зрелой м. Марии. Нам удалось проследить становление концепции синтеза, разрабатывавшейся поэтессой в художественном и религиозном творчестве и ставшей неоспоримым вкладом православной монахини в мировую культуру XX века. Этот краеугольный вопрос нуждается не только в дальнейшем изучении, но и во всесторонней популяризации, ибо в лице Е. Кузьминой-Караваевой русское искусство вновь призывает человека к всечеловечности, обращая его к триединому идеалу истины, добра и красоты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Маргинальность как специфический феномен культуры находит себя в сфере социально-психологического и эстетического парадокса. Она становится новым опытом о человеке, переживающем неоднозначность современного мира. Положение на стыке культур, традиций, родов деятельности делает личность ранимой, но и сверхчувствительной, дисгармоничной, но и по-новому универсальной. Говоря в терминах М. Эпштейна, маргинальность представляет собой «зону культурного риска», в пределах которой «мука раз-двоения» имеет шанс обернуться «праздником у-двоения» [329, 2, 662].
Наследие поэтов, которым посвящено наше исследование, выдвигает на первый план проблему недовольства культурой. Настроение, оказавшееся тенденцией времени и породившее многочисленные интерпретации (от «Неудовлетворенности культурой» (1929) 3. Фрейда до «Неуютности культуры» (1978) Л. Баткина), переживалось маргиналами начала века как драма собственного сознания, творчески-катастрофический разрыв бытия. Пребывание в ангажированном окультуренном пространстве наполнялось для них тоской по органической и целомудренной жизни, сопровождаясь поиском новых форм диалога с природой. Так, Е. Кузьмина-Караваева связывала возрождение с возвратом «к земле», Е. Гуро спасалась укромными локусами, не порабощенными человеком (дача, пригород), М. Волошин узнавал потерянный «рай», родину духа в мифологическом пространстве Коктебеля.
В нашей работе получили объяснение причины неприязни всех трех поэтов к Петербургу, бывшему в начале века культурной столицей России. Символический разрыв с центром знаменовал в их судьбах конфликт с доминирующими формами литературной жизни своего времени. При этом рафинированной эстетике столичных интеллектуалов противопоставлялась эстетика шутовства, юродства и чудачества — так называемая низовая культура, сохранившая близость к самой жизни с ее «неумытой» и доверчивой правдой. Отсюда свойственная всем трем поэтам вещность восприятия, готовность «принять все, что приносит жизнь», искание неканонической, непризнанной красоты, выражающей торжество уникально-неповторимого. Выход на площадь, в карнавал (ср. карнавальные представления в доме М. Волошина) делал искусство для избранных искусством для всех, сообщал творчеству новое качество простоты. Поэт принимал на себя роль карнавального короля (не пиита или демиурга), который вскоре может быть низвергнут и развенчан (ср. миф Е. Гуро об «июньском поденщике», юне июньском, отсылающий также к образам Диониса и Христа). В этом контексте вскрылось своеобразие представлений «одиноких» о христианстве, как о юношеской, а не пекущейся морали — с культом «босого монашка» Франциска Ассизского и русских юродивых.
Как показало наше исследование, в творчестве поэтов маргинального сознания последовательно обозначен конфликт с литературой как пространством определенных норм и закономерностей. Таких авторов сложно причислить к какой-либо школе или направлениюкак правило, они f оказываются «поэтами вне групп», «поэтами вне литературы» вообще. Их литературные связи характеризуются неопределенностью, литературное поведение двойственностью и эксцентричностью. Было обнаружено, что поэты маргинального сознания нередко находят себя в пространствах, граничащих с литературой, — в переводе, критике, преподавательской деятельности. Неуверенные в своих силах и избегающие публичности, они, по обыкновению, сравнительно поздно дебютируют (ср. первые сборники М. Волошина, И. Анненского, Е. Гуро). И даже в этом случае «литературные изгнанники» могут скрываться за псевдонимами, как это было с И. Анненским и Е. Дмитриевой. И. Анненский издал свою первую книгу под символическим псевдонимом Ник. t Т-о (что, в числе прочего, означало отсутствие литературного статуса) — Е. Дмитриева, напротив, выступила под именем, полностью соответствующим читательским ожиданиям того времени и подходящим «высокой литературе» больше, чем ее собственное. Особый случай представляет собой «псевдоним» Е. Гуро Элеонора фон Нотенберг — имя ее героини, писавшееся рядом с именем самой поэтессы и породившее немало легенд и недоразумений. Можно сказать, что экзотичный аристократический образ Элеоноры позволял Е. Гуро пересказывать свои подлинные видения без страха быть осмеянной.
Предложенная концепция обнаруживает свою продуктивность в дальнейшем изучении литературных стратегий Серебряного века. Так, обозначенная нами проблема «другого имени» особенно актуальна, если учесть, что ведущие поэты-модернисты ставили во взаимосвязь имя и творчество, творили себе имя (ср. цветаевский миф о Марине, ахматовский об Анне и «фамилии» Ахматова, хлебниковский о Велимире). Имя становилось квинтэссенцией лирического мироощущения, обоснованием личности. На этом фоне псевдоним маргинального поэта видится откровенной стилизацией, маской, скрывающей трагическое лицо Пьеро. Он не более чем форма, оболочка — дополнительная заглушка, защищающая внутреннее от внешнего (не случайно Е. Гуро и М. Волошин обращаются также к мифологическому мотиву «запрета на имя», выдающему их психологическую и социальную f закрытость). В маргинальной ситуации смена имени нередко становилась итогом внутренних исканий — как в случае с м. Марией, поэтапно подписывавшей свои книги «Е. Кузьмина-Караваева», «Ю. Данилов», «Е.Скобцова» и, наконец, «м. Мария" — или свидетельством душевной t раздвоенности, когда жизненное и литературное амплуа поэта существовали, не совпадая, на равных (ср. карнавал разнохарактерных масок Е. Дмитриевой: юношески неопределенная Е. Ли, яркая Черубина де Габриак, наконец, рожденная ташкентской ссылкой откровенно аллегорическая «ссыльный китайский поэт» Ли Сян Цзы)1. Показательная ситуация сложилась вокруг имени М. Волошина. В литературной среде он был известен как эксцентричный *.
1 Позже предельную суеверность в отношении к имени обнаруживал Д. Хармс: так, в 1936 году он сделал попытку сменить псевдоним Хармс на Чармс [302, 126 — 127], дабы избавиться от хронического невезения. Очевидно, именно болезненная неуверенность маргиналов в себе породила проблему «другого имени» в ее психологическом и даже медицинском аспекте.
Макс, хотя стихи подписывал полным именем (то есть критик и поэт не совпадали). Напомним, что именно М. Волошин был автором скандально известного псевдонима Е. Дмитриевойон же предлагал М. Цветаевой создать образ поэта Петухова или, того хуже, поэтов-близнецов. Очевидно, пространство литературы воспринималось им как пространство ложных формализованных ожиданий, провоцирующих поэта к игровому поведению.
Поскольку литература признавалась «одинокими» формализованным пространством, естественной стратегией становилось размывание границ этого пространства. В литературу привносились элементы других искусств (синтез искусств) и элементы быта (в частности, возрастала роль дневниковых подробностей, писем, заметок на полях). Несомненно, что таким образом обновлялся, иногда радикально, язык литературы. Анализ поэтических произведений М. Волошина, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой позволил показать, что параллельно этому процессу происходило размывание самой внутрилитературной нормы. Поэты маргинального сознания приняли на вооружение незаконченность, неканоничность (отсутствие беловой редакции), вариативность (множественность вариантов прочтения), фрагментарность, 1 безвкусицу, стилистическую невнятицу, «наивность» языка (заимствование признаков детской речи). Они в числе первых ощутили преимущества «открытого» произведения (термин У. Эко [327]) — текста, завершающегося только в восприятии читателя. В итоге именно такие поэты показали) «плавкость» языка искусства, его способность отвечать различным читательским ожиданиям. Они ослабили позиции логоцентризма, поставив литературу перед фактом наличия смыслов, не подлежащих словесному обрамлению. Это открытие стало максимой в устах гениального маргинала А. Арто: «Есть тайны культуры, которые невозможно передать через текст» [9, 265].
I В полном соответствии с психологической установкой на выпадение и отстранение, поэты маргинального сознания делают свое творчество топологией ухода — от перехода в другие пространства до ухода в кокон, пространство-вне-читателя. Они охотно пользуются экзотическими топонимами (ср. Скифию в раннем творчестве м. Марии, Александрию М. Кузмина), противопоставляют пространство периферии центру (ср. Коктебель как анти-Петербург у М. Волошина). Их художественный мир, по выражению Вяч. Иванова, выражает «образ замкнутой души» [ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 581], что проявляется в использовании соответствующей символики. Так, И. Анненский назвал свою книгу стихов «Кипарисовый ларец», В. Розанов выпустил два «короба» «Опавших листьев», Е. Гуро избрала для дебютного сборника красноречивое заглавие «Шарманка» (для доминирующего в этой книге детского сознания шарманка — не только компактный инструмент вне оркестра, но и ящик с секретом внутри). I.
Согласно психоанализу, коробка, шкатулка, ларец и другие аналогичные символы подразумевают женщину и вообще женское начало. Однако «женское» может выступать как маргинальное, рецессивное в культуре, опирающейся на творчество мужчин. В то время как Е. Гуро ощущала «женскость» некой социальной помехой, М. Волошин всерьез размышлял о своей психокультурной женственности (ср. его заключение о том, что пол души ^ «обратен полу тела» [59, 166]), а В. Розанов вообще признавал, что мужского в нем — только брюки [230, 27]. Скрытая или явная неуверенность в успехе нередко заставляла литературных маргиналов мыслить и говорить «по женскому типу». Отсюда повышенная чувствительность (ср. лирику f М. Кузмина), нелогичность, фрагментарность и обилие пауз. Таким образом, складываются предпосылки для изучения проблемы поэтов маргинального сознания в тендерном аспекте, что позволит привлечь к активному рассмотрению целый ряд персоналий, связывавших свое изгойство преимущественно с проблемой пола (С. Парнок, А. Герцык и др.).
Исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что творчество I «одиноких» постоянно озабочено освоением пороговых ситуаций и состояний (причем эта тематическая и стилистическая направленность напрямую обусловлена внутренним опытом самих поэтов). Лирический герой пребывает в ситуации выбора, видит себя на перекрестке, на грани. Так, для Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой значим символ окна, водораздела между внутренним и внешним миромпри этом героиня Е. Гуро находится внутри огороженного пространства, в «скворечнике», из которого смотрит на странную и жестокую реальность, а м. Мария, напротив, заглядывает в окна, поражаясь маленькой частной жизни обыкновенных людей. Стабильным интересом пользуются у поэтов маргинального сознания пограничные формы сна, видения, прозрения, экстаза. Свойства этих состояний нередко приписываются искусству как некой промежуточной реальности между реальностью земной и небесной (ср. концепцию «театра как сонного видения» у М. Волошина).
Нам удалось установить, что в лирике всех трех поэтов наблюдается характерное, значимое взаимодействие следующих лейтмотивов: пути/ странствия, пустыни (ср. у М. Волошина пустыню юношеской лирики и пустыню Коктебеля, у Е. Гуро пустыню как место уединения, пространство «разреженного воздуха», у м. Марии пустыню человеческого сердца и пустыню мира как место проповедничества), огня (ср. огненное крещение у Е. Кузьминой-Караваевой и М. Волошина, огненную крылатость — голубь-дух, «Серафим, Фенист — у всех трех поэтов) и границы/ края. Налицо вариативный мифологический сюжет: герой-странник попадает в пустыню, где, на границе миров, удостаивается огненного крещения и «прозревает». Отныне его миссия — нести соплеменникам весть о духовных основах мироздания. Этот сюжет «недвусмысленно намекает на классический текст пушкинского «Пророка», становящийся опорным для всех названных поэтов. Учитывая, что герой стихотворения обретает божественный глагол после предварительной утраты речи (см. об этом глубокие размышления в недавно изданной книге М. Виролайнен [57, 445 — 468]), нетрудно различить специфические обертоны, привнесенные в ситуацию «Пророка» «литературными изгнанниками». } Временный или даже постоянный отказ от участия в литературной жизни, изживание авторского себялюбия и самолюбования становятся творческой стратегией маргиналов, освященной для них высокой поэтической традицией.
Следовательно, одна из ключевых тем русской лирики перелицовывается поэтами маргинального сознания, которые понимают пророческую миссию поэта не символически, а буквально. Так, м. Мария видит себя в библейской ситуации Савла/ Павла, жизнь которого «опрокидывает» ниспосланный свыше дар проповедничества. Е. Гуро уподобляет себя библейской Елизавете, матери Иоанна Крестителя, передающей право на высказывание лирическому герою-сыну, самому воплощенному Духу. М. Волошин, чье мироощущение сохранило явные следы гностических и оккультных учений, сосредотачивается на роли «подмастерья», отражающего в словесной ткани меру и вес иной реальности. Неудивительно, что все три поэта предприняли грандиозные попытки написать историю духа, его проявления в истории человечества. Е. Гуро считала делом своей жизни незаконченную повесть «Бедный рыцарь», М. Волошин на протяжении многих лет трудился над также незаконченной поэмой «Путями Каина», м. Мария выразила свои сокровенные размышления об эре Духа и Апокалипсисе в поэме «Духов день». Все три произведения открыты для сопереживания читателя и для самого мира, «последнее слово» о котором все еще не сказано. Глашатаи иной реальности, маргиналы предписывают поэзии ^ духовные сверхзадачи, тем самым максимально сближая религиозное и художественное творчество. Тайным средоточием искусства «одиноких» становится тема благодати (как инспирированного свыше вдохновения) и связанная с ней интенция к святости. При такой установке реальность * литературы воспринимается как внешняя и малозначительная, а «авторские права» добровольно отдаются Творцу, который решает, обретет поэт славу или навсегда останется безвестным.
В связи со смыслообразующей интенцией к святости надлежит сделать еще одно заключение. В русской традиции маргинальным поэтам в меньшей мере, чем в западной, присущ пафос нравственного эксперимента, i опровержения моральных устоев. Экстремальные идеи де Сада, Ф. Ницше (его анти-христианство), А. Арто будут усвоены лишь русскими маргиналами «второго призыва» — Э. Лимоновым, Н. Медведевой, А. Витухновской, наконец. Это свойство обусловлено нравственным кодом классической русской литературы, ее «святостью», возведенной в ранг эстетического правила (иначе говоря, в русской культуре красота оправдывалась нравственностью, а не наоборот). До событий 1917 года, пока такой код, находившийся во взаимодействии с православной традицией, оставался доминантным, пространство нравственного эксперимента не было прерогативой литературы, не воспринималось поэтами как пространство творческого поиска. К 1970;м годам, по сути ставшим эпохой второго маргинального взрыва, ситуация коренным образом изменилась. Место вечных ценностей в общественном сознании было занято небесспорными идеалами коллективного благополучия, вызвавшими негативную реакцию отечественных интеллектуалов, — так же, как в свое время реагировали на лицемерные устои общества интеллектуалы западные. Маргиналы начала XX века, с их обостренной жаждой добра и красоты, порой казались наивными, излишне целомудренными (ср. князь Мышкина или Дон Кихота — «учителей» наших поэтов) даже на фоне своего времени. Недаром всезнающий Вяч. Иванов говорил именно о «бездомности лучших душ в современной культуре», о юродивых, самой своей жертвой ^ возвещающих «новый день духа» [122,164].
Особого внимания заслуживает также философия эроса, сложившаяся в жизни и творчестве поэтов маргинального сознания. Речь идет об эросе, превосходящем всякие границы, в том числе, границы пола, — эросе созидания I и творчества. Этот «преображенный эрос», связанный с женственным растворением, слиянием, сострадательным наклоном к ближнему, означает, прежде всего, новую ступень сознания, новую степень открытости художника миру. На раннем этапе и у М. Волошина, и у Е. Гуро, и у Е. Кузьминой-Караваевой философия пола носила софийный характер, выливаясь в тему сакрального брака, с традиционным мотивом ожидания Вечной Невесты f (Жениха). Однако позже она лишилась неоромантической компоненты, став целенаправленной концепцией самоотдачи, соучастия в замысле Творца. В сознании всех трех художников эрос навсегда слился с красотой материнства, их нравственным идеалом стала Богородица (ср. идею «подражания Богоматери» у м. Марии, тему Богородицы в позднем творчестве М. Волошина, материнство как краеугольный камень мифотворчества и жизнетворчества Е. Гуро). Этот благодатный идеал воспринимался как символ пути, на котором вся полнота человеческого творчества должна принять всю полноту Откровения.
Показательно, что именно м. Мария, с особенной остротой ощущавшая дух своего времени, переосмыслившая роль творчества и культуры, дала миру новый образ русской святости. Ее подвижническая жизнь в эмиграции, вылившаяся в создание объединения «Православное дело», ее героическая смерть в фашистском концлагере Равенсбрюк и последовавшая через много лет канонизация — не только и не столько приговор, сколько оправдание Серебряного века. Став русской монахиней в эмиграции (куда, казалось бы, «маргинальней»?), Е. Кузьмина-Караваева сформулировала общезначимые максимы, призванные способствовать возрождению русской духовности и культуры. И главная из них: любая эмиграция, любое переживание человеком своей отверженности, могут и должны усиливать его потребность в истине и добре. Жизненные обстоятельства, как будто отделяющие человека от современной культуры, на деле способствуют приобщению к первоосновам творческой и религиозной жизни.
Именно об этом, думается, свидетельствует опыт всех трех описанных нами художников. И не поэтому ли значение их творчества и судьбы неизменно возрастает, находя новых вдумчивых читателей и последователей?
Проведенное исследование, таким образом, открывает широкие перспективы для изучения тенденций современного литературного процесса в свете традиции, заложенной М. Волошиным, Е. Гуро, Е. Кузьминой-Караваевой и другими поэтами маргинального сознания. Оно доказывает продуктивность идей, привнесенных в литературу этими авторами, тем самым ставя литературоведение перед необходимостью тщательного изучения альтернативных, потенциальных моделей ее развития. Становится также очевидным, что назрела потребность в обновленном подходе к творчеству и жизненной философии других поэтов маргинального сознания (в первую очередь, И. Анненского, М. Кузмина, А. Добролюбова), перспективном для дальнейшего уточнения самого этого понятия и важном для более глубокой оценки роли этих поэтов в искусстве прошлого столетия. Что же касается литературной истории Серебряного века, то она уже сегодня не может претендовать на полноту без многогранного освещения опыта «одиноких», даже в своем «юродстве» возвещавших современникам о «новом дне духа».
При общем полицентризме современной культуры роль маргиналов оказывается крайне высокой. И хотя маргинальный дискурс можно охарактеризовать как мерцающий, прерывистый и нелогоцентричный (ведь его участники склонны самостоятельно экспериментировать со словом и вообще недоговаривать), он представляет собой пространство речевой свободы, где бесконечно рождаются новые ценностные смыслы. XX век показал, что носители «иного» сознания достойны быть услышанными, а индивидуальный творческий опыт художника всегда ставит его на грань разумного. И если сегодня периферия и центр, рецессивное и доминантное в культуре все чаще меняются местами, значит, происходит дальнейшее углубление современного человека, о котором писал непризнанный классик В. Розанов.
Список литературы
- Абрамова И.А. М. Волошин в 1920-е годы: поэзия и позиция. Автореферат дис. канд. филол. наук.-М., 1994.-21 с.
- Аввакум (протопоп). Житие протопопа Аввакума им самим написанное, и другие его сочинения.-Архангельск: Сев.-зап. книжн. изд-во, 1990.-351 с.
- Аверинцев С.С. Соф1я -Логос. Словник Киев: Дух i Лггера, 1999.-464 с.
- Агеева Л. «Петербург меня победил.». Документальное повествование о жизни Е.Ю. Кузьминой-Караваевой матери Марии. — СПб.: Издательство «Журнал „Нева“», 2003. — 400 с.
- Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М.: Прогресс -Традиция, 2001.-400 с.
- Анненский И.Ф. Избранное. М.: Правда, 1987. — 592 с.
- Анненский И.Ф. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1988.-734 с.
- Аржаковская-Клепинина Е. Звезда Давида. Мать Мария и судьба еврейского народа // Христианос. 1999. — № 8. — С. 102 — 112.
- Арто А. Три лекции, прочитанные в университете Мехико // Арто А. Театр и его двойник. СПб., 2000. — С. 241 — 272.
- Ю.Арутюнова Н. Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур.-М., 1994.-С. 302−316.
- Архиепископ Иоанн Сан-Францизский (Шаховской). Мать Мария // Архиепископ Иоанн Сан-Францизский (Шаховской). Собр. соч.: В 2 т. -Н. Новгород: Изд-во Братства во имя св. кн. Ал-дра Невского, 1984. Т.1. -С. 167- 173.
- Архимандрит Виктор (Мамонтов). Тайна умаления // Христианос. 2002. -№ 11.-С. 69−85.
- З.Асафьев Б. В. (Игорь Глебов). Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. Л.: Музыка, 1971 — 376 с.
- Атоян А.И. Социомаргиналистика. Луганск: Редакц. — издат. отдел ЛИВД МВД Украины, 1999. — 454 с.
- Ахматова А.А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Эллис Лак, 1998 — 2001. -6 т.
- Бальмонт К.Д. Светлый час: Стихотворения и переводы из 50 книг. М.: Республика, 1992.-590 с.
- П.Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М.: Наука, 1982. — 720 с.
- Баркова А.А. Вечно не та. М.: Фонд Сергея Дубова, 2002. — 624 с.
- Басин И. Эсхатология преподобного Серафима Саровского// Христианос. -1996.-№ 5. с. 89−106.
- Бахтин М.М. Искусство и ответственность// Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994. — С. 5 — 8.
- Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. -Киев, 1994.-С. 9−68.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений. М.: Русские словари, 1997. — Т. 5. Работы 1940-х — начала 60-х годов. — 731 с.
- Башляр Г. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое // Башляр
- Белова Д.Н. Образ Богоматери эстетический идеал православия // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 2001. — № 5. — С. 64 — 94.
- Белый А. Между двух революций. М.: Худож. лит., 1990. — 670 с.
- Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Худож. лит., 1989. — 543 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание. -М.: Республика, 1994. 528с.
- Бердяев Н.А. Очарование отраженных культур. О Вяч. Иванове // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства: В 2 т. М., 1994. -Т.2.-С. 389−399.
- Бердяев Н.А. Памяти монахини Марии (Скобцовой) // Вестник РСХД. -Париж Нью-Йорк, 1965.-№ 78.-С. 21 -23.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства: В 2 т. -М., 1994. Т. 1. — С. 37−341.
- Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры, искусства: В 2 т. М.: Искусство, 1994. — 2 т.
- Блок А.А. Записные книжки. 1901 1920. -М.: Худож. лит., 1965. — 663с.
- Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003.-302 с.
- Богат Е. Мать Мария: Мифы, версии, достоверности // Юность. 1986. -№ 4.-С. 86- 92.
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX начала XX века в свете исторической поэтики. (Субъектно-образная структура). — М.: РГГУ, 1997.-307 с.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Худож. лит., 1973 — 1975. -7 т.
- Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа, 1993. — 175 с.
- Булгаков С.Н. Автобиографические заметки. Париж: Ymca-Press, 1946. — 165 с.
- Булгаков С.Н. Купина неопалимая. Опыт догматического истолкованиянекоторых черт в православном почитании Богоматери. Париж: Ymca-Press, 1927.-289 с.
- Булгаков С.Н. Об особом религиозном призвании нашего времени. -Прага, 1923. Оттиск журнала «Духовный мир студенчества» (№ 3).- 7 с.
- Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения православной церкви. М.: Терра, 1991.-416 с.
- Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994.-415 с.
- Бурлюк Д.Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1994. — 382 с.
- Бурлюк Д.Д., Бурлюк Н.Д Стихотворения. СПБ.: Академический проект, 2002. — 584 с.
- Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. М.-Иерусалим: Г Саламандра, 1997. — 175 с.
- Вейль С. Укоренение. Письмо клирику. К.: Дух i лггера, 2000. — 350 с.
- Виролайнен М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Амфора, 2003. — 503 с.
- Волошин М.А. Демоны глухонемые: Стихотворения. Харьков: Камена, 1919.-58 с.
- Волошин М.А. Записные книжки. М.: Вагриус, 2000. — 173 с.
- Волошин М.А. Иверни. -М.: Творчество, 1918. 136 с.
- Волошин М.А. История моей души. М.:. Аграф, 1999. — 480 с.
- Волошин М.А. Коктебельские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи. -Симферополь: Таврия, 1990. 248 с.
- Волошин М.А. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. — 848 с.
- Волошин М.А. Письма к А. В. Гольштейн // Звезда. 1998. -№ 4. — С. 143 -178.
- Волошин М.А. Предисловие к «Протопопу Аввакуму»/ Подг. текста В. Купченко // Север. 1990. -№ 2. — С. 154 — 157.
- Волошин М.А. Путник по вселенным. -М.: Сов. Россия, 1990. 384 с.
- Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2003 — 2004. -Т. 1,2.
- Волошин М.А. Стихотворения. М.: Книга, 1989. — 543 с.
- Волошин М.А. Стихотворения и поэмы: В 2 т.-Paris: Ymca-Press, 19 842 т.
- Волошина М.В. (М.В. Сабашникова). Зеленая Змея. История одной жизни.-М.: Энигма, 1993.-413 с.
- Волошина М.С. О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма. -Феодосия М.: Издательский дом Коктебель, 2003. — 368 с.
- Волошинские чтения: Сб. науч. тр. М.: Гос. ордена Ленина библиотека СССР им. Ленина, Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, Дом-музей М. Волошина, 1981. — 135 с.
- Восхождение: О жизни и творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. -Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1995. -95с.
- Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. Проблема Закона и Благодати // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. -С. 13−152.
- Гаккель С. Мать Мария. М.: Всецерковное Православное Молодежное Движение, 1993.- 172 с.
- Гаккель С. На страже свободы (мать Мария и Николай Бердяев) // Христианос. 2000. — № 9. — С. 65 — 81.
- Гейне Г. Собрание сочинений: В 6 т. М. Худож. лит., 1980 — 1983. — 6 т.
- Герцык А. Стихи и проза. В 2 т. М.: Возвращение, 1993. — 2 т.
- Герцык Е. Воспоминания (Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, В. Иванов, М. Волошин, А. Герцык). Paris: Ymca-Press, 1973. — 193 с.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997. — 407 с.
- Гиршман М.М. М. Бахтин и М. Бубер о художественном произведении // Гиршман М.М. Избранные статьи. Донецк, 1996. — С. 155 — 159.
- Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI XIX вв. — М.: Московский рабочий, 1991.-351 с.
- Гуро Е.Г. Записные книжки (1908 1913). — СПб.: Фонд русской поэзии, 1997.-106 с.
- Гуро Е.Г. Небесные верблюжата. СПб.: Журавль, 1914. — 126 с.
- Гуро Е. Г. Небесные верблюжата. СПб: ЛИМБУ С ПРЕСС, 2001. — 243 с.
- Гуро Е.Г. Небесные верблюжата. Избранное. Ростов н/ Д: Изд-во Ростовск. ун-та, 1993.-285 с.
- Гуро Е.Г. Осенний сон. Пьеса в четырех картинах. СПб.: Сириус, 1912. -57 с.
- Гуро Е.Г. Шарманка. СПб.: Сириус, 1909. — 218 с.
- Гурьянова Н. От импрессионизма к абстракции: живопись и графика Е. Гуро// Искусство. 1992. — № 1. — С. 53 — 59.
- Давыдов З. Д. Шварцбанд С.М. ". И голос мой набат" (О книге М. А. Волошина «Демоны глухонемые»). — Pisa: ECIG, 1997. — 136 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1991. — 4 т.
- Данилова Е.Н., Ядов В. А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ // Социологические исследования. 2004. -№ 10.-С. 27−30.
- Делез Ж. Бергсонизм // Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о | способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000. — С. 93 — 192.
- Делез Ж. Критика и клиника. СПб.: Machina, 2002. — 239 с.
- Делез Ж. Ницше. СПб: Аксиома, Кольна, 1997. — 186 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип, j Сокращенный перевод-реферат М. К. Рыклина. М.: АН СССР, Институтнаучной информации по общим наукам, 1990. 107 с.
- Деррида Ж. Когито и история безумия // Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. — С. 54 — 104.
- Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь: В 2 т. М.: Вече, ACT, 1999. — 2 т.
- Дзуцева Н.В. Время заветов: Проблемы поэтики и эстетикипостсимволизма. Иваново: Ивановский гос. университет, 1999. — 130 с.
- Дмитриева Е. Автобиография // Черубина де Габриак. Автобиография. Избранные статьи. М., 1989. — С. 23 — 30.
- Добролюбовъ А. Изъ книги невидимой. М.: Скоршонъ, 1905. -208 с.
- Дравич А. Хлебников mundi constructor // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 — 1998). — М., 2000. — С. 490 -502.
- Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок. — СПб: Российская национальная библиотека, 2000. 224 с.
- Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.: Аспект Пресс, 1996. -591 с.
- Жолковский А.К. Блуждающие сны. Из истории русского модернизма: Сборник статей. М.: Сов. писатель, 1992. — 432 с.
- Зайонц Л.О. Русский провинциальный «миф» (к проблеме культурной типологии) // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М., 2004. — С. 427 — 456.
- Захарова Ю.А. Глубинная экология и экологическая интуиция в русской поэзии XIX XX веков // Экологические интуиции в русской культуре: Сб. обзоров/ Отв. редактор В. Ермолаева. — М., 1992 — С. 55−73.
- Зеньковский В. Наша эпоха. Париж: Изд-е Религиозно-Педагогического Кабинета при Православном Богословском Институте в Париже, 1959.-47 с.
- Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. -Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1999. — 912 с.
- Иванов В.И. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. -М.: Мусагет, 1916.-352 с.
- Иванов В.И. По звездам. Опыты философские, эстетические и критические: Статьи и афоризмы. СПб.: Оры, 1909. — 438 с.
- Иванов В.И. Marginalia. Вольфинг, «Модернизм и музыка». -Зенкевич, «Дикая порфира». Гуро, «Осенний сон» // Труды и дни. -1912.-№ 4−5.-С. 38−45.
- Иванов В.И. Родное и вселенское М.: Республика, 1994. — 428 с.
- Иванов В.И. Собрание сочинений: В 4 т.- Брюссель, 1971 1987. -4 т.
- Иванов В.И. Чурлянис и проблема синтеза искусств// Иванов В. И. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971 — 1987.-Т.З.-С. 147- 170.
- Идея «Общего дела» Запись по памяти некоторых мыслей доклада проф. протоиерея о. С. Булгакова // Вестник РСХД. — 1934. — № 10. — С. 9 -18.
- Из переписки М. Кузмина с В. И. Ивановым (Публикация Н.А. Богомолова) // Филол. науки. 2002. — № 3. — С. 89 — 104.
- Иныпакова Е. Ю. «До конца я тоже избегаю быть женщиной.». Неизвестные материалы о творчестве Елены Гуро // Амазонки авангарда. -М., 2001. С. 98−104.
- Каменский В.В. Сочинения. Репринтное воспроизведение изданий 1914, 1916, 1918 гг. с приложением.-М.: Книга, 1990.-591 с.
- Каменский В.В. Степан Разин. Пушкин и Дантес. Кафе поэтов. -М.: Правда, 1991.-640 с.
- Карсавин Л.П. О началах. Берлин: Обелиск, 1925. — 191 с.
- Каухчишвили Н. Русская «география душевная» и эмиграция (мать Мария Скобцова) // Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация. Материалы международного семинара. Тарту, 1997.-427 с.
- XIX XX веков. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 336 с.
- Корецкая И.В. Над страницами русской поэзии и прозы начала XXвека. -М.: Радикс, 1995. 380 с.
- Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения. -М.: МГУ, 1995.- 157 с.
- Красицкий С.Р. О Крученых // Крученых А. Е. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб., 2001. — С. 5 — 40. г 142. Красицкий С. Р. Поэты Бурлюки // Бурлюк Д. Д., Бурлюк Н.Д.
- Стихотворения. СПб, 2002. — С. 23 — 26.
- Крогман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. Челябинск: Аркаим, 2002.-319 с.
- Крученых А.Е. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб.: Академический проект, 2001. — 480 с.
- Кузмин М.А. Дневник 1905 1907 / Предисл., подг. текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. — 608 с.
- Кузьмина-Караваева Е.Ю. (Мать Мария). Жатва духа: Религиозно-философские сочинения. СПб.: Искусство, 2004. — 566 с.
- Кузьмина-Караваева Е. Ю. Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. t
- Письма. СПб.: Искусство, 2001. — 761 с.
- Кузьмина-Караваева Е. Ю. Руфь. Пг.: Типография Акционерного Общества Типографского Дела в Петрограде, 1916. — 111 с.
- Кузьмина-Караваева Е. Ю. Скифские черепки. Спб.: Цех поэтов, 1912.-45 с.
- Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2 т. СПб.: Университетская книга- ООО «Алетейя», 1998. — 2 т. i 152. Купченко В. П. Жизнь Максимилиана Волошина. Документальноеповествование. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000. — 400 с.
- Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877 1916. — СПб.: Алетейя, 2002. — 512 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995.- 192 с.
- Лакан Ж. Я в теории Фрейда и технике психоанализа. М.: Гнозис- Логос, 1999.-520 с.
- Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический объект// Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1998. — Вып. 831. Труды по знаковым системам. 22: Зеркало: Семиотика зеркальности. — С. 6 — 24.
- Лекманов О.А. Книга стихов как «большая форма» в русской поэтической культуре начала XX века. О. Э. Мандельштам «Камень» (1913).-Автореферат дис.канд. филол. наук.-М., 1995.- 16с.
- Лепахин В. Икона в русской поэзии XX века. Сегед: Jatepress, 1999.-244 с.
- Лившиц Б. Полутороглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Сов. писатель, 1989. — 720 с.
- Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие имя — космос. -М&bdquo- 1993.-С. 613−801.
- Лосский И.О. Условия абсолютного добра: Основы этики. Характер F русского народа. М.: Политиздат, 1991. — 368 с.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. — С. 150 — 391.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. -i СПб., 2001.-С. 12−149.
- Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965.
- Вып. 181. Труды по знаковым системам. И.-С. 210−216.
- Лотман Ю.М. Об искусстве: Структура худож. текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи, заметки, выступления. СПб.: Искусство, 1998.-702 с.
- М.А. Волошин поэт и мыслитель. Материалы X международной научной конференции. — Симферополь: Крымский архив, 2001. — 238 с.
- Малевич К.С. В. Хлебников // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 1998). — М., 2000. — С. 182 — 185. f 174. Малларме С. Сочинения в стихах и прозе: Сборник. М.: Радуга, 1995.-568 с.
- Манухина Т. Мать Мария. К 10-летию со дня кончины // Новый журнал. Нью-Йорк, 1955. -№ XLI. — С. 137 — 157.
- Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб.: Алетейя, 2000. -414 с.
- Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Проблема человека в западной философии. М., 1988. — С. 404 — 419.
- Масленников Д.Б. Словарь окказиональной лексики футуризма. -Уфа: Изд-во БГПУ, 2000. 140 с.
- Материалы Волошинских чтений 1989 года (тезисы докладов, статьи, сообщения). Коктебель: Дом Поэта, 1995. — 89 с.
- Материалы Волошинских чтений 1991 года (тезисы докладов, статьи, сообщения). Коктебель: Дом Поэта, 1997. — 117 с.
- Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, статьи, очерки: В 2 т. -Paris: YMKA-PRESS, 1992. 2 т.
- Мать Мария (Скобцова). Красота спасающая: живопись, графика, вышивка. СПб.: Искусство, 2004. — 204 с.
- Мать Мария (Скобцова). 1891 1945 / Мёге Marie. Et son Art. -СПб.: Глобус, 2002. — 30 с.
- Мать Мария. Стихи. Берлин: Петрополис, 1929.
- Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Париж, 1947. — 165 с.
- Матюшин М. Русские кубофутуристы / Предисловие, редакция и комментарии Н. Харджиева // Харджиев Н. И. статьи об авангарде: В 2 т. -М., 1997.- Т. 1.-С. 149−171.
- Маяковский В.В. Сочинения: В 2 т. М.: Правда, 1987. — 2 т.
- Менделевич Э.С. Пойми простой урок моей земли. Орел.: Труд, 2001.-160 с.
- Мешков Ю. Смотревшая «в глаза судьбы» // Молодая гвардия. -1992.-№ 1−2.-С. 264−270.
- Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). М.: Владос, 1999. — 360 с.
- Минц З.Г., Обатнин Г. В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та 1988. — Вып. 831. Труды по знаковым системам. XXII. Зеркало: Семиотика зеркальности. — С. 59 — 65.
- Мирзаев А. «Живите по законам духа.» // Гуро Е. Г. Небесные верблюжата. СПб., 2001. — С. 7 — 17.
- Митрополит Сурожский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. — 415 с.
- Митрополит Сурожский Антоний. Может ли еще молиться современный человек // Школа молитвы. Клин, 2001. — С. 376 — 397.
- Митрополит Сурожский Антоний. Слово о матери Марии // Гаккель С. Мать Мария. М., 1993. — С. 16 — 17.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т./ Гл. ред. С. А. Токарев. -г М.: Сов. энциклопедия, 1991 1992. — 2 т.
- Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М.: Новое лит. обозрение, 1999. — 208 с. г 202. Монтерлан А. Дневники. 1930 1944. — СПб.: Владимир Даль, 2002.- 525 с.
- Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М.: Прогресс, 1989.-304 с.
- Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. — 2 т.
- Обатнин Г. Иванов-мистик (Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907 1919).- М.: Новое лит. обозрение, 2000.-240 с.
- Ортега-и-Гассет X. Новые симптомы // Проблема человека в западной философии. М., 1988. — С. 202 — 206.
- Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998. -415 с.
- Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Худож. лит., 1989 — 1992.-5 т.
- Пинаев С.М. Близкий всем, всему чужой. Максимилиан Волошин в историко-культурном контексте серебряного века. М.: Изд-во РУДН, 1996.-237 с.
- Пинаев С.М. М. Волошин, или Себя забывший бог. М.: Молодая гвардия, 2005. — 661 с.
- Поляков М.Я. Василий Каменский и русский футуризм // Каменский В. В. Сочинения. Репринтное воспроизведение изданий 1914, 1916,1918 гг. с приложением.-М., 1990.- С. 572−591.
- Поспелов Г. Г. «Бубновый валет»: Примитив и городской фольклорв московской живописи 1910-х годов. -М.: Сов. художник, 1990. 272 с.
- Постсимволизм как явление культуры. Материалы международной научной конференции. Москва, 5−7 марта 2003 г./ Отв. редактор И. А.
- Есаулов. М.: РГГУ, 2003. — Вып. 4. — 96 с.
- Православие в жизни: Сб. статей / Под ред. С. Верховского. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.-413 с.
- Православие и культура: Сборник религиозно-философских статей / Под ред. проф. В. В. Зеньковского. Берлин: Русская книга, 1923. — 235 с.
- Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог f человека с природой. М.: Едиториал УРСС, 2003. — 312 с.
- Прокофьев С.О. Рудольф Штайнер и краеугольные мистерии нашего времени. Ереван: Ной, 1992. — 538 с.
- Прот. А. Мень. Исагогика. Ветхий завет. М.: Фонд им. А. Меня -Общедоступный правосл. ун-т, 2000. — 631 с.
- Путь моей жизни: Воспоминания митр. Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Париж: Ymca-Press, 1947. — 678 с.
- Пятигорский A.M. Мифологические размышления // Пятигорский A.M. Непрекращаемый разговор. СПб., 2004. — С. 103 — 349.
- Пятигорский A.M. Пастернак и доктор Живаго. Субъективное изложение философии доктора Живаго // Пятигорский А. А. Непрекращаемый разговор. СПб., 2004. — С. 381 — 403.
- Пятигорский A.M. Реакция философии на тоталитаризм (Неметодологические заметки о возможности анархической философии) // Пятигорский A.M. Избранные труды. М., 1996. — С. 147 — 158.
- Райе Э. М. Волошин и его время // Волошин М. А. Стихотворения и поэмы: В 2 т.-Paris, 1984.-Т.1.-С. 38−47.
- Рильке Р.-М. Новые стихотворения. М.: Наука, 1977. — 543 с.
- Розанов В.В. Люди лунного света: Метафизика христианства. М.: Дружба народов, 1990. — 304 с.
- Розанов В.В. Уединенное. М.: Политиздат, 1990. — 543 с.
- Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: ОГИ, 2000. -152 с.
- Российская культурологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г. В. Осипова. М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА, 1998. — 672 с.
- Руднев В.П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М.: Аграф, 2000. — 432 с.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1999. — 381 с.
- Русский авангард в кругу европейской культуры: Международная концеренция. Тезисы и материалы. М.: РАН, Междунар. фонд «Культурная инициатива», Госуд. Третьяковская галерея, 1993. — 198 с.
- Русский кубофутуризм: Сб. статей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. -240 с.
- Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М.: Наследие, 1999. — 480 с.
- Рыжий Б. Стихи. СПб.: Пушкинский фонд, 2003. — 376 с.
- Садок судей I. СПб.: Журавль, 1910.
- Садок судей II. СПб.: Журавль, 1913.
- Сарычев В.А. Александр Блок: Творчество жизни. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2004. — 365 с.
- Сарычев В.А. Кубофутуризм и кубофутуристы: Эстетика. Творчество. Эволюция. Липецк: Липецкое изд-во, 2000. — 256 с.
- Св. Тереза имени младенца Иисуса. Повесть об одной душе.
- Брюссель: Жизнь с Богом, 1992. 284 с.
- Синявский А. Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М.: Аграф, 2001.-464 с. 1249. Скобцова Е. Ю. (Мать Мария). Жатва духа. Томск: Водолей, 1994.-72 с.
- Скобцова Е.Ю. Достоевский и современность. Париж: Ymca-Press, 1929.-74 с.
- Скобцова Е. Ю. Миросозерцание В. Соловьева. Париж: Ymca-Press, 1929.-49 с.
- Скобцова Е.Ю. Хомяков. Париж: Ymca-Press, 1929. — 61 с.
- Словарь терминов московской концептуальной школы / Сост. и предисл. А. Монастырского. М.: Ad Marginem, 1999. — 222 с.
- Смирнов И.С. «Все видеть, все понять.» (Запад и Восток М. Волошина) // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1985. -С. 170- 188.
- Смирнов И.П. Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Пастернака. -СПб.: Издательский отдел языкового центра СПб ГУ, 1995. 190 с.
- Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977. — 202 с.
- Соловьев B.C. Духовные основы жизни. Брюссель: Жизнь с Богом, 1982.-143 с.
- Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб: Алетейя, Прогресс-Литера, 1994. -651 с.
- Стриндберг А. Слово безумца в свою защиту- Одинокий: Роман, пьесы. М. Худож. лит., 1997. — 558 с.
- Терц А. (Синявский А.Д.). Собрание сочинений: В 2 т. — М.: Старт, 1992.-2 т.
- Толстой А.Н. Хождение по мукам // Тоетой А. Н. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1959. — Т. 5, 6.
- Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // Ноосфера и художественное творчество М., 1991 .-С. 200- 279.
- Топоров В.Н. Миф о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве Е. Гуро // Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993. — С. 221 — 260.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс — Культура, 1995. — 624 с.
- Топоров В.Н. Судьба и случай // Понятие судьбы в контексте * разных культур. М., 1994. — С. 38 — 75.
- Топоров В.Н. Эней человек судьбы. К «средиземноморской» персонологии. — М.: Радикс, 1993. — 194 с.
- Усенко Л.В. Е.Г. Гуро: на пути к «душевному импрессионизму» // Импрессионизм в русской прозе начала XX века. Ростов, 1988. — С. 43 -126.1. 276. Усенко Л. В. Русский импрессионизм и Е. Гуро // Гуро Е.Г.
- Небесные верблюжата. Избранное. Ростов н/ Д, 1993. — С. 5 — -48.
- Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996. — Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. — С. 460 — 476.
- Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. — 280 с.
- Федоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2 т. М.: ACT, 2002 — 2 т.
- Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Русская идея. М., 1992.-379−419.
- Федотов Г. П. Полное собрание статей: В 4 т. Париж: Ymca-Press, 1973. — Т.2. Россия Европа и мы (статьи 1931 — 1932 гг.). — 320 с.
- Федотов Г. П. Полное собрание статей: В 4 т. Париж: Ymca-Press, ' 1982. -Т.З. Тяжба о России (1933 — 1936 г.). — 336 с.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси.- М.: Московский рабочий, 1990.-269 с.
- Федотов Г. П. Стихи духовные. Париж: Ymca-Press, 1935. — 151 с.
- Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М.: Правда. 1990. -447с.f 286. Фокин C.JI. Ангел или демон? Анри де Монтерлан: раннеетворчество и «Дневники. 1930 1944» // Монтерлан А. Дневники. 1930 -1944. — СПб., 2002. — С. 477 — 500.
- Франк СЛ. Реальность и человек. М.: Республика, 1997. — 479 с. f. 288. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // Фрейд 3. По ту сторонупринципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. -СПб., 1995.-С. 136−243.
- Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. -400 с.
- Фрейд 3. «Я» и «ОНО». Труды разных лет: В 2 т. Тбилиси: i Мерани, 1991. -2 т.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. -447 с.
- Фромм Э. Ситуация человека ключ к гуманистическому психоанализу // Проблема человека в западной философии. — М., 1988. -С. 443−482.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет. М.: Касталь, 1996. — 448 с.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Рудомино, 1 1996.-574 с.
- Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974 1975 учебном году. — СПб.: Наука, 2004. — 432 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad, 1994.-406 с.
- Футуристы. Первый журнал русских футуристов. М., 1914. — № 1 t -2.-157 с.
- Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. — 512 с.
- Новосибирск: Наука, 1997. С. 153 — 226.
- Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2 т. М.: RA, 1997. — 2 т.
- Хармс Д. Дневниковые записи // Глагол. 1991. — № 4 — С. 65 — 141.
- Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах.
- М.: Айрис-пресс, 2002. 544 с.
- Хлебников В. Творения. М.: Сов. писатель, 1987. — 736 с.
- Хлебников В., Крученых А., Гуро Е. Трое. СПб.: Журавль, 1913.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Согласие, 19 964 т.
- Цветаева А.И. Воспоминания. М.: Изограф, 1995. — 861 с.
- Цветаева М.И. Вечерний альбом. Репринтное воспроизведение издания 1910 года. -М.: Книга, 1988.-231 с.
- Цветаева М.И. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997.-640 с.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994 -1995.-7 т.
- Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.-247 с. I
- Цимборска-Лебода М. Герменевтика любви. Эротическое сознание и эротический мимесис в творчестве Елены Гуро // Slavia orientalis. -1999. -№ 2. Т. XLVIII. — С. 179 — 196.
- Цимборска-Лебода М. О поэтике Елены Гуро. «Бедный рыцарь» // Slavia orientalis. 1993. — № 1. — Т. XLII. — С. 43 — 57.
- Черубина де Габриак. Исповедь. М.: Аграф, 1998. — 384 с. г 315. Шапошников А. К. Коктебель. Исторические названияокрестностей. Симферополь: Амена, 1997. — 60 с. 316. Шибутани Т. Социальная психология. — Ростов н/ Д: Феникс, 1999. — 544с.
- Шкловский В.Б. Розанов // Шкловский В. Б. Гамбургский счет:
- Статьи воспоминания — эссе (1914 — 1933). — М., 1990. — С. 120 — 138.
- Шкловский В.Б. Избранное: В 2 т.- М.: Худож. лит., 1983. Т.2. Тетива. О несходстве сходного- энергия заблуждения. Книга о сюжете. -640 с.
- Шмаина-Великанова А. Мать Мария (Скобцова), Дитрих к Бонхеффер и Симона Вейль: апостольство в безрелигиозном мире //
- Христианос. 2000. — № 9. — С. 108 — 119.
- Шмаков Г. Михаил Кузмин и Рихард Вагнер // Studies in the Life and Works of M. Kuzmin/ Edited by John E. Malmstad (Wiener slawistischer almanach. Sonderband 24). — Wien, 1989. — C. 31 — 45.
- Штайнер P. Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван: Ной, 1991. — 154 с.
- Штейнер Р. Очерк тайноведения. М.: Эго, 1991. — 272 с.
- Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб.: Академический проект, 2004. — 384 с. f 328. Эпштейн М. Н. Вера и образ. Религиозное бессознательное врусской культуре XX века. Tenafly: Эрмитаж, 1994. — 270 с.
- XX вв.-М.: Сов. писатель, 1988.-416 с.
- ЭрнВ.Ф. Борьба за Логос//ЭрнВ.Ф. Сочинения.-М., 1991.-С. 11 -294.
- Эткинд A.M. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. — 463 с.
- Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного// Юнг К. Г. Архетип и символ.-М., 1991.-С. 95 128.
- Юнг К. Г. Психология и религия // Юнг К. Г. Архетип и символ. -М., 1991.-С. 129−203.
- Языкова И. Мать Мария (Скобцова) о религиозном смысле культуры и творчества // Христианос. 2002. — № 11. — С. 320 — 337.
- Якобсон Р. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. — С. 272 — 316.
- Якобсон Р. Футуризм // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. -С. 414−420.341. 100 лет Серебряному веку: Материалы международной научной конференции. Нерюнги, 23 25 мая 2001 года / Науч. ред. Б. С. Бугров, t Л. Г. Кихней. -М.: МАКС Пресс, 2001.-247 с.
- VIII и IX Волошинские чтения. Материалы и исследования. -Симферополь: Крымский архив, 1997. 178 с.
- Готовський Л. Прийнявши на себе eci бол1 свггу: До 100-р1ччя з дня f народження Marepi Mapii // Людина i свгг. 1991. — № 12. — С. 42 — 47.
- Люб1мцева Л.М. Особливост1 поетики М. О. Волошина. Автореферат дис. канд. фшол. наук. Дншропетровськ, 2000. — 16 с.
- Словник-довщник термЫв з конфл1ктологп /За ред. M.I. nipeH, Г. В. Ложкша. Чершвщ-Кшв: Чершвецький держушверситет, 1995. — 332 с.
- Malej I. Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przelomie XIX i XX I wieku. Wybrane zagadnienia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu
- Wroclawskiego, 1997. 139 p.
- Blanchot M. Faux Pas. Stanford: Stanford University Press, 2001. -309 p.
- Blanchot M. The book to come. Stanford: Stanford University Press, 2003.-267 p.
- Clayton J.D. Pierrot in Petrograd. The Commedia deWArte/Balagan in Twentieth-Centuiy Russian Theatre and Drama. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1993. — 369 p.
- Cultural Mythologis of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age / Edited by Boris Gasparov, Robert P. Hughes, and Irina Paperno. -Berkeley- Los Angeles Oxford: University of California Press, 1992. — 494p.
- Deleuze G., Guattari F. Anti-Oedipus. / Translation by R. Hurley, M. Seem, H. Lane. New York: A Richard seaver book- The viking press, 1977. -400 p.
- Elena Guro. Selekted Writings from the Archives / Editors: Anna Ljunggren and Nina Gourianova Stockholm: Almqvist, 1995. — 134p.
- Fink H. Bergson and Russian Modernism, 1900 1930. — Evanston, Illinois: Nothwestern University Press, 1999. — 169 p.
- Gibson A. Russian poetry and criticism in Paris from 1920 to 1940. -The Hague, The Netherland: Leuxenhoff Publishing, 1990. 198 p.
- Hughes E.J. Writing Marginality in Modern French Literature: from Loti to Genet. Cambridge University Press, 2001. — 209 p.
- Hutchings S. Russian Modernizm. The Transfiguration of the Everyday. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — 295 p.
- Janecek G. The Look of Russian Literature: Avant-Gard Visual Experiments, 1900 1930. — Prinseton, New Jersey: Prinseton University Press. -314 p.
- Jensen K.B. Elena Guro. Her Life and Work: A Preliminary Scetch. -Aarhus, 1976.-44 p.
- Jensen K.B. Russian Futurism, Urbanism, and Elens Guro. Aarhus- Denmark: Arkona, 1977. — 204 p.
- Park R. Human migration and the marginal man // American Journal of Sociology. Chicago, 1928. — Vol. 33, № 6. — p. 881 — 893.
- Park R. On Social Control and Collective Behavior: Selekted Papers. -Chicago and London: The University of Chicago Press- Phoenix Books. -1967.-274 p.
- Park R., Burgess E., McKenzie D. The City. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. — 239 p.
- Park R., Miller H. Old World Traits Tranplanted. New York: Anno Press and The New York Times, 1969. — 308 p.
- Rubins M. Crossroad of Arts, Crossroad of Cultures. Ecphrasis in Russian and French Poetry. New York: PALGRAVE, 2000. — 302 p.
- Slavskaya Grenier S. Representing the Marginal Woman in Nineteenth-Century Russian Literature. Personalism, Feminism, and Polyphony. -Westport, Connecticut London: Greenwood Press, 2001. — 175 p.
- Studies in the Life and Works of M. Kuzmin/ Edited by J. E. Malmstad (Wiener slawistischer almanach. Sonderband 24). — Wien, 1989. — 212 p.
- The Silver Age in Russian Literature: Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate. -Chippenham: St. Martin Press, 1992. 200 p.419