Художественное осмысление религиозных образов и мотивов в поэзии Анны Ахматовой
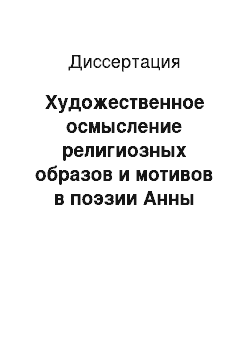
Приняв страдание, она парадоксальным образом обретает покой, в высокой степени свойственный позднему периоду творчества. Тема Креста в эти годы почти исчезает, и это не в последнюю очередь связано с тем, что, принятый как неотъемлемая часть жизни, «растворившийся» в самосознании, крест перестает быть объектом специального внимания и рефлексии. Тема уходит вовне: «Но не было в мире прекрасней… Читать ещё >
Содержание
- 1. Образы рая, ада, дьявола, Бога, Богоматери и креста в поэзии Ахматовой
- 2. Образ смерти в контексте религиозных представлений Ахматовой
- 3. Тема молитвы в поэзии Ахматовой
- 4. Тема греха в поэзии Ахматовой
- 5. Значение слова «БЛАГОДАТЬ» в поэзии Ахматовой
- 6. Тема конца света, страшного суда и религиозных предсказаний в поэзии Ахматовой
Художественное осмысление религиозных образов и мотивов в поэзии Анны Ахматовой (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Предпринимаемое нами исследование поэтического наследия Анны Ахматовой преследует следующую цель: изучение особого феномена — воплощения в художественном слове, в системе поэтических образов и мотивов религиозных взглядов и чувств русского поэта двадцатого века с его особым духовным опытом.
Собственно, вопрос о наличии и существенной роли религиозного типа мировоззрения, воплотившегося в самой ткани ахматовской поэзии, был поставлен и решен в самых общих чертах уже в первых отзывах и интерпретациях.
Н.Недоброво в своей известной, необыкновенно ценимой самим поэтом как род прозрения и сверхзадачи статье «Анна Ахматова» писал о «сильнейшем выражении религиозного чувства», о том, что сама Ахматова «указывает на религиозный характер своего страдальческого пути». Стихотворение 1913 г. «Плотно сомкнуты губы сухие.» для критика — свидетельство того, что Ахматова «знает упоение молитвы», а «Исповедь» /1911/.
Н .I., указывает на то, что для такой души есть прибежище в Таинстве Покаяния" 1 .
В 1916 году в работе «Преодолевшие символизм'^ носящей принципиально-программный характер, В. М. Жирмунский пишет: «.у Ахматовой — не мистика, а простая бытовая религиозность, проявляющаяся в традиционных формах в обстановке ежедневного существования» .2 В той или иной форме о религиозности.
1 Недоброво Н. Анна Ахматова // Русская мысль, 1915* N7. Цит. по изданию.: Ахматова А. Поэма без героя. Под ред. Р. Д. Тимекчика.М., 1989. С. 266−268.
2 Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм //Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 120.
Ахматовойпоминали А. Гизетти3, С. Парнок4, Г. Чулков5 и ряд других критиков.
Таким образом, к рубежному в жизни и творчестве Ахматовой периоду 1917;1921 гг. вполне сформировалось представление об особом религиозном звучании ее творчества. С достаточной степенью полноты сформулировал данное представление в своем докладе «Ахматова и Маяковский», позже напечатанном в виде статьи (Дом искусств, 1921, N1), К.Чуковский. Прямо называя Ахматову «последним и единственным поэтом православия» 6, критик подробно и убедительно раскрывает тезис об обусловленности религиозным настроем системы образов, трактовки тем, особого духа поэзии Ахматовой на конкретном материале ее ранней лирики.
Религиозные мотивы как прием достижения особой художественной выразительности исследовали Б. Эйхенбаум7 и В.Виноградов. Последний предпринял достаточно подробное исследование религиозных мотивов /" символов" / у Ахматовой в работе «О символике Анны Ахматовой», напечатанной в «Литературной мысли» /1922, N1, с.91−138/. В фундаментальном труде «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)» /Л., 1925/ ученый говорит о «привлечении религиозной символики как материала, из которого создаются новые формы выражения эротических переживаний, „новый стиль“ любовной лирики» 8 .
3 Гизетти А. Три души //Ежемесячный журнал. 1915, N12. С. 154−160.
4 Парнок С. Отмеченные имена /Н.Кдюев, А. Ахматова, И. Северянин// Северные записки, 1913, Апрель. С. 114−115.
5 Чулков Г. Закатный звон /И.Аяненский и А. Ахматова/Чулков Г. EHiepa и сегодня. М., 1916. С.73−77.
6Цит. до изд.: Чуковский К. Ахматова и Маяковский/'Вопросы литературы, 1988, N 1. С. 181.
7 См. Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пб., 1923.
8 Там же. С. 66−67.
Именно «религиозность» ставили Ахматовой в вину критики, вдохновляемые политикой партии большевиков^ от Н. Осинского9 и А. Коллонтай10 до Г. Лелевича11, Б. Арватова12, С. Родова13, Н. Чужака14, С. Малахова16, В. Перцева16 и других.
В одной из дневниковых записей Ахматовой о времени ее первого, негласного, но вполне действенного запрещения читаем: после 1924 года мои стихи перестали появляться в печати /то есть были запрещены/, главным образом за религию" /13 августа 1961/17. Она пишет также: «После моих вечеров в Москве /весна 1924/ состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. /Я встретила на Невском М.Шагинян. Она сказала: „Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать“ /» 18 .
По очевидным причинам всякие попытки исследования творчества Ахматовой, а особенно религиозных его аспектов были прекращены в Советской России как минимум на тридцать с.
9 Осинский Н. Побеги травы /Заметки читателя/. 3. Новая литература // Правда, 1922, 4 июля.
10Коллонтаё А. Письма к трудящейся молодежи. Письмо 3-е. О «Драконе» и «Белой птице» //Молодая гвардия, 1923, N2. С.162−174.
11 Лелевич Г. Анна Ахматова /Беглые заметки/ //На посту, 1923, N 2/ 3. Стб.177.
202.
12Арватов Б. Гражд. Ахматова и тов. Коллонтай //Молодая гвардия, 1923, N4/5. С.147−151.
13 Родов С. Литературное сегодня //Молодая гвардия, 1922, N 7. С.308−309.
14 Чужак Н. Через головы критиков //Наш путь, Чита, 1922, N 2. С. 77−78.
16 Малахов С. Лирика как орудие классовой борьбы /О крайних флангах и непролетарской поэзии Ленинграда/ //Звезда, 1931, N 9. С. 160.
16Перцов В. По литературным водоразделам. 1. Затишье //Жизнь искусства, 1925, N 43. С.4−6.
17 Ахматова А. Автобиографическая проза //Литературное обозрение, 1989, N 5. С. 14.
18 Там же «лишним лет. Из откликов зарубежной /точнее — эмигрантской/ печати, помимо известных и вызвавших негодование поэта мнений Г. Иванова, И. Одоевцевой, С. Маковского и др., упомянем лишь полярные по отношению к творчеству Ахматовой рецензию К. Мочульского на «Белую стаю» 19 и отзыв русского религиозного философа подчеркнуто православной ориентации И. Ильина20 .
Если для К. Мочульского Ахматова — великий поэт своего времени, наследник и продолжатель классической русской литературной и духовной традиции, то для Ильина ее имя стоит в ряду других поэтических имен начала века, символизирующих декаданс, безволие и распущенность. «Но надо помнить, что из скудности и праха повседневной жизни, из безответственности и тщеславия декадентства — вырастает только дурная поэзия. Невольно вспоминаются развязные строчки Анны Ахматовой: „Когда б вы знали, из какого сора /Растут стихи, не ведая стыда“. Конечно, бывает и такно только это будет сорная и бесстыдная поэзия» 2* - пишет Ильин.
Интересно отметить, что занимающий объективную «литературоцентричную» позицию Мочульский, не касаясь специально вопроса об очевидной религиозности «Белой стаи», все же обращает на нее внимание читателя /разбор «телеологического» эпитета «белый», евангельская реминисценция в завершающей разбор цитате из стихотворения «Нам свежесть слов и чувства простоту.», а также подчеркивание классических, пушкинских корней ахматовской поэзии/. В то же время крупный православный религиозный философ в своем отторжении именно от тех духовных явлений, которые позже Ахматова будет так строго г9 Мочульский К. Поэтическое творчество Анны Ахматовой //Литературное обозрение, 1989, N 5. С.44−52.
20 Ильин И. А. Когда же возродится великая русская поэзия //Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции"М., 1993. С.217−229.
21 Там же. С. 226. судить в «Поэме без героя» и примыкающих к ней стихах «исторического» характера, не находит в ее творчестве ничего ни от христианства, ни от классической традиции. Тем не менее именно Ахматова во многом решала те духовные задачи, которые ставил перед русской поэзией И. А. Ильин: «.первая задача настоящего поэта углублять и оживлять свое сердцевторая растить, очищать и облагораживать свой духовный опыт. Это и есть путь к великой поэзии2. Всю свою долгую творческую жизнь Ахматова неуклонно шла по этому пути.
Тезис о «религиозности» Ахматовой в весьма своеобразном «освещении» возникает и в печально известном докладе А. Жданова, связанном с Постановлением ЦК ВКП/б/ от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“. Своеобразно интерпретируя мысль Б. Эйхенбаума о сочетании в творчестве Ахматовой религии и любовных мотивов, Жданов говорил о „.поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной“, о''мистических переживаниях пополам с эротикой». «Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой» 23 .
Сама Ахматова дала примечательную оценку изменившегося по сравнению с гонениями 20-х и 30-х годов «направления главного удара», парадоксально свидетельствовавшего об определенных изменениях духовной атмосферы, которые наметились в послевоенные годы: «Из деятелей 14 августа несомненно умнейшим был тот, кто придумал следующую штуку: заменить нападки на религиозность /действительно существующую в моих стихах/ нападками на эротику /которая там и не ночевала/. Оставить религиозность значило сделать из меня мученицу, т. е.
22 Там же. С. 226.
23 Жданов А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград.Цит. по изд.: Ахматова А. ^Re^uien?, М., 1989. С.236−237. создать для себя самих безвыходное положение, потому что гнать человека за веру в Бога — гиблое дело «24 .
Советские критики и литературоведы, получившие возможность обращаться к творчеству Ахматовой с конца 50-х годов, старались или были вынуждены обходить тему «Ахматова и религия», как и другие «неудобные», а то и запретные темы, например, связанные с именем Н. Гумилева или отношением Ахматовой к революции и советской власти, репрессиям послереволюционного времени и т. д. В тех же случаях, когда полностью обойти этот специфический вопрос не удавалось, то, в рлм чах традиции Эйхенбаума, Жирмунского и Виноградова, религиозные мотивы интерпретировались как особый литературно-художественный прием, средство выразительности, эмфаза или как знак причастности автора к определенным слоям мировой культуры.
Образцом подобной интерпретации может послужить следующая мысль Б. Добина: «Духовным лейтмотивом Ахматовой была жажда счастья, право на счастье. Как у Маяковского, библеизмы не архаичны. В них отпечаталась поступь веков. В.
О м ос эпоху ломки, потрясшей человечество, они неожиданно ожили. Крестная смерть Христа и Воскресение в интерпретации Добина также интересны лишь тем, что являются пищей для вдохновения художника. Столь же неутешительную картину представляет недавно изданная монография А. И. Павловского «Анна Ахматова. Жизнь и творчество» /М., 1991/. Из нее мы можем почерпнуть следующие глубокие и новаторские суждения о своеобразии трактовки религиозной тематики и воплощении религиозного чувства у Ахматовой: «Она искала спасения от охватывавшего ее.
24 Ахматова А. Проза //Ахматова A." Requiem", М., 1989. С. 236.
25Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой //Добин Е. Сюжет и действительность. Л., 1976. С. 82, 150. и непонятного ей! — ужаса и растерянности в религиино религия, вера, молитва вдруг неожиданно сплетались с чувствами любви и томления" 26. Интересно отметить, что в качестве примера приводится стихотворение вполне маргинальное в отношении религиозной тематики и проблематики «Протертый коврик под иконой.». «. то библейские, то исторические ассоциации. тоже, в свою очередь, раздвигают рамки лирических сюжетов, придавая им или общечеловеческий, или историко-культурный характер» 27 -пишет тот же автор.
Ряд примеров интепрета^м* в /wtp^poee^ww 60-х — начала 90-х годов религиозных мотивов либо как приема, либо как философских или психологических наблюдений, либо как способа вхождения в «текст» мировой культуры можно было бы продолжить. Очевидной причиной внутреннего характера является фактическое отсутствие у исследователей реальной практики живого религиозного /точнее — православного/ опыта. Это обстоятельство сказалось парадоксальным образом и на работе целой плеяды крупных исследователей, имевших возможность не корректировать свои выводы с официальной советской идеологией. Тем не менее замечательные исследования Р. Д. Тименчика, Т. В. Цивьян, В. Н. Топорова, А. Е. Аникина, Ю. Щеглова и др. являются в смысле отношения^ к проблеме религиозности Ахматовой творческим продолжением традиции советского литературоведения. Обращая главное внимание на вопросы поэтики и семантики /семиотики/, а также на культурологические и мифологические аспекты творчества поэта, обозначенный выше круг ученых относит область живого религиозного опыта, столь выделяющую Ахматову во всяком случае на фоне литературы XX века, к недифференцированной области «сакрального» или.
26 Павловский А. И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество. М., 1991. С. 52.
27 Там же. С. 55. мифологического /культурного/, тем самым нивелируя ту особую роль, которую сыграло реальное переживание христианства в его православном «изводе» в творчестве и личной судьбе великого русского поэта. Исследования, на первый взгляд затрагивающие область поэтики религиозных образов, тем, мотивов, цитат и реминисценций, не пересекаются с областью христианской этики, имевшей важное значение в системе духовных ценностей Ахматовой и питавшей ее творчество. Образцом подобной тонкой подмены может послужить следующая мысль из замечательной во всех других отношениях статьи Т. В. Цивьян «Ахматова и музыка» 28. «В семантическую систему поздней Ахматовой музыка входит как особая сакральная сфера, связанная с переходом в иной мир и со спасением в широком и религиозном смысле» 29. /В качестве примера приводятся строки из «Реквиема» — «Хор Ангелов тот дикий час восславил.» /, но христианское /а особенно православное/ учение о спасении говорит о познании воли Божией, о приятии страдания и смерти, о нравственном очищении и, конечно, не предполагает связи между обретением ценой испытаний и терпения Царства Небесного и явлениями эстетического порядка /музыка, литература и т. д./.
Характерным примером применения «мифологического» подхода может послужить работа В. Н. Топорова с очень характерным названием «Поэма без героя» в ритуальном аспекте" 30. Ученый утверждает: «.функция всякого ритуала — в кризисный, гибелью грозящий час восстановить утрачиваемое status quo? вернуть угрожаемую жизнь к порядку истории, к времени в его органических и плодотворных связях. Подлинный ритуал восстанавливает не только время, но и всех, кто участвует в.
28 Цивьян Т. В. Ахматова и музыка //Russian Literature, 1078, N10/11.C.173−212.
29 Там же. С. 182.
30 Топоров В. Н. «Поэма без героя» в ритуальном аспекте //Анна Ахматова и русская культура начала двадцатого века. Тезисы конференции. М., 1989. С.15−21. нем и, в частности, совершает его" 31. Из вышесказанного следует вывод, что «Поэма без героя» является 'Ьоборным ритуалом" 32. Это «вызывает недоумение, ибо в практике православной «соборности» нет места магическому «ритуалу» как таковому, а практика «ритуала» исключает «соборность» как очевидный и явный знак существования в сфере православия.
В.Н.Топоров вводит «Поэму.» в широчайший контекст древних мифологических систем и ритуально-магических обрядов, в ряду которых, никак не выделяя его, называет и христианство, что почти абсурдно в отношении русского поэта, твердо причисляющего себя к христианской традиции.
Литургическая символика, живое переживание жертвенной смерти и Воскресения Иисуса Христа, столь значимые для Ахматовой, растворяются в массе кенотических древних ритуалов поминовения и новолетия. Тема пророческого и жертвенного служения русского поэта, актуальная для Ахматовой не в последнюю очередь в силу пушкинского завета «Веленью Божию, о Муза, будь послушна», получает следующую трактовку: «. поэтжрец и жертва — и попеременно и в одно и то же время: он умирает и возрождаетсякак жрец он «производитель» смерти, но v о tfOO как жертва он восстановитель новой жизни и жизненной силы аа .
Итак, «Поэма.» как ритуал решает задачи искупления греха, «восстановления совести» 34. «Тема же совести. отсылает к годовому ритуалу и парадоксальному сочетанию в нем временного, rtOK исторического и вечного, сверхисторического ла .
31 Там же. С. 16.
32 Там же. С. 16.
33 Там же. С. 19.
34 Там же. С. 21.
35 Тем же. С. 21.
Испытывая глубокое уважение к своеобразному и чрезвычайно интересному и аргументированному методу замечательного ученого, хочется все же отметить, что такие понятия^ как «грех», «совесть», «вина», «искупление», имеют у Ахматовой конкретно-личное значение^, в том числе в системе символов «Поэмы.», являющейся прообразом Страшного суда в петербургской «долине Иосафата» — Белом Зале Фонтанного дома. Эти понятия, а точнее, нравственные категории теряют существенную часть заложенного в них онтологического смысла вне строгой и единой системы христианских религиозных представлений /в данном случае замененных апелляцией к абстрактным понятиям «вечного» и «сверхисторического» /, становятся аморфными и не могут таким образом служить ни задачам «креативным», то есть возрождающим и очищающим душу от скверны, ни сугубо творческим. В той или иной мере ту же тенденцию можно проследить как в других работах данного автора, так и в трудах Т. В. Цивьян, Р. Д. Тименчика, А. Е. Аникина.
Несколько иную позицию занимает М. Б. Мейлах, что особенно наглядно проявляется в его широко известной статье «Об именах Ахматовой. 1. Анна» 36. Близкий по методу и подходу к вышеперечисленным исследователям, он все же акцентирует внимание именно на православных, традиционно русских корнях миросозерцания Ахматовой, ее подспудных связях и органическом существовании в системе русской традиции, хотя и рассматривает данное явление как часть некоего общемифологического культурного поля. Иной генезис прослеживается в статьях и воспоминаниях об Анне Ахматовой, принадлежащих перу Вяч.Вс.Иванова37.
36 Мейлах М. Б. Об именах Ахматовой. 1. Анна //Russian Literature, 1975, N10/11. С.33−59.
37 См. например: Иванов Вяч.Вс. Ахматова и категория времени //Анна Ахматова и русская культура началЗ^века. Тезисы конференции. М., 1989. C.3−5j Иванов Вяч.Вс. Беседы с Анной Ахматовой //Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С.473−503- и ДР.
До настоящего времени исследование религиозной тематики в поэзии Ахматовой, подчас ограниченное лишь констатацией очевидной связи поэта с православной традицией, а иногда допускающее вполне произвольные трактовки характера и интенсивности этой связи, остается прерогативой зарубежных исследователей. Среди русских исследователей Ахматовой за рубежом, обращавшихся к религиозной тематике ее творчества, следует назвать имена Н. Струве, Б. Филиппова, В.Франка. В статье «Бог Анны Ахматовой» Н. Струве между прочим пишет: «У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой, она ею неизменно была всю жизнь» 38 .
К огорчительным особенностям исследований русский эмигрантов можно отнести тот факт, что, делая основополагающие заключения и выводы общего характера, более подробные, сугубо литературоведческие разработки вопроса о воплощении религиозного мировосприятия в ткани художественного произведения и т. п. они оставляют на долю следующих поколений.
Среди ученых, для которых русская литература является иноязычной, темой «Ахматова и религия» специально занимались Аманда Хейт, Венди Росслин, Шарон Лейтер, Ж. Нива, С. Кетчан, Г. Клайн, К. Верхайл, А. Фодд, С. Драйвер и ряд других.
Среди их трудов особое место занимают фундаментальные исследования Аманды Хейт39 и Венди Росслин40 как обладающие глубиной проникновения и понимания того сложного феномена, которым была религиозная тема у Ахматовой. И если у Хейт была.
38 Струве Н. Бог Анны Ахматовой //Струве Н. Православие и культура. М., 1992. С. 244.
39 Хейт Аманда. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма А.АхматовойМ., 1991. jtlosslyn Wendy. The prince, the fool, the nunnery (Religion and love in the early рое try} Anna Achmatova). Amsterdam, 1984. уникальная возможность получать информацию, так сказать, из первоисточника — от самой Ахматовой, то Венди Росслин, писавшая свою книгу в начале 80-х годов, была вынуждена рассчитывать лишь на печатные источники и собственную богословскую и литературоведческую интуицию, а также на личный живой религиозный опыт, очевидно ощущающийся во всем строе ее мысли и восприятия. Остается жалеть, что в отличие от Хейт, сумевшей обобщить весь творческий и жизненный путь русского поэта, Росслин ограничила поле своего исследования лишь первыми пятью сборниками, что, в/прочем, не помешало ей сделать ряд выводов общего характера, применимых к творческому и жизненному пути Ахматовой в целом.
Таким образом, даже самый беглый обзор литературы об Ахматовой приводит к следующему выводу: присутствие в ее творчестве религиозных мотивов с самого начала признавалось за аксиому, но подавляющее большинство исследователей ограничивалось лишь констатацией /сочувственной или выражающей разные степени неприятия/ этого факта, перечислением или регистрацией данных мотивов, образов и реминисценций, а иногда — включением этого пласта в общий культурный, литературный или мифологический контекст, что нивелировало особенности и оттенки смысла, присущие этой теме. Но несмотря на ее, казалось бы, единодушное признание, вопросы художественного воплощения религиозного чувства до сих пор остаются на периферии внимания большинства исследователей в отличие, скажем, от таких тем, как тема любви, историческая, философская, психологическая тематика, тема города /" Петербургский миф" /, пушкинская тема и др.
До сих пор открытым остается и вопрос о личной религиозности Ахматовой. Так, однозначно признававший ее «последним и единственным поэтом православия» К. Чуковский насколько можно судить из работы, содержащей данный тезис41, сам имел о православной вере не вполне традиционные представления, основанные скорее на свидетельствах литературы и искусства /Лесков, Нестеров и т. д./, чем на живом опыте вхождения в Православную Церковь.
Характерно, что Н. Недоброво, значительно более укорененный в православной традиции, хотя и допускавший вольные трактовки и отступления от строгих церковных канонов, акцентирует внимание скорее на общем религиозном настрое стихов Ахматовой, чем на их специфически-православном звучании.
Поколение революционных критиков по очевидным мировоззренческим и политическим причинам в частности не вдавалось, и все выходящее за пределы сугубого атеизма подводило под недифференцированное понятие «мистики», «религии», а чаще— «мракобесия» и т. д.
Из названных исследователей однозначно православной Ахматову считал Н.Струве. В книге А. Хейт есть определение отношения к Богу группы акмеистов, вполне применимое и конкретно к Ахматовой: «Им /акмеистам, — М.Р./ было необходимо обрести Бога и понять Его предназначение через постижение жизни, через проживание жизни, через любовь к ней» 42 .
А.Хейт в разных контекстах, на разном материале показывает роль религии в жизни Ахматовой, всю гамму ее отношения к Божеству — от детского доверия и полного приятия ранних стихов до скорбных вопрошаний «Реквиема» и умиротворенности поздней лирики.
41 Чуковский К. Ахматова и Маяковский //Вопросы литературы, 1988, N 1. С. 181.
42 Хейт Аманда. Указ.соч. С. 34.
Но, по нашему мнению, религиозное чувство Ахматовой сложнее и шире рамок православных канонов. Это проявляется как в сфере чувств и эмоций, так и на уровне поступков — и жизненных, и творческих. Именно на эту сложность и неоднозначность обращает особое внимание Венди Росслин. Начав свою книгу с малоутешительного обзора предшествующей литературы, посвященной проблеме религиозности Ахматовой, она пишет: «Современники верили, что Ахматова была верующим человеком 43, — и приводит ряд свидетельств, в том числе О. Мандельштама, Б. Пастернака, В. Шилейко, Н. Мандельштам, И. Одоевцевой, Л. Чуковской, И. Бродского и др. Круг свидетелей мы можем расширить за счет имен Б. Анрепа, Н. Чулковой, И. Берлина, М. Ардова, М. Мейлаха, А. Наймана, В. Виленкина и др.
В своих рассуждениях о типе религиозности Ахматовой Росслин сталкивается с парадоксом, ощущавшимся более или менее интуитивно как интерпретаторами, так и «просто» читателями поэзии Ахматовой. Верующая «от природы», вызывающая даже своим величественным обликом религиозные ассоциации, Ахматова". жила не как послушница или пустынник" 44. И ее прославленная стойкость была плодом не только религиозных добродетелей, но и таких осуждаемых Церк^ью качеств, как гордость, высокая самооценка и внутренняя свобода в широком смысле слова. «Ахматова была фривольна и желала успехаотношения строила как любовь к себебыла горда и эгоистична» 45 .
Итак, по мнению Росслин, сама Ахматова «.не была религиозным человеком, в лучшем случае ее вера и жизненная практика существовали отдельно. Ахматова была, конечно,.
43 Rosslyn Wendy. Op.cit. Р.16.
44 Там же, Р.20.
45 Там же. верующей и принимала участие в русском «бытовом православии», но ее сила в испытаниях, возможно, не следствие ее веры, как и ее молодость с ее унынием, самоанализом и гордыней не была образчиком христианской жизни" 46.
В связи с этим В. Росслин ставит вопрос о том, кто же религиозен — Ахматова или ее героиня. И исходя из тезиса о влиянии внутреннего мира творца на творимый мир, а также о необходимости учитывать биографический подтекст при обсуждении степени религиозности героини, на страницах своей книги последовательно исследует конкретные проявления религиозности /или нарушения канонов христианства/ в образной ткани и строе мысли стихотворений, входящих в первые пять сборников.
В статье «Ахматова и музыка» Т. В. Цивьян пишет: «Лучшим критиком и комментатором своих произведений является пока сама Ахматова, и почти все, к чему приходят ее исследователи сейчас, оказывается уже написанным ею либо в поэтическом тексте, либо в прозе, набросках и т. п. Строго говоря, задача исследователей не только объяснять, сколько искать в текстах Ахматовой то, что объяснено ей самой» 47 .
При всей сложности и неоднозначности автопризнаний Ахматовой, преследующих подчас самые неожиданные цели /см.об этом подробнее в книге А. Хейт и воспоминаниях современников, особенно относящихся к последним годам жизни поэта/, мысль Т. В. Цивьян можно распространить и на эту область.
По свидетельству многих современников, Ахматова, будучи верущим человеком, в силу как внешних обстоятельств, так и в высочайшей степени присущего ей внутреннего целомудрия о вере в Бога говорила взвешенно и скупо. Из упоминаний об этой стороне.
46 Там же.
47 Цивьян Т. В. Указ.соч. С. 195. ее внутренней жизни выделим свидетельство Б. Анрепа, а также слова Ахматовой, записанные В.Виленкиным.
Б.Анреп пишет: «Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. А.А. строго меня отчитывала, указывала на путь веры как на залог счастья. «Без веры нельзя» 48 .
Важное уточнение, являющееся, на наш взгляд, собственно решением вопроса, вносит В. Виленкин: «.записано у меня. что она ответила на мой вопрос, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность. «Разумеется, — как и все более или менее интеллигентные люди» 49 .
Ее вера была именно верой интеллигентного человека, чистой идеологией, не затрагивающей, точнее, не растворившейся в личном существовании, не обуславливающей каждый миг и каждый шаг. Ахматовой была свойственна присущая именно российскому интеллигенту «широта» как в вопросах догматического характера, так и в отношении к строгому соблюдению требований Церкви относительно всего строя жизни: здесь и посты, и сфера интимных отношений, и необходимость регулярной молитвы — так называемое «правило», и требование нравственного совершенствования во вполне определенном направлении /смирение, терпение, самоумаление, отчаянная борьба с эгоизмом и индивидуализмом и т. д./. «Более или менее интеллигентные люди», веря в Бога, редко исповедовали Его, живя, конечно, по «гражданскому календарю» с мелкими /хотя и милыми сердцу/ элементами церковного.
В отношении к религии Ахматова была вполне дитя своего времени и своей среды, но. «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое,.
48 Анреп Б. О черном кольце //Литературное обозрение. 1989, N 5. С. 59.
49 Виленкин В. В сто первом зеркале. М., 1990. С. 48. хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все" /Мф.13. 31−33/. И действительно, «закваски», Широкой", «интеллигентской» веры с ее сильными и слабыми сторонами, хватило на всю долгую творческую жизнь, на все ее трагедии, скорби и испытания. Именно об этом пишет Ахматова в стихотворении «Кого когда-то называли люди.» /1945/.
В задачи данной работы входит не только и не столько констатация факта религиозности Ахматовой при всей его сложности и полноте, сколько исследование художественного осмысления религиозного чувства в системе образов, тем и мотивов, своеобразной трактовки их с позиций религиозного типа сознания.
Ахматова относится к поэтам интуитивного склада, она мыслит не столько логическим построением, схемой, сколько живой тканью слова в разнообразии его прямых, дополнительных и ситуативных смыслов, его контекстуальных значений и связей. Слово у Ахматовой, как это блестяще доказано в работах В. Виноградова, В. Жирмунского, Б. Эйхенбаума и ряда современных исследователей «тарту^сой» ориентации, тяготеет к символу, философеме, неповторимо, многозначно, а подчас и овеяно высокой тайной.
Без обращения к проблемам тезауруса Ахматовой в применении к нуждам литературоведения многие задачи не удастся разрешить с должной мерой полноты. Необходимо исследование религиозной лексики /а также слов, получающих религиозную смысловую окраску/, их прямых и непрямых значений, принципов функционирования, частотности /из-за отсутствия полного академического собрания сочинений статистические данные имеют относительный характер/, контекстуальных значений и словоупотреблений и т. д. Собранные таким образом данные позволяют по-новому взглянуть на художественное воплощение различных аспектов религиозной темы, наметить пути систематического описания и интерпретации образов, тем и мотивов религиозного характера.
Среди формулировок задач и принципов подобного подхода отметим мысль, высказанную Ю. К. Щегловым в статье «Из наблюдений за поэтическим миром Ахматовой /» Сердце бьется ровно, мерно." /: «Одно из направлений, сознательно ставящих себе целью проникновение в „тайну личности автора и духа его поэзии“ и старающихся придать этому занятию научный статус. ставит в центр своей теории понятие темы, приема выразительности и инвариантного мотивасистема тем и инвариантных мотивов называется поэтическим миром» 50. Далее он пишет: «Понять смысл текста — значит применить для его прочтения тот или иной код. Для стихотворного текста таким кодом является поэтический мир автора, т. е. система типовых образно-ситуативных единиц /инвариантных мотивов/, соотнесенных с некоторым общим для многих текстов значением /темой/. специфика, новизна и оригинальность отдельного поэтического текста обычно закладывается не в самих типовых единицах, а в способе обращения с ними» 51.
В данном случае «общее для многих текстов значение» /тема/ обозначено нами как «религиозная тема у Ахматовой», а за «типовую единицу» принято слово-понятие, слово-символ, имеющее прямо-религиозное основное значение /" Бог", «дьявол», «рай», «ад», «крест», «молитва», «Страшный Суд», «грех», «благодать» / или получающее контекстуальное религиозное звучание,.
60 Щеглов Ю. К. Из наблюдений за поэтическим миром Ахматовой («Сердце бьется ровно, мерно.» ^//Russian Literature, 1982, vol 11. С. 49.
51 Там же. С.50−51. соотнесенное по тем или иным параметрам как с религиозными представлениями самого поэта, так и с каноническими требованиями христианства /такие слова-понятия, как «смерть» и «город» /.
Работа насчитывает шесть главок, соответственно посвященных наблюдениям над сферой функционирования конкретного слова-символа в поэтическом мире Ахматовой. Подобного типа подход признавался желательным самим поэтом. В. Н. Топоров в статье «Об ахматовской в^умерологии и менологии» приводит следующее ее суждение: «.чтобы добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта — в них и таится личность автора и дух его поэзии .
Без напряженного вглядывания в сферу' функционирования того или иного /в данном случае — религиозного/ пласта лексики невозможно проникновение вглубь ахматовских «гнезд», в которых «таится личность автора и дух его поэзии». Подобного рода исследование «гнезд» (религиозных тем и мотивов) не может не привести к более общим выводам о типе религиозности автора, об особенностях и закономерностях его духовного пути, как они отражаются в его художественном мире. Мы определили для себя направление этого постепенного и трагически трудного пути как подъем /и одновременно возвращение/ из сферы «прелести милой жизни» со всей ее красотой и неизбежным соблазнами и грехами через предельное страдание к осознанию «давнего греха» и покаянию.
Проходя через страдание, поэт и его героиня убеждаются в его высоком провиденциальном смысле, утверждаются в вере и верности Богу, России, своему личному пути, осознаваемому как следование за Христом через боль и крестную смерть к.
82 Топоров В. Н. Об ахматовской нумерологии и менологии //Анна Ахматова и русская культура начала XX века. М., 1989. С. 12.
Воскресению и вечному блаженству («Китежу», в который должна вернуться героиня — «китежанка^Л.
Личный путь представляется поэту неотделимым от крестного пути России53 и является органичной частью, а возможно, и своеобразным символом (или памятником из «Реквиема») духовной истории «Настоящего Двадцатого века» .
53 Аманда Хейт в указанном сочинении /с.91/ писала: «Решение Ахматовой остаться в России вопреки уговорам друзей стало для нее важной жизненной вехой. постепенно она утвердилась в сознании, что она и ее многострадальная страна мистически неразрывно связаны. Другим открыта дорога, но не ей» .
I. Образы рая, ада, дьявола, Бога, Богоматери и креста в поэзии Ахматовой.
На функционирование религиозных мотивов в творчестве Ахматовой оказывают влияние все, так сказать, «общие» законы ее лирики — значимость каждого слова, интонации, важность контекста — и внешнего, событийного, и внутри литературного, игра ассоциаций. Она ничего не говорит «в лоб», предпочитая упоминание, намек — декларации. Более того, «ее умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства, она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопически малыми образами, которые приобретают у нее на страницах необыкновенную суггестивную силу» 54. Это наблюдение Чуковского можно отнести к изображению поэтом любого чувстварелигиозного в том числе. Поэтому кажется необходимым предварить философскую, психологическую, а быть может, и богословскую интерпретацию религиозных мотивов лирики Ахматовой анализом на уровне лексики: обратить внимание на такие параметры, как частотность словоупотребления, прямые и переносные значения, контекст и даже фактические ошибки, переосмысление реалий религиозной жизни в сугубо мирском, земном, а иногда — невольно кощунственном аспекте /проблема сакрализации и десакрализации, как она поставлена в художественных текстах, вообще представляется очень важным направлением дальнейших исследований/.
Если попытаться построить некую схему религиозных представлений и чувств лирической героини ахматовской поэзии, то она будет предельно конкретна и проста: ад и рай, грех и покаяние, милость Божия и соблазны сатаны, смерть как мерило истинности и подлинной ценностився сложная символика Креста, молитва как разговор с Богом, случайно послушанный людьми.
54 Чуковский К. Ахматова и Маяковекий//Волросы литературы. 1988. N1. С.186″ стихи, «песня», как молитвословие/- Тайна Промысла, чудо, благодать, апокалипсические предчувствия. Основные внешние атрибуты — храм, служба, таинства, икона, крестный ход. Праздники — Страстная седмица и Пасха, Троица и Духов день, Благовещение, именины /день Ангела/.
Мысль о Боге как бы растворена, расплавлена в земной жизни с ее радостями, потерями и страстями, но тем не менее она освещает, точнее — освящает бытие, позволяет увидеть в происходящем высший смысл.
Царство Небесное, рай, и его вечный враг и соперник — ад, что значат эти слова для героини Ахматовой, как она представляет себе вечное блаженство и муку?
В своем прямом религиозном значении у Ахматовой слово «рай» обычно применимо к другому, имеющему некие особые заслуги — перед Богом, перед Родиной, перед святым для нее чувством земной любви.
По праву принадлежит Богу светлая душа друга, доверенная им лирической героине, обязанной сберечь ее: «Та, что так поет и плачет^ /Быть должна в Его раю» .55 («Не хулил меня, не славил.». 1915^. Тот же образ умершего друга, завещавшего перед кончиной безгрешную жизнь как залог будущей вечной встречи, ставшего Ангелом-хранителем героини на всех земных путях, видим мы и в стихотворении «На пороге белом рая.» /1921/. Совершенно каноническое представление о воздаянии за «подвиг правый» воина, защитника и мученика, дает стихотворение «О нет, я не тебя любила.» /1917. Лето/. И уж тем более достойна.
56 Ахматова А. Соч. В 2-х т. Сост. и подготовка текста М. М. Кралина. М., 1990, т.1. С. 112. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. вечного покоя, «белого рая» /1, 199/56 ангельская душа невинного младенца /" Где, высокая, твой цыганенок.", 1914/.
Вот, пожалуй, все немногие избранные, достойные «Царства Славы» /2,24/. Заметим, что тема «райского сада для избранных» в послевоенном творчестве была иронически переосмыслена и снижена. Яркий пример такого снижения — стихотворение «Пусть кто-то еще отдыхает на юге.» /1956/. Здесь, как и в печально известной «Славе миру», ведется почти невидимая, но непримиримая война с идеей коммунистического рая — дивного сада, выращенного на земле, пропитанной кровью невинных жертв. Иронией проникнуто и упоминание «Эдемского сада» /1,241/ в стихотворении «Выход книги» /13 августа 1962/. Пожалуй только однажды лирическая героиня скажет о самой себе: «Я вошла вчера в зеленый рай» /1,115/. Но это — скорее описание тихого царскосельского кладбища, чем обителей Небесного Царя («Милому», 1915). Но обычно, что является нормой для верующей христианки, для себя, «нищей грешницы», на такую милость героиня не рассчитывает: «Не для вас, не для грешных рай» /1,33/ - с этой участью непросто смириться, но она видится реальной. /" Похороны", 1911/. После мольбы, вырвавшейся в стихотворении 1917 г. «Теперь прощай, столица.»: «.Страна Господня, /Прими к себе меня!» /1,140/, — тема «рая для себя» оказалась фактически закрытой: по-видимому, острое нежелание вызывать жалость /Ахматова, как известно, специально просила близких не высказывать слов сожаления/ распространилось и на область саможаления — считать себя достойным рая, один из признаков жалости к себе, для Ахматовой вещь невозможная: ее героиня строга к себе до жестокости и, конечно, считает себя вполне заслужившей немилость Божию.
5 В Вообще белый цвет у Ахматовой вполне традиционно — знак присутствия Божия «яко на небеси и на земли» — от цвета риз священнослужителей в дни т.н. «Господских» праздников, до вполне мирских предметов, даже поступков и чувств.
Исключение составляет написанная в самые страшные годы поэма, во многом посвященная смерти, такой желанной и недостижимой. Лишь в «Путем всея земли» /1940/ позволено выплеснуться боли и надежде: «Меня, китежанку, /Позвали домой» /1,233/. Но в те годы испытания богооставленностью не была услышана и эта мольба: «Ты лучше бы мимо, /Ты лучше б назад,/Хулима, хвалима,/В отеческий сад» /1,234/.
Рай для себя", мелькнув, поманив покоем и счастьем, через миг оказывается уже потерянным: «.Не знали мы, что скоро/В тоске предельной поглядим назад» /" Тот голос, с тишиной великой споря.", 1917;1,97/. Рай для героини — всегда прошлое: «тринадцатый год», Китеж дореволюционной России, сгоревший дом. Высшее блаженство — забвение, избавление от кромешной реальности в глубине русской истории: «О, если бы вдруг откинуться/В какой-то семнадцатый век» /1,256/, — сказано в стихотворении 1937 г. «Я знаю, с места не сдвинуться.» .
В ряде произведений слово «рай» имеет переносное значение земного блаженства, мелькнувшего как сон, преданного/" Твой белый дом и тихий сад оставлю.", 1913/, «последнего» перед бедой/" Вновь подарен мне дремотой.", 1916/ или разлукой/" Я слышу иволги всегда печальный голос.", 1917/.
В «Реквиеме» также появляется образ рая как блаженства летней красоты и свободы, недоступной героине: «Горячий шелест лета/Словно праздник за моим окном» /1,200/.
В стихотворении «Подражание Кафке» /1960/, продолжающем ту же тему осмысления кровавых событий 30-х годов, будет воспроизведена аналогичная сюжетная схема: героиня, приговоренная ладно если к смерти, а то и к самому страшному — вечному страданию /" Приговор", 1939/? и — жизнь, идущая своим чередом. Она недоступна героине: «Другие уводят любимых,-/Я с завистью вслед не гляжу./Одна на скамье подсудимых/Я скоро полвека сижу» /1,244/. В символическом плане данную сюжетную схему можно истолковать как попытку художественного воплощения переживаний души, обреченной на муки адские. Небезынтересно сравнить этот художественный образ с евангельской притчей о богаче и нищем Лазаре /Лк.19.19−31/. Только «царскосельской веселой грешнице» /1,198/ приходится пережить и чувства богача, который когда-то «пиршествовал блистательно» /Лк.19.19/, а ныне страдает и от самих адских мук, и от созерцания недоступного райского великолепия, и чувства «нищего Лазаря», «который лежал у ворот богача в струпьях» /Лк. 19.20/, то есть был последним отверженным, прокаженным /сравним с названием целого цикла стихов Ахматовой «Трещотка прокаженного», в «Прологе» к которому читаем: «Не лирою влюбленного/Иду пленять народ — /Трещотка прокаженного/6 моей руке поет» /1,22/, а также эпиграф из Брюсова «Прокаженный молился.» к стихотворению «То, что я делаю, способен делать калсдый.» /1941/. Финал этого стихотворения, кстати, прямо выводит на тему загробного воздаяния, важную в данной евангельской притче: «Найдется ль кто-нибудь, кто свой горчайший час /На мой бы променял — я спрашиваю вас?/А не откинул бы с улыбкою сердитой /Мое прозвание, как корень ядовитый./О Господи! Воззри на легкий подвиг мой /И с миром отпусти свершившего домойл/1,226/. Но в контексте «Подражания Кафке» чувства героини сходны с переживаниями грешника, осужденного на некоем поэтическом подобии Страшного суда и обреченного нести последствия приговора, особенно мучительные «на фоне» недоступного райского блаженства: «Все три поколенья присяжных /Решили: виновна она./Меняются лица конвоя./В инфаркте шестой прокурор./А где-то чернеет от зноя/Огромный небесный простор./И полное прелести лето/Гуляет на том берегу.» /1,245/. Обратим внимание и на образ «того берега», очевидно, реки, «великой пропасти» /Лк. 19,26/ евангельской притчи, «Леты-Невы» /1,330/ поэтической системы Ахматовой. На «том берегу» /1,245/ находится «блаженное «где-то» /1,245/, символ которого — цветущий сад. Летний сад на берегу «Леты-Невы». О связи смерти и лета как символа рая и особой роли летнего /то есть, цветущего/ и Летнего /из одноименного стихотворения, где «замертво спят сотни тысяч шагов /Врагов и друзей, друзей и врагов./А шествию теней не видно конца.» /1,286/ подробнее будет сказано ниже. Здесь отметим лишь очевидное восприятие реки /Невы/ как Леты, разделяющей два мира и во всяком случае связанной со смертью и страданием. (Один из эпиграфов к «Решке» звучит так: «.я воды Леты пью,/Мне доктором запрещена унылость.» Пушкин.») Сочетание образов сада, реки и рая /дважды — в самом начале и в финале/ мы находим в стихотворении 1917 г. «В городе райского ключаря.». В стихотворении 1957 г. «Я над ними склонюсь как над чашей.», посвященном памяти О. Мандельштам, а ^ читаем: «Это наши проносятся тени/Над Невой, над Невой, над Невой,/Это плещет Нева о ступени,/Это пропуск в бессмертие твой» /1,250/, а также в уже упоминавшемся стихотворении «Летний сад» /1959/.
Ту же связь находим мы и в Эпилоге «Реквиема». Единственное отличие — образ вырубленного, уничтоженного «царского сада» /1,203/ как знака невозможности присутствия на земле даже отблеска, символа рая. Он возможен лишь «в смерти блаженной» /1,203/, когда воды Невы уже позволят /с «того берега», издалека — в мистическом смысле /услышать, как «голубь тюремный гулит вдали» /1,203/.
Образ рая возникает в нескольких поздних стихотворениях о любви, той, которую героиня сравнивает с гибелью, отравой, преступлением. Здесь рай как-то странно сближается, сливается в тексте с адской чернотой бешеной страсти: «Мы черным унизительным недугом /Наш называем несравненный рай» /2,299/. Это сближение зримо явлено в образе «полуброшенной новобрачной черно-белого легкого венка» /" Рисунок на книге стихов", 23 мая.
1958/. Если белый — святой, чистый, Божий: райский, то черныйгреховный, унизительный: адский.
Такое развитие получает важная для Ахматовой тема бесовского наваждения, обмана, подмены, «призрачного рая» /2,75/, странное блаженство которого возможно только «вопреки Всевышнему терпенью» /2,299/, (Хотя, конечно, благодаря терпению Богом человеческих беззакони^. Апофеозом этого мотива уже не потерянного /как в стихотворении 1917 г. «Я слышу иволги всегда печальный голос.» /, не разрушенного чьей-то злой рукой, но преданного рая видится стихотворение о сладости первородного греха, так и начинающееся: «Этот рай, где мы не согреши ли,/Тошен нам» /2,276/. Согласно апокрифу, развивающему темы библейских обетований, прародителям в момент изгнания была открыта вся история человечества — войны, беды, смерть, грех, приход Спасителя, конец света. Но «улыбающейся Еве» будущее кажется смутной тенью по сравнению с единственно важной для нее реальностью любви.
То, что причина совершившегося зла — дьявольский соблазн, зримо явлено в одной убийственной детали: стоящим на пороге грехопадения прародителям уже «тошен» «этот запах смертоносных лилий». Вспомним: лилия, «райский крин» , — один из самых устойчивых в христианской традиции символов невинности и чистоты. «Уподобься небесному крину» , — говорит Божий угодник героине стихотворения «Подошла я к сосновому лесу.», 1914 /1,103/, вспоминая слова Евангелия: «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядутно говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» /Лк.12, 27/. Этот белый, Божий цветок, по преданию, именно как символ абсолютной чистоты Архангел Гавриил принес Приснодеве Марии в день Благовещения, положившего начало искуплению совершенного Адамом и Евой, во грехе зачавшими «будущего убийцу» /2,276/.
Именно этот белый цветок, украшение икон Божией Матери и невест в день венчания, был воспет Ахматовой прежде всех ее знаменитых роз, нарциссов, сирени и маков: «Я лилий нарвала прекрасных и душистых, /Стыдливо-замкнутых, как дев невинный рой» /2,5/, — так начинается чуть ли не самое раннее из дошедших до нас стихотворений/" Лилии", 22 июня 1904/. «Свежих лилий аромат» разлит и на первых страницах «Вечера» /1,24/.
Это смешение, слияние в земной любви, в земной жизни рая и ада, оправдание которому — высокое творчество, характерно для таких шедевров зрелой ахматовской лирики, как «Ты всегда таинственный и новый.» /1917/, «А, ты думал, — я тоже такая.» /1921/, «Данте» /1936/. В цикле «Черный сон» /1917;1940/ любовь, проклинаемая и желанная, разрывает все связи — с небом /молитва/ и землей /стихи/: эта предельная опустошенность, смерть при жизни, явлена в простом и емком сравнении: «Словно ты у ада и у рая/Отнял душу вольную мою» /1,133/. Это предельное отчаяние, близкое к тому, что христианская аскетика именует чувством богооставленности, ахматовская героиня училась скрывать и преодолевать в течение долгих десятилетий. А если и упоминала, то вскользь, с иронией: «Стояла долго я у врат тяжелых ада,/Но было тихо и темно в аду./О, даже дьяволу меня не надо,/Куда же я пойду?.» /2,13/ - сказано в одном из ранних стихотворений /1910/^ написанных «на случай», в альбом W Валент. Кривича, с шуточной подписью «Гумильвица». Ад для героини — в настоящемв этой реальности ей предстоит провести всю «жизнь — проклятый ад» /1,37/, принять постыдную страшную смерть как условие счастливого возвращения «в отеческий сад» /1,234/. Впрочем, согласно христианскому вероучению, именно душа, достойная Царства Небесного, на земле претерпевает все муки ада: «Не смущаюсь я речью обидною,/Никого и ни в чем не виню ./Ты кончину мне дашь непостыдную /За постыдную жизнь мою» /2,37/.
Это будет сказано Ахматовой ехце в 1910;е годы (дата написания данного четверостишия). В стихотворениях о любви и творчестве слово «ад» имеет устойчивую связь с литературными и мифологическими представлениями о преисподней и ее владыкесатане. Здесь обычны отсылки к великим знатокам этого вопросаот классиков Данте и Гете до современника Булгакова. Возникает и вечная тема договора с нечистой силой: творчество, молодость, слава, любовь — в обмен на бессмертную душу. Реже слово «ад» употребляется в его прямом, собственно религиозном значении. Возникает оно и в качестве нравственной оценки эпохи.
Хронологически эти значения распределяются примерно так: ад — любовь, то, что воспето Данте, — ранняя лирика и период «Полночных стихов» — представление об аде — преисподней, уготованной людям за неправедную жизнь, характерно для ранней лирикив качестве этической оценки действительности это слово предстает в послереволюционный период, особенно ярко — начиная с 30-х гг. Яркий пример — строфа «Решки», не печатавшаяся при жизни автора: «Загремим мы безмолвным хором, /Мы, увенчанные позором: /» По ту сторону ада мы" /1,293/. В «Поэме без героя» и близких к ней произведениях возникает и ускользающий образ блаженства, «райского» по субъективному ощущению и демонического по природе. «Блаженный рай» 1913 г. осмысляется как «адская арлекинада», впрочем, не без вздоха сожаления об его утрате. Здесь мотив отречения от «преступных» радостей предполагает начало серьезной переоценки ценностей с точки зрения «вертикальной» религиозной морали/рай — адправедностьгрехБог — сатана/. Безусловно связанный с попыткой осмыслить происходящее после революции как проявление праведного гнева Божия, покаянный настрой «Поэмы.» доходит до некоей формулы «отрицания от сатаны», от соблазна, от строя мыслей, чувств, даже воспетого внешнего облика: «С той, какою была когда-то/В ожерелье черных агатов, /До долины Иосафата/Снова встретиться не хочу.» /1,324/. И тем не менее Петербург 1913 г. хотя и Содом, но все же не ад: преддверие, предтеча, игра, маскарад. Тот «кроваво-черный карнавал» /2,36/, начало которого предчувствует героиня стихотворения «Жрицами божественной бессмыслицы.», был знамением другой эпохи. Бели в «Поэме.», в «тринадцатом году», под мрачноватыми масками — знакомые, часто милые лица, то в безумии 30-х маска — человеческое лицосущность, скрытая под ней, — звериный оскал. Так тема ада в «Поэме.» охватывает несколько эпох — прошлое/условно — «1913 год» /, настоящее /условно — «тридцатые» /- близкое будущее, на глазах превращающееся в настоящее, — война, блокадаесть в «Поэме.» и апокалипсические прозрения. Итак, если рай — для другого, то ад — реальность для самой героини. Даже собственные «посмертные блуждания души» /1,115/ она представляет в традициях Дантова «Ада»: мотив «встречи в аду» возникает уже в ранних стихотворениях «Гость» /1 января 1914/ и «Над водой» — впоследствии мы увидим его в лирике 60-х гг.: «Мы в адском круге» /1,296/, — вырвется у героини «Полночных стихов» — «И странный спутник был мне послан адом .» — прозвучит начало стихотворения, датированного 60-ми гг.- «Не из ада ль/Повеял ветер, или дуновенье /Волшебное вдруг ощутили мы?» /2,298/ -говорит героиня «Пролога», «помня место дантовского круга, /Словно лавр победного венца» /2,284/.
Мотив договора с нечистой силой появляется уже в послереволюционных стихотворениях. Одно из первых по времени написано в сентябре 1922 г.: «Дьявол не выдал. Мне все удалось.» /1,143/. Близкое по стилю и тематике к любовной лирике, оно вполне традиционно повествует о последствиях договорао расплате бессилием, позором и отчаянием за призрачное бесовское «могущество». Это — как бы один из «поворотов» темы верности и предательства, необыкновенно существенной для Ахматовой и по-особому раскрытой в 20-е гг. Сталкиваясь все с новыми и новыми признаками дьявольского/в религиозном смысле/ происхождения «новой власти», Ахматова укрепляется в мысли о невозможности любой формы компромисса, сотрудничества с «секретарями»: для нее это — подписание договора с сатаной, добровольное соглашение на ад — с адом.
Тема страшной сделки, прозвучавшая в стихотворении 1945 г. «И очертанья „Фауста“ вдали. „получила некое завершение в стихотворении 1960 г.“ И юностью манит, и славу сулит.» В обоих стихотворениях нравственная невозможность подобного согласия подчеркнута не только очевидной «литературностью» /Гете/, но и тем, что сам факт подобного разговора /что есть уже некое соглашение, возможность «диалога» /, непредставим для «дневного» сознания: это — «черный сон», оборванный странным /неземным?/ предупреждением /" И очертанья «Фауста» вдали." /" ил и «горячечный бред» /" И юностью манит, и славу сулит." /. Тема обольщения, «договора» и страшной расплаты, столь важная в «Поэме.», звучит и в стихотворении «Из цикла «Юность», 1 «/осень 1940 г./.Горе тому, кто ищет утоления «бесовской черной жажды «творчества и полноты жизни во что бы то ни стало, любой ценой. Он не замечает и того, что обычно адская сделка заключается еще в раю. Для героини этодореволюционная Россия, покой и благодать «прохладной детской молодого века» /» Ива», 1940;1,188/. «Ты неотступен как совесть, /Как воздух, всегда со мною, /Зачем же зовешь к ответу?» /1,190/ - к кому обращены эти слова? И возможно ли покаяние, спасение, выход, исход? Его мучительно ищет героиня «Поэмы.» — ведь начало нового пути возможно лишь при условии признания прошлой, пусть и счастливой жизнивсе-таки маскарадом, «чертовней», недостойным и недолжным пиром. Так, потеряв навсегда «земной рай», «тринадцатый год», расплатившись, кажется, по всем счетам десятилетиями земного ада, душа, быть может, узнает когда-нибудь, что такое — рай небесный.
Счастливый, кто-то будет с Богом" /2,29/, — говорит о таком исходе героиня Ахматовой.
Но — странный парадокс: стремясь по-своему к Богу, все-таки конкретное знание она имеет о его вечном враге. До деталей знакомы ей уловки дьявола, его манеры, облик, место обитания. А вот что ей известно о Боге? Она часто упоминает имя Божие /с производными это одно из самых частотных слов у Ахматовой, наряду с такими, как «любовь» и «смерть» /, но много ли сумеем узнать мы от нее о свойствах, действии, облике Божества?
Из доброй сотни стихотворений, где звучит само слово «Бог» или его производные, около двадцати, в основном ранние, содержат простое определение «Божий», в большинстве случаев не носящее собственно религиозной окраски: часто оно означает просто «очень хороший», «особый», «дорогой». Это явление весьма распространено в стихах о любви и творчестве: «Божьим подарком» может стать кольцо, чистый воздух, солнце, а словосочетание «Божья благодать» прозвучит сниженно-иронически в контексте затеваемой любовной игры.
В поздний период функцию «упоминания всуе» принимает на себя восклицание, весьма далекое от выражения молитвенного восторга. Там, где другая вскрикнет «Ах!», ахматовская героиня вздыхает: «БожеГ.'Как и в ранней лирике, подобные восклицания почти междометного характера могут настолько противоречить всему страстному и вольному духу произведения, что воспринимаются как невольное кощунство. Именно таково раннее обращение «Господи» в стихотворении 1914 г. «Тяжела ты, любовная память!», призывание «Господней силы» в самом начале «адской арлекинады» «Поэмы.» .
Боже мой!", «Боже!» — восклицает героиня, продолжая все ту же вечную любовную игру /" Как! Только десять лет, ты шутишь, Боже мой!.", 1950;е- «Из Итальянского дневника», декабрь 1964;
Подражание корейскому", 1960;е гг.- «Я подымаю трубку — я называю имя.», 1950;е гг.
В стихотворении «Мы до того отравлены друг другом.» <1963> слова героини «Боже милостив, прости» /2,299/ - отнюдь не покаянный вопль о прощении. Напротив, «черный унизительный недуг», любовь-страсть сравнивается с веригами святого, как известно, употреблявшимися именно для того, чтобы избавить человека от всякого желания земной любви. Как и многие другие произведения, потенциально являющиеся фрагментами неосуществленного замысла второй редакции «Энума элиш» /" Пролога" /, этот отрывок имеет некий налет эротической символики «черной мессы», например, мотив тела, отданного любовнику в порыве страсти, «как Богу жертва», мотив «светлого мрака» и «прекрасного греха» и, как некий апофеоз, восклицание «Боже» на пике, пределе того, что сама героиня прямо именует «срамом» .
Есть подобные же элементы смешения понятий и в ранней лирике. Так, «Божий Ангел, зимнем утром/Тайно обрубивший нас» /1,88/ больше напоминает «веселого бога» /1,27/ Эрота. Не имеет отношения к религии и «Божий сад лучей» /1,109/, загорающийся над престолом «церкви темной и высокой» от возможности встречи влюбленных. Кстати, это стихотворение 1915 г. — «Долго шел через поля и села.» — обращено к атеисту Б.Анрепу. Традиция некоторого травестирования, имевшая место в ранней лирике, затихая в период огненных испытаний, вновь возникает в период «ахматовок». Так, «божественное слово» /1,297/ «Полночных стихов» — признание в страстной любви, а не то, действительно имеющее отношение к святости «пречистое слово», «священный глагол», о котором так сказано в стихотворении «Все ушли, и никто не вернулся.» /1930;е, I960/: «Осквернили пречистое слово, /Растоптали священный глагол» /1,245/. То же словосочетание «пречистое слово» в его прямом значении находим в четверостишии 1946 г.: «В каждом древе распятый Господь, /В каждом колосе Тело Христово, /И молитвы пречистое слово/Исцеляет болящую плоть» /1,238/.
Обращает на себя внимание следующая деталь: стихотворение «Тринадцать строчек» из цикла «Полночные стихи», цитированное нами выше, датировано 1963 годом. Вторая дата, проставленная под стихотворением «Все ушли, и никто не вернулся.» f — 1960 г. Значит, в творческом сознании Ахматовой одновременно и парадоксально сосуществовали оба значения слова «божественный» /синоним: «священный», «пречистый» / по отношению к Слову как таковому. Ведь абсурдно и даже кощунственно было бы предположить, что когда героиня стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся.» «с сиделками тридцать седьмого/Мыла.окровавленный пол», она оплакивала «осквернение» «пречистых» любовных клятв и признаний наравне с молитвой /1,238/ и со страшной судьбой сына, пытками, которым подвергались «в казематах» /1,245/ друзья. Хотя все же это трагическое стихотворение по форме — обращение к возлюбленному, «верному обету любви» /1,245/.
При сопоставлении таких, казалось бы, разных стихотворений^как «Все ушли, и никто не вернулся.» /1930;е, 1960/ и «Тринадцать строчек» /1963/- обращает на себя внимание определенный сюжетный параллелизм, точнее — общность главной лирической темы. Оба они по форме — обращение к возлюбленному, лирическому «ты», выделяемому из ряда прочих своей способностью любить «Не так, как т. е. что на одно колено» («Тринадцать строчек — 1,297). Сравним: „Все ушли, и никто не вернулся,/Только, верный обету любви,/Мой последний, лишь ты оглянулся.“ /» Все ушли, и никто не вернулся." - 1,245/. В обоих случаях «он», избранник, — «последний». Общим является и мотив слова, не достигшего цели в силу враждебности судьбы: «Дом был проклят, и проклято дело,/Тщетно песня звенела нежней.» /1,245/-" И даже я, кому убийцей быть /Божественного слова предстояло." /1,297/. В обоих случаях тишина становится двойником, маской, «тенью» насущно-важного, но невозможного в данных обстоятельствах «слова» /" песни" /Кстати, это редкий у Ахматовой случай констатации бессилия, тщетности, поражения Слова как поэтического, так и любовного/. Величественное, всемогущее, «царственное» /1,303/ слово оказывается растоптанным или побежденным грубой силой или неблагоприятным стечением обстоятельств. Как ни странно, именно такой смысл актуализирует сакральное значение слова, которое «было Бог» /Ин.1.1/. Ведь воплотившись, всемогущий Бог-Слово претерпел унижение и позорную смерть, чем доказал, что только через страдание можно достичь Царства Божия.
Героиня Ахматовой проклинает тишину как вынужденное молчание/" немоту" -1,245/ в стихотворении «Все ушли, и никто не вернулся» или поэтизирует ее /" запела тишина", «почти благоговейно замолчала» — 1,297/, но в обоих случаях она — знак трагического отсутствия слова/" петь" тишина начинает только когда «слово» произнесено/. Слово в контексте обоих стихотворений — символ полноты бытия, счастья, «нормы» в высоком, «божественном» значении. Символичной представляется и двойная датировка стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся.». Она указывает на то, что, собственно, ничего с 30-х по 60-е, то есть за тридцать лет, не изменилось в судьбе героини: она лишена «нормальной» жизни, о чем и говорит в заостренно-гротескной форме: «Любо мне, городской сумасшедшей,/По предсмертным бродить площадям» /!, 245/. На том же контрасте между реальной ситуацией, исключающей возможность счастья, и естественным желанием «жизнь благословенную продлить» /1,297/ построены и «Тринадцать строчек» как часть цикла «Полночные стихи». По сути, вся разница — лишь в интонации героини: в стихотворении «Все ушли, и никто не вернулся.» она кричит от невыносимой боли, а в «Тринадцати строчках» спокойно говорит о непереносимом. Отчаяние сменилось смирением — вот и все отличие. Трагедия несмирения стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся.» сменяется трагедией смирениясудьба из внешней силы превращается во внутреннюю интенцию самой героини, подразумевающую добровольный отказ от «беззаконного» счастья.
О том, что перед нами — именно трагедия смирения, подразумевающая не отказ от желания, а лишь трезвое ощущение невозможности его исполнения, свидетельствует мотив «убийства божественного слова» ^ как бы завершающий соответствующие мотивы «осквернения» «священного глагола» стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся.» Трагизм ситуации подчеркивается необходимостью героине, против своей воли, стать палачом, «убийцей.божественного слова» /1,297/, а значит, и последней любви — самого дорогого, что есть в ее жизни. Этот мотив лишен интонации суицида, напротив, это — род высокой жертвы: «поэтжрец и жертва — и попеременно, и в одно и то же времяон умирает и возрождаетсякак жрец он — „производитель“ смерти, но как жертва он восстановитель новой жизни и жизненной силы» 57. И если принять определение «божественный» не за метафору, а за обозначение связи между словом и Божьей волей, то понятным становится пафос «Полночных стихов», прославляющий отказ от земной радости ради исполнения задачи восстановления «новой жизни и жизненной силы», то есть отказ от «беззаконной любви» ради поэтического творчества.
В поэзии Ахматовой выделяется и другой «пласт», где слово «Божий» носит более или менее традиционный характер и подчас противопоставляет светлую норму «Божьего мира» несправедливости, беде, смерти: «Майский снег» (1916), «Для того.
67 Топоров В. Н. «Поэма без героя» в ритуальном аспекте //Анна Ахматова и русская культура начала 20 в. М., 1989. С. 19. ль тебя носила." (1918) и др. В ряде стихотворений слово «Божий» имеет и прямо религиозный смысл: принадлежащий Богу, свойственный Ему, исходящий от Него и др. Для них характерна предельная серьезность и сдержанность чувства: ведь речь идет о высокой смерти, мужестве, долге, выборе. В «Утешении» /1914/ принявший смерть в бою дорогой человек -" Божьего воинства новый воин" /1,98/- «Но светла свеча негасимая/За тебя у престола Божьего» /2,41^ - утешают героиню стихотворения «Уложила сыночка кудрявого.» /март 1940/ китежские колокола. Покорность «Господней воле» /1,148/ предполагает высокую независимость души /" Тебе покорной? Ты сошел с ума!.", 1921/. Так же и в стихотворении «Будешь жить, не зная лиха.» /1915/ оставленную женщину утешает «Божий дом» /1,66/, церковьк «Божьему престолу» летит ее голос, сливаясь с хором других, «бездомных.слепых и темных» /1,66/. Вполне традиционно и представление о гневе, «немилости Божьей» /1,96/, наказании — войне, засухе, непрекращающихся дождяхказнях, напоминающих грешным людям о приближающемся Страшном суде.
Ахматовская героиня часто произносит слова молитвы к Богу, хотя в раннем творчестве это — молитва — просьба о любви и вдохновении, то есть житейская, не вполне угодная Богу. Пока ее цель — не устремление к небесам, а улучшение земной жизни: героиня просит избавить ее от трудных, тяжелых житейских обстоятельств, пусть даже ценой смерти, хотя кончина в таком состоянии души может и не принести желанного покоя/" Ты знаешь, я томлюсь в неволе.", 1913 /'Памяти 19 июля 1914″, 1916/- просит о совершенствовании поэтического дара/" Песня о песне", 1916; «Я так молилась: „Утоли“ .», 1913/, о соединении с любимым для земного счастья, «земного царства» /например, «У самого моря», 1914: «Боже, мы мудро царствовать будем.» -1,124/. Эта же тема неотступной мольбы к Богу о даровании земного счастья любой ценой/его содержание, суть, а не просто символ или знак для героини — разделенная страстная любовь/ присутствует и в поздней лирике. В качестве примера укажем на стихотворение «Последняя роза» /1962/, где тема «светлого мрака и прекрасного греха» раскрывается в таких антитетичных по духовному «знаку» образах, как «падчерица Ирода» и девственная мученица Жанна д’Арк, хотя мотив исступления, мутящего разум, роднит мучениц страстной привязанности — к обряду ли внешнему, к земному ли мужчине — боярыню Морозову^ Дидону. Именно в таком состоянии молит героиня Бога «все взять» /заметим здесь определенную перекличку с подобным же чувством в ранней «Молитве» /, но уже не во славу Родины, а в обмен на возможность насладиться последней любовью (в стихотворении — свежестью «последней розы»).
Вполне естественно упоминание имени Божия часто сочетается с образом молитвы, но здесь хотелось бы обратить внимание не столько на образ молитвы как выражения внутреннего состояния героини /об этом будет сказано ниже/, сколько на образ Того, к Кому обращаются с молитвойна соотношение слова «Бог» и образа Божества, как он явлен в ахматовской лирикепоэтому, даже употребляя слово «молитва», мы в данном случае желали бы сосредоточиться не на субъекте, но на объекте религиозного /а чаще — вообще душевного/ порыва.
В творческом наследии Ахматовой можно выделить ряд стихотворений, являющих образец высокого, традиционно-христианского отношения к Творцу, напряженного внимания к проявлению Его воли, если и не на путях богословия, то в оценке происходящего с точки зрения высшей правды /см^налример, «Я горькая и старая. Морщины.» ^ 1919; «О Боже, за себя я все могу простить.», 1916 — «Причитание», 1922; стихи, посвященные «двум войнам» — «Реквием», стихи 30-х гг./. Здесь героиня стремится обрести среди запредельных страданий земной жизни высший, божественный смысл, найти тот самый «путь», что «тайно указывал» Ангел совсем еще юной душе/ «Помолись о нищей, о потерянной.», май 1912/.
Мы видим образ молитвенного обращения к Богу с целью вполне канонической — восстановления внутреннего мира, упокоения души усопшего и т. д. — в таких стихотворениях, как «Бесшумно ходили по дому.» (1914), «Страх, во тьме перебирая вещи.» (1921), в «Поэме без героя»: «Да простит тебя Бог!» /1, 334/. Иногда, в минуту последнего напряжения, когда смолкает любая речь, — эта молитва приобретает характер простого вздоха: «Боже!» /" Песенка. 1. Дорожная, или голос из темноты", 1943; «А человек, который для меня.», 1945; шестая «Северная элегия», 1945/. Есть в лирике Ахматовой и несколько стихотворений, в которых предельно глубоко и предельно просто раскрывается «узкий и тесный путь», по которому душа идет вслед за Христом. Это — путь избранных, и готовясь к нему, героиня в страхе и трепете ощущает себя избранницей Божией, Христовой невестой, с радостью принимая страдания, лишения и тесноту. Верой и мужеством веет от строк таких стихотворений, как «Моей сестре» (1914), «Земной отрадой сердца не томи.» (1921), «Предсказание» (1924 ).
Итак, можно сделать вывод: частое упоминание имени Божия, заметное при самом поверхностном знакомстве с творчеством Ахматовой, не всегда является знаком постоянной молитвенной памяти о Боге. Находясь «на устах», будучи родным и привычным, имя Бога как образ Божий проникает в сердце лишь в моменты крайнего напряжения душевных сил, но если это происходит, то мы сталкиваемся с удивительными образцами подлинного исповедания, глубокой веры, христианского отношения к жизни. Это явление, сравнительно редкое в любовной лирике58, чаще можно наблюдать в стихотворениях о судьбе личности и народа в периоды исторических потрясений. Доказывая верность мысли о неразрывной, таинственной связи религиозных и патриотических чувств, они появляются в период первой мировой войны, октябрьского переворота, кровавых 30-х и Великой Отечественной Войны, чтобы фактически исчезнуть после 1945 г. В этом смысле неким водоразделом стали стихотворение, написанное, по-видимому, около 1945 г., «Кого когда-то называли люди.» и четверостишие 1946 г. «В каждом древе Распятый Господь.». Тишина мудрости и вечного, вневременного покоя — вот тот неожиданный результат, тот выход из отчаяния, скорби и безнадежности, в которые была погружена героиня на протяжении нескольких десятилетий. Так пришла к ней «могучая евангельская старость'/1, 252/, внутренний покой и мир, удивительно и странно сочетающиеся с «горчайшим гефсиманским вздохом» («Борису Пастернаку» («И снова осень йДдыТ Тамерланом.», 1958;1, 252) новых испытаний.
Отголосок этой темы можно встретить в четверостишии 1964 г. «И это станет для людей /Как времена Веспасиана,/ А было это только рана /И муки облачко над ней» /1, 276/.
58 Вообще, «мука безнадежной любви» (с. 185), которую К. И. Чуковский в своей широко известной статье «Ахматова и Маяковский» считал признаком христианства у Ахматовой, на самом деле имеет более чем опосредованное отношение к христианству как религии любви к Богу и ближнемучто же касается ближнего, то «неразделенность» кенотической любви как бы составляет основу самого понятия: принципиальная важность жертвенной «односторонности» подчеркивается в евангельских поучениях о приглашении на пир, умении давать взаймы, не ожидая даже уплаты долга, о милостыне и помощи ближнемув страдании же от «неразделенности» есть неприемлемый для серьезного христианства элемент уязвленного самолюбия, по-человечески близкий и понятный, но именно как естественная немощь, требующая не вдохновенной песни, а суровой борьбы с самим собой.
ЪШШша.
Параллельно с этим величавым восхождением развивается тема «бесовщины», «чертовни», с годами занимающая все более серьезное место в творчестве Ахматовой. И если ранние ее стихи, при всех вольностях и даже кощунствах, были почти совершенно свободны от внимания к нечистой силе, а произведения, написанные между 1917 и 1940 г., часто носили прямо-исповеднический характер и были свидетельствами отчаянной и бескомпромиссной борьбы с мировым злом, в какой бы форме оно ни выступало, то уже во время Великой Отечественной войны сознание как бы расходится на два полюса: высокое отречение, напряжение патриотического и религиозного чувства стихов, так или иначе связанных с войной и репрессиями^- и пристальный, захватывающий интерес к манящим соблазнам «адской арлекинады» и ожившего после многих лет внутренней аскезы желания страстной любви. При всей неисчерпаемой глубине «Поэмы.» нельзя не отметить особое внимание, уделяемое в ней этой завораживающей прелести фантастической игры. В этом же направлении шла работа над второй редакцией «Пролога» — в том же ключе написаны многие стихотворения «ази^йского цикла», «Полночные стихи» и близкие к ним произведения.
Конечно, в стихах о России никогда и ни при каких обстоятельствах не была нарушаема целомудренная строгость, какая-то подчеркнутая «правильность» /с точки зрения христианства/ всего строя мыслей и чувств. Но если нередко, размышляя о судьбе России, народа, о личном пути, Ахматова говорит о Кресте Христовом, то образ Бога-Отца, как всегда, покрыт глубокой тайной /вполне каноническиведь, по учению Церкви, Бога-Отца невозможно видеть. Христос изображается в образе Сына ЧеловеческогоДух Святой в виде голубя или огненных языков. Все изображения Бога-Отца — адогматичны/.
Героиня Ахматовой, ощущая вездеприсутствие Божества, и не пытается заглянуть за таинственную завесу. Процесс богопознания для нее — смиренное постижение путей Промысла, как они раскрываются в земной судьбе личности, народа, страны. Именно смирение и мужество помогают ей избежать и намека на «вопросы Ивана Карамазова». Ее героиня, как бы вопреки всем страданиям — и внешним, и внутренним, — ни разу не возроптала и не усомнилась. Даже в ранний период творчества попытка некоего вопрошайия: «Отчего же Бог меня наказывал /Каждый день и каждый час?» /1, 61/ - решительно пресекается исповеданием благости недоведомых для земного рассудка путей Божия Промысла /" Помолись о нищей, о потерянной.", 1912/.
В этом смысле любовь к боли видится частью любви к Богу, и знаменитое «Слава тебе, безысходная боль!» /1, 40/ из модного декадентского мазохизма становится родом «осанны» в духе Достоевского, прошедшей через горнило если не сомнений, то страдания. Героиня очень глубоко ощущает именно особое доверие и любовь Божию, дающую человеку возможность через страдание прикоснуться к тайне Креста: «Туго согнутой веткой терновою /Мой венец на тебе заблестит. /Ничего, что росою багровою/ Он изнеженный лоб освежит» /" Предсказание", 1922;1, 145/. Готовность к жертве, желание претерпеть с благодарностью любое страдание /" Земной отрадой сердца не томи.", 1921/ - конечно же, скорее высокий идеал, чем повседневная реальность чувства. Но вопль обиды и непонимания нельзя путать с откровенным богоборчествомропот, даже спор с Богом как с живым, реальным Существом коренным образом отличается от отрицания бытия Божия.
Именно в конечных выводах — отменяет ли существование в мире, кажется, несокрушимого зла веру в Благого Творца-Вседержителя — расходятся карамазовский «63шт» и страдальческий вопль библейского праведника, к которому присоединяет свой голос и ахматовская героиня с тем, чтобы впоследствии присоединиться к чуду понимания и «осанны». Самым, пожалуй, значительным по силе трагической иронии, пропитанной какой-то запредельной болью и — через боль и иронию — благодарением, самым, так сказать, «иовским» произведением является, на наш взгляд, «Последний тост» /27 июля 1934/. Это — трагичная и смиренная хвала Богу, не укрывшему от земных страданий. Этопринятие боли, как судьбы и благословения, предание себя на милость или немилость Божию. Это — почти прямая реплика из Книги Иова, в обиде и разорении продолжавшего как-то непостижимо исповедовать веру в Бога любящего и милосердного. В «иовской теме» у Ахматовой есть одна поразительная особенность: она говорит о страданиях как о событиях внешней жизни и целомудренно — скупа на описание внутренних состояний, то есть, собственно, того, что обычно и называется страданием. Эта исключительная сдержанность лишь в «Реквиеме» как будто изменяет ей, на что были особые, не только личные, но и творческие причины.
Из новозаветных образов героине, по-видимому, очень близок блудный сын. Переживаемые им невзгоды — последствия его собственных ошибок, так что не на кого роптать, некого обвинять, кроме себя самого. «Достойное по делам своим приемлю» /JIk.23.41/ - эта мысль как бы пронизывает многие стихотворения Ахматовой, написанные после 1917 г. С покаянием связана и идея возвращения, как известно, необыкновенно важная в ее поэтическом наследии. Героине Ахматовой не удается получить утешение на земле, и в этом ее отличие и от Иова, и от блудного сына. Тем драгоценнее то спокойное достоинство, с которым она до конца несла свой крест. А о том, каким она представляла свой конец (и, соответственно, объяснение ее терпеливого отношения к страданиям как своего рода «плате за вход» в «Отеческий сад» — 1, 234}, сказано в поэме «Путем всея земли» /1940/. Идея возвращения — центральная в поэме, и в этом контексте «Отеческий сад» представляет очевидную контаминацию словосочетаний со вполне идентичным смыслом: «райский сад» и «дом Отчий», в значении, в котором употребляется последнее выражение в притче о блудном сыне /Лк.15.11.-32/. В поэме мы находим ряд доказательств тому, что свой путь в «Отеческий сад» героиня воспринимала как очень трудный /" Прямо под ноги пулям, /Расталкивая года, /По январям и июлям/ Я проберусь туда./ Никто не увидит ранку,/Крик не услышит мой,/Меня, китежанку,/Позвали домой '/1, 233/- «Я плакальщиц стаю /Веду за собой.» /1,234/. Но, когда страх достигает предела и смерть из единичного случая /" И в груде потемок/Зарезанный спал" - 1, 235/ становится уже каким-то общим роком, наподобие моровой язвы /" Знакомые зданья /Из смерти глядят" -1, 235/, приходит понимание своего пути именно как крестного /" Столицей распятой /Иду я домой" - 1, 235/, через страдание приводящего к вечному, блаженному покою: «В последнем жилище меня упокой» /1, 236/.
Такая смерть представляется заслуженной, но есть и «незаслуженный покой» /1, 290/ самоубийцы. Эволюция в отношении к самоубийству очевидна: от поэтизации к осуждению /линия Всеволода Князева в «Поэме без героя» /. Волнует Ахматову и цена смерти. Ведь возможен и такой вариант, близкий к самоубийству как фактическому отрицанию конечной справедливости и благости Провидения: «Похули Бога и умри», -предлагает жена Иову в момент, когда его страдания, кажется, достигают апогея /Иов, 2.9−10/. Мысль о прямой связи между богохульством и смертью мы находим у Ахматовой именно в «Библейских стихах»: «.и Бога хулит, /И Ангелу Смерти явиться велит» /" Библейские стихи. Рахиль", 1921 — 1, 153/.
Героиня Ахматовой склонна, кажется, повторить вслед за библейским Иовом: «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились, что нашли гроб?» /Иов, 3,20−22/. Но ни за смерть, ни за жизнь не готова она платить ценой предательства и богохульства.
Цена покоя /мира в душе/ - учиться прощать обидчиков и врагов. Бог, глухой ко всем стонам и воплям Иова, начинает помогать ему после его молитвы за жестокосердных друзей. Но перед героиней Ахматовой стоит иная задача. Одно дело — простить человека, который причинил зло лично тебе, а вот как молиться и прощать тех, кто вредит тем, кого ты любишь? Можно ли (и как?) примириться и даже «возлюбить» по-евангельски тех, кто разрушает церкви, весь уклад жизни великой державы, навязывает атеистическую идеологию? Впервые эта проблема встала перед героиней стихотворения «О Боже, за себя я все могу простить.» /дата «1916» — под вопросом, как нам кажется, указывающим на более позднюю датировку/. Эту же тему затрагивает стихотворение 1919 г. «Я горькая и старая. Морщины.» .
Ахматова ставит и пытается художественными средствами решить данную проблему, развивая тему молитвы за Россию. С 1915 г. /год написания знаменитой «Молитвы» / по 1922 г. этот жанр претерпевает существенные изменения. В 1915;м было ясно, что религиозный и патриотический долг призывают поэта просить родной стране победы, «славы лучей» /1, 99/, даже если самому поэту придется стать жертвой, заплатить личным счастьем за счастье родины. В 1922 г. подобная молитва представляется невозможной, хотя бы потому, что сама родина, кажется, перестала нуждаться и в молитве, и в «славе лучей», став «темной Россией» /1, 99/.
Одной из форм молитвы в таких условиях становится молитва-плач, близкая к темам 136 псалма «На реках Вавилонских.». Именно такой поэтической молитвой стало «Причитание» /1922/. Как и народный причет, передать стиль которого стремится поэт в данном стихотворении, оно восходит к библейской поэзии, что подчеркивается в первых же строках /" Госпо деви пок лонитеся/Во Святем Дворе Его" /1, 154/, представляющих собой скрытую библейскую цитату. В Псалме 28 читаем: «Принесите Господеви славу имени Его, поклонитеся Господеви во дворе святем Его» /Пс.28, 2/- в другом месте эта фраза звучит так: «Поклонитеся Господеви во дворе святем Его, да подвижится от лица Его вся земля» /Пс.95, 9/. Налицо парадокс: оба псалма — и 28-й, и 95-й — выражают ликование избранного народа Божия, прославляют Бога как Вседержителя и Царя Вселенной. Как же сочетается смысл, стоящий за данной скрытой цитатой^ с основной лирической темой «Причитания» — скорбным плачем русского народа, названного «богоносцем», при виде поругания святынь, с чувством окончательного поражения /" И крылом задетый ангельским,/ Колокол заговорил, /Не набатным грозным голосом, /А прощаясь навсегда" - 1, 155/?
Возможно, в этом видимом парадоксе заложена глубокая христианская идея. Внешнее поражение, нищета, изгнание — это, собственно, и есть удел христианина на земле. «В мире будете иметь скорбьно мужайтесь: Я победил мир» /Ин.17, 33/^ - говорит Христос Своим ученикам. Именно такую скорбь Христа ради и описывает Ахматова в «Причитании» :
И выходят из обители,/Ризы древние отдав,/Чудотворцы и святители,/Опираясь на клюки./Серафим в леса Саровские,/Стадо сельское пасти./Анна — в Кашин, уж не княжити,/Лен колючий теребить59. /Провожает Богородица,/Сына кутает в платок,/Старой нищенкой оброненный/У Господнего крыльца" /!? 155/.
59 Если появление в данном стихотворении преподобного Серафима Саровского объяснимо и памятной историей его сравнительно недавней канонизации /1903 г./, и всенародным почитанием, и любовью к нему самой Ахматовой, отразившейся как в поэзии, так и в личных высказываниях, то присутствие такой сравнительно малоизвестной святой, как Анна Кашинская f в качестве символа «Руси уходящей» объясняется причинами сугубо личного, почти интимного характера. В связи с этим вспомним выводы М. Б. Мейлаха о чертах сходства между судьбой святой княгини и русской поэтессы, день рождения которой /23 июня/ находится в календаре^с днем памяти с в. Анны Кашинской /25 июня/. Анна Кашинская, — замечает исследователь, -была связана с семейной традицией рода, и ее судьба /она была женой князя Михаила Ярославича Тверского, в 1313 г. умученного в Орде вместе с двумя сыновьями/ имела черты сходства с судьбой русской поэтессы /расстрел Н. С. Гумилева, многолетнее заключение в советской «Орде» — концлагере — сына, Л.Н.Гумилева/. Наблюдаются и черты сходства в истории канонизации (иначе — «прославления») святой княгини (канонизировали, потом, в связи с политическими событиями — борьбой никониан и раскольников. почитание было закрыто, частично восстановлено лишь после церковного Собора 1667 г. На протяжении нескольких веков Анна Кашинская была местночтимой, малоизвестной на Руси святой, и всероссийскую известность как святая и подвижница получила, собственно, лишь в Новое время) и историей признания поэзии Ахматовой с годами подлинной славы, сменяющимися опалой и насильственным забвением, а затем уже — положением «канонизированного» классика. См.: Мейлах М. Б. «Об именах Ахматовой, I. Анна// Russian Literature, 1975, N10/11, с. 51−52.
Но мужество и спокойствие в перенесении скорбей является чертой святости, то есть духовной победы добра над злом, обещанной Христом.
О такой победе и говорят псалмы, цитату из которых Ахматова вынесла в начало стихотворения. В том же Псалме 28 читаем: «Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром» /Пс.28, 11/. /Понятно, что речь идет о крепости в испытаниях и о внутреннем мире душ4 В том же контексте звучат и последние строки Псалма 96: «От лица Господня, яко грядет судити земли, судити вселенней в правду, и людем истиною Своею» /Пс.95, 13/. Возможно, приводя упомянутую цитату, Ахматова намекает и на обещанный в псалме грядущий Божий суд, в результате которого мир освободится от греха и зла, а те, кто страдал «ради Бога», получат вечное блаженство. На наш взгляд, именно эта мысль, как бы «зашифрованная» в цитате, является вторым, «оптимистическим» планом данного, казалось бы, безнадежно-скорбного стихотворения.
Таким образом, при резком изменении тональности, связанном с естественной реакцией на исторические перемены, сокровенная сущность молитвы за Россию не изменяется: это готовность к любым испытаниям и жертвам, принятие креста и распятия вместе с родной страной, «Чтобы туча над темной Россией / Стала облаком в славе лучей» /1, 99/.
Заметим, что идея Распятия постоянно присутствует в творчестве Ахматовой.
В ранней лирике данная тема зачастую трактуется несколько внешне /хотя уже в 1915 г. в стихотворении «Нам свежесть слов и чувства простоту.» Ахматова прямо уподобляет путь поэта крестному пути Иисуса Христа/. Но более типичной для раннего периода творчества остается трактовка темы Креста, Распятия как темы «крестика»: «Медный крестик дал мне в руки. /Словно брат родной.» / «Черная вилась дорога.», 1913 - 1, 84/- «Я отдала цыганке цепочку/ И золотой крестильный крестик» /" У самого моря", 1914 — 1, 123/- «Я руками обеими сжала/ На груди цепочку креста» /" Побег", 1914 — 1, 90/. Собственно «крестиком», то есть атрибутом, «аксессуаром», сувениром, имеющим лишь внешнее сходство с главным символом христианской веры, является и «крест престольный» /1, 146/, дважды появляющийся в стихотворениях о любви и разлуке, имеющих хорошо известный биографический подтекст. «Я только крест с собой взяла, /Тобою данный в день измены» /1, 91/ - пишет Ахматова в стихотворении 7.
1916 г. «Когда в мрачнейшей из столиц.» В 1921 г. она вернется к этой теме: «В тот давний го^ к, огда зажглась любовью/Как крест престольный в сердце обреченном» /1, 146/. (Имеется в виду стихотворение «В тот давний год, когда зажглась любовь.» .).
Однако все перечисленные стихотворения имеют одно общее свойство: они описывают ситуацию, требующую крайнего напряжения душевных сил, в каком-то смысле — критическую или переломную /" Побег", «Черная вилась дорога.», «Когда в мрачнейшей из столиц.», сцена гадания в поэме «У самого моря» /.
Но пока упоминание креста носит скорее интуитивный, даже рефлекторный характер и не связано с осознанным религиозным порывом и молитвой как углублением связи с Богом. Исключение составляет разве что стихотворение «Черная вилась дорога.», но и оно, несмотря на весь православный «антураж», относится, конечно, к любовной лирике.
Следующим этапом становится стихотворение «Страх, во тьме перебирая вещи.» /1921/. Здесь мы видим уже вполне сознательное отношение к кресту как к святыне и объекту религиозной молитвы. Причем то, что в качестве объекта молитвы выбран в данной ситуации именно крест /а не икона/, тоже вполне закономерно. «Прижимаю к сердцу крестик гладкий: /Боже, мир душе моей верни!» /1, 163/. Сюжет разбираемого стихотворения описание борьбы героини со всеобъемлющим страхом, имеющим причины как «исторические» /" .поблескиванье дул/ В грудь мою направленных винтовок" /1, 162/, так и иррациональные /" За стеною слышен стук зловещий — /Что там, крысы, призрак или вор? /В душной кухне плещется водою, /Половицам шатким счет ведет, /С глянцевитой черной бородою /За окном чердачным промелькнет/ «И притихнет.» — 1, 162/. Биографическим подтекстом данного стихотворения очевидно является острая реакция на «красный террор», одной из жертв которого стал Н. С. Гумилев.
Итак, описана практически безвыходная ситуация, чреватая гибелью или безумием. Но знает ли героиня или только догадывается, что именно в таких, критических, ситуациях православная традиция рекомендует призывать на помощь крестную силу и читать молитву Кресту Господню? Соответствующий раздел православного Молитвослова так и называется: «Во время бедствия и нападения врагов». Здесь, помимо особых тропаря и кондака, обращенных ко Христу, находится текст Псалма 90 /" Живый в помощи Вышняго." / и молитвы Кресту /" Да воскреснет Бог." /60.
Псалом 90 выражает надежду верующего на помощь Божию в тяжелых, безвыходных ситуациях наподобие той, в которой находится героиня разбираемого стихотворения. Обратим внимание на ряд параллелей:
Не убоишися страха нощнаго" /Пс.90, 5/ - «Страх, во тьме перебирая вещи.» /1, 162/- «От стрелы летящия во дни» /Пс.90, 5/ - «.поблескиванье дул/ На меня направленных винтовок» /1, 162/- «От вещи во тьме преходящия» /Пс.90, 6/ - «За стеною слышен стук зловещий — /Что там — крысы, призрак или вор?/ В душной кухне плещется водою, /Половицам шатким счет ведет» .
60Православный молитвослов и псалтирь. М., 1980.С.115.
1, 162/. Этот параллелизм характерен для первых четырех строф стихотворения, составляющих описание тяжелого внутреннего состояния героини. Выход она находит лишь в финале /пятая строфа/, в молитве Кресту, не приносящей чудесного изменения ситуации, о чем свидетельствуют последние строки: «Запах тленья обморочно сладкие/Веет от прохладной простыни» — 1, 163/, но дающей силы выстоять (вернуть «мир душе» — 1, 163). Соответственно и молитва Кресту, прогоняющему бесов и «всякого супостата», завершает серию соответствующих молитвенных текстов.
Безусловно, стихотворение «Страх, во тьме перебирая вещи.» не принадлежит ни к жанру стихотворного переложения священных текстов /псалмов и др./, ни к жанру поэтической молитвы. Перед нами — лирическое описание интуитивного выбора религиозного типа реакции на экстремальную ситуацию, сознательность и глубина которого подчеркивается «угадыванием» или даже скрытым цитированием молитвенных текстов, рекомендованных православной Церковью /причем соблюдается даже последовательность их произнесения/.
Тема «крестика» постепенно углубляется в творчестве Ахматовой через прикосновение к реальному опыту сострадания, сораспятия, столь существенному для нее в 20-е и особенно в 30-е годы. «Разве не я тогда у Креста?» /2, 44/ - воскликнет она в 1944 г., подводя некоторые скорбные итоги. «Нательный крестик» теперь — символ постоянного присутствия воли Божией в человеческой судьбе. «Свой крест» несет не только человек, но и весь мир, природа:
В каждом древе распятый Господь, В каждом колосе Тело Христово, И молитвы пречистое слово Исцеляет болящую плоть^ /1, 238/.
— говорится в стихотворении 1946 г.
А главной лирической темой стихотворения «Кого когда-то называли люди.», написанного в тот же период /1945 г. / становится живое переживание сопричастности человеческой жизни Кресту Господню как смерти/ «Вкусили смерть свидетели Христовы, /И сплетницы — старухи, и солдаты, /И прокуратор Рима.» / и духовной победе над страданием и смертью, устойчивым символом которого является «царственное Слово»: «Ржавеет золото, и истлевает сталь, /Крошится мрамор — к смерти все готово. /Всего прочнее на земле печаль /И долговечнейцарственное Слово» /1, 303/. Героиня через личный крест -" крестик", «согретый теплотой. грудистановится частью мировой истории, как «фактической», событийной, так и онтологической, духовной. Но, в отличие от многих других участников исторической драмы, безмолвно сходящих со сцены, чтобы «Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой /И с запахом священных роз» /1, 303/, поэту суждена роль «со словами». Собственно, «слово» и есть ее роль, точнее — ее долг и род религиозного послушания, ведь оно — «царственное», а значит, имеет прямое отношение к Тому, «Кого когда-то называли люди /Царем в насмешку, Богом в самом деле» /1, 303/. Возвращаясь к проблемам «божественного слова» и «пречистого глагола», поставленным нами в сопоставительном анализе стихотворений «Все ушли, и никто не вернулся.» /1930;е, 1960/ и «Тридцать строчек» /1963/, можно сказать, что «царственное слово» — еще одна ипостась Слова. В ней «высший порядок» достигается сочетанием смыслов «поэтический» и «религиозный» в понятии «царственный». Понимание своей миссии поэта как того, кто произносит именно «царственное», одновременно поэтическое и религиозное / мотив Псалмопевца царя Давида подчеркивается и перекличкой строки «всего прочнее на земле печаль» /1, 303/ со строками стихотворения 1916 г. «Майский снег»: «Во мне печаль, которой царь Давид /По-царски одарил тысячелетья» — 1, 95^ было одной из важнейших составляющих своеобразного религиозного типа мировосприятия Ахматовой. И не случайно своей покровительницей она избирает именно «Сретенскую Анну» — Анну — пророчицу / день церковного празднования -16 февраля/. Вполне определенную связь ощущает Ахматова и с апостолом Иоанном Богословом, «в котором Анна Ахматова видит свой словесный дар. В ее системе дни «Анн» и «Иоаннов» — время откровений» 61 .
В статье «Об ахматовской нумерологии и менологии» В. Н. Топоров обращает внимание на следующее обстоятельство: «Личное» и «историческое» — составные части чего-то единого, различающиеся лишь тем, что на одном полюсе — история, переживаемая лично и личностно, на другом — такая же «историзированная» личность, через которую проходят все флюиды истории, то «Я», которое как магнит притягивает к себе все историческое, им страдает, им строится и живет" 62 .
Символом сочетания страдания со «строительством» собственной личности /" я" / в лирике Ахматовой как раз и явился крест, в том числе — и как «крестик», то есть крест личный, нательный. Ярким примером подобного «религиозного историзма» является рассматриваемое нами стихотворение «Кого когда-то называли люди.» /1945/. Тема «крестика» как личного креста нередко возникает на пороге исторических потрясений (обратим внимание на даты стихотворений: «Черная вилась дорога» — 1913; «Побег» — 1914; «У самого моря» — 1914) или личных испытаний («Страх, во тьме перебирая вещи — 1921 г., до запрещения и гонений остается несколько лет- «Кого когда-то называли люди.» .
61 Фарино Е. А. «Все души малых на высоких звездах.» Ахматовой // Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. М., 1989. С. 36.
62 Топоров В. Н. Об ахматовской нумерологии и менологии // Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. М., 1989#С.14.
— 1945 г.- до печального известного «Постановления» — около года.).
Среди стихотворений о личном кресте — «крестике» выделяется «Колыбельная» /1915?/, открывающая еще один аспект данной темы. «Подарили белый крестик /Твоему отцу» /1, 173/ - с глубокой печалью рассказывает героиня маленькому сыну об отце, погибшем на фронте. Здесь могильный крест является символом и венцом человеческой жизни, такой, как в «Колыбельной»: «Было горе, будет горе, /Горю нет конца.» /1, 173/.
Все могильные кресты в стихах Ахматовой стоят на могилах «страдальцев», даже если «страдание» вполне субъективно или только подразумевается, как в одном из первых дошедших до нас стихотворений 1904(?) г.-" Над черною бездной с тобою я шла". В более поздних произведениях этот мотив проясняется: «Буду тихо на погосте.» /1915/- «Не от того ль, уйдя от легкости проклятой.» /1917/- «Поздний ответ» /1940/. Прямое указание на мученичество тех, кто должен лежать под крестом, находим в Эпилоге «Поэмы.»: «И на старом Волковом поле, /Где могу я рыдать на воле /В чаще новых твоих крестов» /1, 317/. «Дострадать до огня над могилой.» /2, 90/ - скажет о жизни-кресте поэт в «страдальческом» 1946;м.
В 30-е годы образ креста как памятника оконченной страдальческой жизни и одновременно — знака высшего смысла страдания /будущего воскресения из мертвых/ приобретает черты универсального символа. В «Реквиеме» ленинградская тюрьма «Кресты» — символ именно такой общей смертной чашиздесь «Кресты» стоят на братской могиле России /вспомнимв трагических строках «Позднего ответа» и Эпилога «Поэмы.» слово «крест» стоит во множественном числе, что подчеркивает мысль об общем, а не индивидуальном страдании: идея «крестика» сменяется образом «Крестов» /.
Обостренное чувство справедливости не позволяет Ахматовой причислить себя к распинаемым: ее место — у Креста /так же как и в Эпилоге «Поэмы» на допрос идет не она и не героиня, а «двойник» /1, 342/. Этот удел — не распятие, но сораспятие, не страдание, но сострадание"выпал Матери Божией, и героиня «Реквиема» ищет именно у Девы Марии поддержкиименно Дева Мария становится «примером для подражания». Героиня учится у Нее молчаливому смирению и покорности воле Божией. (Диптих «Распятие» — 1938, 1940).
Приняв страдание, она парадоксальным образом обретает покой, в высокой степени свойственный позднему периоду творчества. Тема Креста в эти годы почти исчезает, и это не в последнюю очередь связано с тем, что, принятый как неотъемлемая часть жизни, «растворившийся» в самосознании, крест перестает быть объектом специального внимания и рефлексии. Тема уходит вовне: «Но не было в мире прекрасней зимы, /И не было в небе узорней крестов, /Воздушней цепочек, длиннее мостов.» /" Трилистник Московский. Еще тост", 1961;1963 — 1, 293/. Но возникает образ Матери Божией, вообще сравнительно поздний и весьма редкий в творчестве Ахматовой, при том, что, как верующая христианка, она чтила Деву Марию. Особенно близок ей был образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость», сопровождавший ее всю жизнь. Именно такой образ был подарен Ахматовой Н. С. Гумилевым и всегда висел на стене в ее комнате. Огромный отрезок жизни, связанный с Москвой, был неотделим для поэта от дома Ардовых на Ордынке, стоявшего напротив Преображенского храма, более известного как Скорбященский по названию хранившейся в нем явленной чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». «Пока позволяло здоровье, живя на Ордынке, Анна Андреевна ходила в нашу церковь «Всех скорбящих Радости», наискось от нашего дома. Она надевала темное платье, а на голову повязывала белый платок и внешне ничем не отличалась от прочих прихожанок «Скорбященской». Как-то В. В. Ардов пустился в рассуждения о том, что православное богослужение выгодно отличается от католического. Ахматова сказала: «Я, как человек верующий, не могу об этом судить», -вспоминает священник М.В.Ардов63 .
Он же указывал на факт особого почитания Ахматовой именно образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Таким образом, эта икона как бы «связала» личную жизнь поэта /подарок первого мужа, сопровождавший всю жизнь/, Москву с ее «Легендарной Ордынкой» и Петербург, где эта икона была особо чтимым чудотворным образом, особенно после чуда «в 1888 г., когда во время страшной грозы молния ударила в часовню, но находившаяся в ней святая икона Царицы Небесной осталась невредимойк ней лишь прилепились мелкие медные монеты /грошики/^ лежавшие перед иконой» 64. В память этого чуда был установлен специальный церковный праздник 23 июля по старому стилю (5 августа — по новому). Но память верующего петербуржца, да и любого русского православного человека не могла не подсказать другой даты, связанной с этой иконой. Церковное празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», установленное еще в 17 веке, приходилось на 24 октября по старому стилю (6 ноября по новому), то есть на канун октябрьского переворота. Думается, Ахматова, с ее историзмом, предполагающим особые связи между событиями мирового масштаба, личной судьбой и волей Божией, не случайно упомянула именно образ «Скорбящей» в своем позднем шедевре «Петербург в 1913 году» /1961/, написанном, кстати, в доме на Ордынке.
В этом стихотворении много символов, начиная от даты «1913 год», вынесенной в заглавие. Об особой" роли «Тринадцатого года» в личной и творческой судьбе Ахматовой хорошо известно.
68 Ардов М. В., священник. Легендарная Ордынка // Чистые пруды. Альманах. М., 1990. С. 683.
Настольная книга священнослужителя. Месяцеслов /март-август/.М., 1979. Т.З.С.622.
Остановимся на строках: «Паровик идет до Скорбящей, /И гудочек его щемящий /Откликается над Невой» /1, 291/. «Скорбящая», упоминающаяся здесь^ - церковь, построенная в 1898 г. на месте часовни на Стекольном заводе, где хранилась чудотворная икона, о которой было сказано выше. Если сопоставить значения «конечной остановки» с датой празднования образа — 6 ноября, то окажется, что перед нами — символ черты, разделяющей два мира, две эпохи. «Паровик» дореволюционной России «идет до Скорбящей», а затем уже его собрат — «паровоз» — мчится по разгульным просторам известной революционной песни, убежденный, что ему — «в Коммуне остановка». «Щемящий гудочек» паровика, «откликнувшись над Невой», вскоре зазвучит у стен тюрьмы на берегу Невы совсем по-другому: «И когда, обезумев от муки, /Шли уже осужденных полки, /И короткую песню разлуки/ Паровозные пели гудки» /1, 197/.
В черном ветре злоба и воля. /Тут уже до Горячего поля, /Вероятно, рукой подать" /1, 291/. Таким образом, следующей символической остановкой «паровика» — паровоза после «Скорбящей» и подразумеваемой «Коммуны» как победы революции поэт прямо называет Горячее Поле, «пустырь за Невской заставой, в прошлом место мусорной свалки, приют петербургских бродяг, после революции — место расстрела большевиками всех «контрреволюционных элементов города» /1, 425/. В этом контексте звучание словосочетания «злоба и воля» наводит на вполне определенные ассоциации с репетицией «Горячего поля» — деятельностью организаций «Земля и воля» и «Народная воля». О правомерности подобных ассоциаций свидетельствует стихотворный отрывок, очевидно являющийся вариантом данного стихотворения, но имеющий связь и со строфами, «не пущенными» в «Поэму.»: «Словно память «Народной воли». /Тут уже до Горячего поля, /Вероятно, рукой подать'' /1, 348/. Далее текст совпадает с каноническим. В контексте данного стихотворения не случайным кажется и тот факт, что парадоксальная связь религиозных мотивов и «памяти «Народной воли» /1, 348/ могла быть одним из детских воспоминаний самого поэта: «Анна Андреевна рассказывала, что мать ее, Инна Эразмовна, в молодости была связана с «Народной волей». Потом стала религиозной, но среди друзей непременно называла народовольцев «наш кружок^' - пишет Е. Добин65 .
Как известно, стихотворение Ахматовой кончается так: Тут мой голос смолкает вещий, Тут еще чудеса похлеще, Но уйдем — мне некогда ждать /1, 291/.
Заметим, что Ахматова сама подчеркивает такое качество своего голоса, как «вещий». Какие же «чудеса похлеще» провидит она в будущем? В контексте присущих ей эсхатологических настроений, усилившихся в поздний период творчества /об этом подробнее будет сказано ниже/, можно предположить за этими словами именно апокалипсический смысл. Тем более, что поэт прямо говорит, что его земной путь подходит к концу, что этих новых «чудес» ему уже «некогда ждать». Вспомним, что стихотворение датировано 1961;м годом. «Ждать» Ахматовой и впрямь оставалось недолго.
Итак, особый ахматовский историзм, предполагающий связь между событиями мирового масштаба, жизненной позицией конкретной личности как фактором исторического значения и волей Божией^ - черта, в той или иной мере присущая произведениям, упоминающим крест /в том числе и как личный «крестик» /, православную святыню, икону Матери Божией. Тема святыни — креста или иконы, самого имени Бога или Божьей Матери является одной из постоянно присутствующих в творчестве Ахматовой, как и образы рая, ада и сатаны.
05 Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой. Литературный портрет. // Добин Е. Сюжет и действительность. JI., 1976. С. 14.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В заключение необходимо сказать следущее. Данная работа является, насколько известно, первой в отечественном литературоведении попыткой целостного исследования проблемы художественного осмысления и поэтического воплощения религиозных мотивов творчества Ахматовой. Предпринимавшиеся ранее исследования подобного рода носили или фрагментальный характер^, или не учитывали специфики мировоззрения самого поэта. Ахматова, при всем своеобразии личного религиозного опыта, не просто признавала существование Бога, но сознавала себя православной христианкой, что нашло отражение как в образном и идеологическом строе ее поэзии, так и в жизненной позиции /исключение составляют некоторые сугубо личные, интимные акспекты, отношение к которым Ахматовой никак не согласовывалось с точкой зрения православной Церкви/.
Бытие Божие было для поэта не «мифом», но абсолютной реальностью, такой же, и зримый «мир родной, понятный и телесный» /1,105/. Человеческие ошибки, «грех и немощь» /" Многим", 1922/ никогда не заслоняли для нее высокие идеалы христианства, помогавшие ей не только создать уникальный поэтический мир, но и выстоять перед лицом испытаний как личность, просто живой человек. Именно период испытаний, собственно длившийся почти всю ее творческую жизнь, выявил следущую особенность: Ахматова, «согласившись» на свою судьбу, так и не смогла с ней до конца по-христиански смириться. Об этом она пишет в «Решке» :
Торжествами гражданской смерти.
Я по горло сыта. Поверьте,.
Вижу их, что ни ночь, во сне.
Отлучить от стола и ложа ;
Это вздор еще, но негоже Выносить, что досталось мне /1,338/.
Это — позиция мужественной женщины, великого русского поэта, но не чувства «церковно» верующей христианки, которая должна была бы, напротив, благодарить Бога за страдания, которыми очищаются грехи и благодаря которым, особенно если они не заслужены, человек может надеяться на помилование на Страшном Суде.
Но именно эта антиномия оказалась необыкновенно плодотворной в творческом отношении. Постоянная борьба /и одновременно сосуществование I/ начал «земных» и «небесных» позволяет создать особый поэтический мир, особый тип героиниверующей женщины, не отказавшейся от мира, но живущей всей полнотой земной жизни, со всеми ее радостями, печалями и грехами. Эта двойственность облика героини приводила к восприятию ее как личности, сочетающей в себе черты «монахини» и «блудницы» .
Система религиозных взглядов Ахматовой обычно совпадает с традиционным русским, даже народным, вероисповеданием. Ее поведение и оценки окружающего мира и событий в этом смысле вполне «предсказуемы» и нуждаются скорее в регистрации, чем в особой интерпретации. Гораздо сложнее дело обстоит с чисто художественным воплощением религиозной идеи как собственно в христианских образах, темах и мотивах, так и в возможной христианской оценке вопросов, не являющихся исключительно религиозными /жизнь и смерть, война, социальные потрясения, природа, город, и т. д./.
При решении данного вопроса необходимо обратиться к сфере функционирования той или иной лексемы, в поэтическом мире Ахматовой играющей роль символа, предполагающего.
множественность интерпретаций. Здесь приходят на помощь методы, применяемые при составлении тезаурусов писателей и отдельных произведений, а также принципы контент-анализа текстов. «Сухие» статистические подсчеты /частотность, распределение основного лексического значения того или иного слова-" символа" по периодам творчества и т. д./ служат базой для более широких и подчас неожиданных литературно-исторических обобщений. Подобные методы были положены в основу и данной работы. Кроме того, следует отметить фактическое отсутствие специальных исследований, содержащих реальный комментарий религиозных аспектов творчества Ахматовой. Сведения подобного рода приходится собирать буквально по крупицам из различных источников, подчас характеризующихся как неполнотой, так и тенденциозной, неглубокой, а подчас и неверной интерпретацией интересующих НАС фактов. Но основную работу в этом направлении приходится проделывать «с нуля» .
Нераскрытой остается значительная часть скрытых цитат из Ветхого и Нового Завета, других священных текстов. Отсутствуют многие необходимые сведения о реалиях религиозной жизни, упоминающихся в произведениях Ахматовой /монастыри, храмы, иконы, церковные праздники, моменты богослужения, обряды и т. д./. Таким образом^ огромный пласт символов выпадает из поля зрения исследователей.
Некоторые сведения подобного рода были сообщены в данной работе, но объем и фактическая неразработанность данной темы, как и обилие материала, настоятельно требуют специального фундаментального исследования данного вопроса. Приведем лишь несколько примеров цитат из Священного писания, существующих в текстах Ахматовой, но до настоящего времени лишенных не только интерпретации, но подчас и не раскрытых, а то и не замеченных комментаторами.
Строки стихотворения «Песенка» /1911/: «Будет камень вместо хлеба/ Мне наградой злой» /1,36/ - поэтическое переосмысление следующих слов Христа: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» /Лк.II, II/. Мотив «камня вместо хлеба» является традиционным в русской литературе: не останавливаясь на этом вопросе подробно, укажем лишь на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нищий» /1830/.
В стихотворении «Дал Ты мне молодость трудную.» /1912/ строки «Господи, я нерадивая,/ Твоя скупая раба» /1,62/ отсылают к евангельской притче о скупом, злом рабе /Мф. 18,23−35/. О «нерадивом рабе» сказано в евангельской притче о талантах /Мф.25,14−31 и Лк.19,12−27/. О верном и нерадивом рабах говорит Христос и в притче, призывающей к постоянному духовному бодрствованию ввиду приближающегося Второго Пришествия и Страшного Суда /Мф.24,45−51 и Лк.12,36−43/.
Строки стихотворения «Песня о песне» /1916/: «Я только сею. Собирать /Цридут другие. Что же! /И жниц ликующую рать /Благослови, о Боже!» /1,74/ - также являются скрытой евангельской цитатой. В Евангелии читаем: «Жнущий получает награду и получает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. И в этом случае справедливо изречение: «один сеет, а другой жнет» /Ин.4,35−36/.
Отсылает к этой же самой главе Евангелия от Иоанна стихотворение «Город сгинул последнего дома.» /1916/. «Хромой человекобгоняющий «тройку сытых, веселых коней» /1,119−120/, обладающий сверхестественным даром пророчества и исцеления, напоминает Христа из благочестивого народного предания о том, как ходит Сын Божий по многострадальной Русской земле в образе нищего странника, помогает бедным и несчастным:
Было страшно, что он обгоняет Тройку сытых, веселых конейПостоит и опять ковыляет Под тяжелою ношей своей.
Мы заметить почти не успели, Как он возле кибитки возник. Словно звезды глаза голубели, Освещая измученный лик.
Я к нему протянула ребенка, Поднял руку со следом оков И промолвил мне благостно-звонко: «Будет сын твой и жив и здоров!» /1,120/.
Обещание здоровья сыну героини сравним с евангельским рассказом об исцелении Христом сына царедворца, который) встретив на пути Христа, попросил исцелить больного мальчика: «Царедворец говорит Ему: Господи, приди, пока йе умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. По дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров» /Ин.4,46−53/.
Мотив «небесного огня», присутствующий в стихотворении 1913 г." Я так молилась: «Утоли.', восходит к ветхозаветному рассказу о чудесном огне, нисшедшем на жертвенник по молитве святого пророка Илии /3 ЦАРСТВ. 18,36−39/.
В качестве примера использования цитат из богослужебных текстов приведем лишь два случая использования текстов служб Страстной Седмицы, символика которой занимает особое место в.
поэтическом мире Ахматовой, что связано и с практикой ее религиозной жизни.
Строки из цикла «Июль 1914″ /1914/: „Ранят Тело Твое пресвятое,/“ Мечут жребий о ризах твоих» /1,97/-соответствуют прокимну /глас 4/ Утрени Великого Пятка: «Разделиша ризы Моя себе и о одежди моей меташа жребий» 144. Эти же слова мы находим в Евангельском повествовании о Распятии: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитонхитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей метали жеребий» /Ин.19,23−24/. «Реченное в Писании», о котором сказано в данном евангельском тексте, -следущая фраза Псалма 21, являющегося пророчеством о страданиях и распятии Христа: «Разделиша ризы моя себе и о одежди моей меташа жребий» /Пс.21,19/.
Текст Ирмоса IX песни канона Великой Субботы: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе.» 145- лег в основу диптиха «Распятие», где он использован в качестве эпиграфа: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи» /поэт допускает неточное цитирование, изменяя порядок слов/. В основе диптиха лежит ряд евангельских текстов. О присутствии Матери Божией при Кресте Иисуса читаем: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова^и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!» /Ин. 19,25−27/. Вспомним строки Ахматовой: «Магдалина.
144 Православный богослужебный сборник. М., 1991. С. 283.
145 Там же. С. 292.
билась и рыдала, /Ученик любимый каменел, /А туда, где молча Мать стояла, /Так никто взглянуть и не посмел" /1,201/.
Строки «Распятия»: «Отцу сказал: «Почто Меня оставил!» /А Матери: «О, не рыдай Мене.» /1,201/-представляют собой контаминацию процитированного выше IX Ирмоса Канона Великой Субботы и евангельских текстов, повествующих о Распятии: «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или! лама савахфани?''то есть:'^Зоже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» /Мф.27,46/. Параллельный текст находи, в Евангелии от Марка /Мф. 16,34/.
Завершая данную работу, хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость подробного и комплексного исследования вопроса художественного воплощения религиозного чувства, вопросов веры, неверия и богоискательства как в творчестве конкретного художника слова, в данном случае — Анны Ахматовой, так и в контексте русской литературы Нового Времени с ее особым подходом и глубоким интересом к проблемам религиозного характера, органично существующей в тысячелетней традиции Православия, связанной с христианством бесчисленными связями и творчески использующей накопленный внутри данной традиции великий духовный потенциал.
л рид о*ясв ние.
^ Религиозные аспекты темы города в поэзии Ахматовой.
Тема города — Петербурга, Царского Села, Москвы, Новгорода, Бежецка, Ташкента и шире — города как особого социокультурного, духовного явления — Рре^стА'йАяетм из самых.
значительных и сложных у Ахматовой. «Профили городов, очерченные немногими уверенными штрихами, проходят перед нами. Художественное впечатление создается преимущественно архитектурными массами. Но первое место в ее стихах, несомненно, принадлежит Петербургу. Поэт, обычно столь сдержанный, в отношении к нему расточает эпитеты. Благородная простота лирического стиля сменяется торжественностью славословия. Слова звучат более важно, громко и полновесно. «Чудесный город Петров», «град угрюмый», «дивный град» -славянизмы здесь усиливают величие и возвышенность образа царственного Петербурга. И этот «город-марево», эти очертания столицы во мгле напоены такой напряженной любовью, что пластическая тема развивается чисто лирически. Стихи Ахматовой о Петербурге — «любовные песни.» — пишет в статье 1921 года «Поэтическое творчество Ахматовой» К.В.Мочульский130. Этот подробный и глубокий разбор «Белой стаи» выявил некоторые аспекты, которые со временем окажутся формообразующими, существенными для всего творчества поэта. В частности, это относится к интерпретации темы города.
Ахматова обогатила творимый «петербургский миф» /" Из записных книжек" - 1, 364/ мифом Петрограда — Ленинграда. Среди исследователей, обратившихся к «петербургскому мифу» в творчестве Ахматовой, можно назвать В. Н. Топорова, Шарон Лейтер, В. А. Морозова и многих других. Но, на наш взгляд,.
130 Мочульский К. Поэтическое творчество Анны Ахматовой // Литературное обозрение. 1989. N 5. С. 51.
религиозные аспекты темы Петербурга /шире — темы города/ в творчестве Ахматовой если и рассматривались, то не как особая, отдельная тема, а как часть именно «петербургского мифа», существующего в контексте культуры и истории с введением элементов мистического, а иногда и оккультного характера.
" Эсхатологические мотивы более всего в петербургском тексте Ахматовой относятся к теме осени, времени, которое завершает цикл жизни / перед зимой — смертью/, времени опыта и мудрости, времени ожидания прихода конца дней. Культура /целый ряд памятников, архитектура, планировка города / несут на себе черты призрачности, связанности с петербургским мифом, что отмечено петербургским творчеством Ахматовой. Изучение петербургского творчества А. А. Ахматовой убеждает, что поэтесса участвует в создании мифа о призрачности и виновности города и нового духовного мира возрождения и нравственности" , — утверждает вслед за В. Н. Топоровым В.А.Морозов131.
Но, думается, «темы возрождения и нравственности», а также прямо религиозные аспекты темы города /в том числе Петербурга/ у Ахматовой существуют если и не вне, то на особом положении внутри того многогранного понятия, которое традиция именует «петербургским мифом». «Возрождение и нравственность» возможны лишь после осознания «давнего греха» /ср. в «Поэме.» / и искупления его покаянием, страданием и поисками смирения перед лицом «свирепой судьбы». Именно этот путь Блудного Сына в отчий дом /для кого-то становящийся путем к Голгофе и воскресению/ и есть одна из центральных сюжетных линий поэтической версии духовной истории Петербурга, как она представлена в творчестве Ахматовой.
131 Морозов В. А. Образ Петербурга в лирике А. А. Ахматовой 10-х — 20-х годов //Третьи Ахматовские чтения. Материалы областной научной конференции. Одесса, 1993. С.34−35.
В своей ставшей уже классической работе «Петербург и петербургский текст русской литературы» В. Н. Топоров отмечает следующее: «Петербург — центр зла и преступления, где страдание превысило меру и необратимо отложилось в народном сознанииПетербург — бездна, «иное» царство, смерть, но Петербург — и то место, где национальное самосознание и самопознание достигло того предела, за которым открываются новые горизонты жизни.
Внутренний смысл Петербурга именно в этой несводимой к единству антитетичности и антиномичности, которая самое смерть кладет в основу новой жизни, понимаемой как опыт смерти и как ее искупление, как достижение более высокого уровня духовности.
Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал.
Эта двуполюсность Петербурга и основанный на ней сотериологический миф /" петербургская" идея/ наиболее полно и адекватно отражена как раз в петербургском тексте русской литературы" .132 Все эти выводы вполне применимы и по отношению к «ленинградской» главе «петербургского текста» .
Образ «грешного» Петербурга, запечатленный в ранней лирике, несколько позже предстает в виде символа — библейского Содома /см. стихотворение 1924 года «Лотова жена», строки «Поэмы.»: «И, увы, Содомские Лоты» /1, 327/, а также стихотворения «На Смоленском кладбище», «Петербург в 1913 году» и ряд других/. Собственно, образ разоренного, «голодной тоскою изглоданного» Петербурга, запечатленный на страницах.
132 Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы //Ученые записки Тартусского университета. Труды по знаковым системам. 1984. Семиотика.
города и городской культуры. Вып.664, [т.] 18. С. 6.
" Anno Domini", и есть образ наказанного Содома. Но, в отличие от библейских времен, когда наказание за совершенный народом грех не распространяется на праведников, которые до последнего сохраняют власть и силу молитвы, способной переменить Божий гнев на милость, а в случае наступления казни выводятся в безопасное место, не считаясь при этом отступниками, новые времена призывают к мученичеству именно праведников. «Нечестивые», безбожники одерживают победу, как им представляется, не только фактическую, военную или социальную, но и моральную, получая право утверждать свою идеологию именно как праведную, справедливую, чуть ли не святую, ибо оплаченную кровью, тогда как праведники оказываются презренными «грешниками», страдания которых — только лишь расплата за образ жизни и мыслей, представляющийся победителям злодеянием. Поэтическая интуиция Ахматовой позволяет ей уже на страницах «Подорожника» и особенно «Anno Domini» /для примера укажем лишь на такие шедевры, как «Когда в тоске самоубийства.», «Петроград, 1919», «Не с теми я, кто бросил землю.», и др./ сделать вывод, что ныне корень грехауже не в развращении плоти, но в сфере духовной, точнееантидуховной. Ей еще предстоит рассказать в стихотворениях 30-х годов и «Реквиеме» обо всех последствиях греха богоотступничества.
Тогда символом распятия стала ленинградская тюрьма «Кресты», а Ленинград стал напоминать Иерусалимв нем происходит казнь при одобрении народа, которому предстоит за это страшная расплата — осада римскими войсками, голод и разрушение.
Петербург — Китеж исчезает в глубине светлых вод «ЛетыНевы», Петербург — Содом постигают библейские казни первых лет революцииЛенинград — Иерусалим, «не узнавший времени посещения своего» /Лк.19, 44/, должны постигнуть страшные.
бедствия. Лишь сила любви, молитвы и прощения обиды способна изменить картину мира, остановить евангельскую сдвинувшуюся с места гору. Именно такая любовь звучит в стихах военного времени, посвященных блокадному Ленинграду: «Птицы смерти в зените стоят.», «Памяти Вали», «In memoriam» и других. И не случайно библейский символ появляется в стихотворении «Вторая годовщина», подводящем некий скорбный итог: «Еще на всем печать лежала /Великих бед, недавних гроз, — /И я свой город увидала /Сквозь радугу последних слез» /1, 229/. По преданию, радуга была явлена Ною в знак прекращения потопа, окончания казни и проявления милости Бога. Город, перенесший страшные испытания, увиден героиней «сквозь радугу последних слез», знаменующую милость к городу, но не являющуюся гарантией подобной же милости к самой героине, стоящей на пороге новых страданий, которыми, возможно, она должна расплатиться с судьбой по счетам освобожденного города, став жертвой за него. Так в пространстве одной строфы совмещается христианская надежда героини на милость к Отчизне133 и полная трагической безнадежности констатация постоянной немилости, адресованной лично ейведь, возвращаясь к началу стихотворения, мы видим, что, выплакав последние слезы, героиня в следующих испытаниях лишается и этого, кажется, доступного всем слезного утешения.
В ранней лирике Ахматовой при всей проявляющейся открыто и пламенно любви к Петербургу используется целый спектр эпитетов — от любовно-восторженных, как, например, в стихотворении «Был блаженной моей колыбелью.», до таких,.
^>ачнейшая из столиц" /" Когда в мрачнейшей из столиц." / и даже «страшный город» /" Будем вместе, милый, вместе." /. Но.
133 О богоизбранности Петербурга-Ленинграда существует ряд свидетельств. Одно из них приведено в книге «Православные чудеса. Век XX». М., 1996. С.17−32.
уже в «Anno Domini» отношение Ахматовой к ее Городу становится интимнее, глубже и одновременно трезвее. И в этом смысле наиболее показательным является стихотворение «Лотова жена • где СодомПетербург — воистину «город, горькой любовью любимый» /1, 82/. Перед нами предстает образ бесконечно дорогого, обреченного «родного Содома» :
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть.
На красные башни родного Содома,.
На площадь, где пела, на двор, где пряла,.
На окна пустые высокого дома,.
Где милому мужу детей родила.
Но любовь всегда надеется на чудо прощения, ибо сама умеет прощать. В одном из признаний в любви Городу будет сказано: «Ты — как грешник, видящий райский / Перед смертью сладчайший сон» /" Как люблю, как любила глядеть я.", 1916 — 1, 85/. Так и в 30-е Ахматова почти одновременно напишет страшные слова «Реквиема»: «И ненужным привеском болтался /Возле тюрем своих Ленинград» /1, 197/ - и нарисует один из лучших, предельно трагичных, глубоких и проникновенно-любовных городских пейзажей — «Годовщину последнюю празднуй.» /1939/.
Итак, у героини, признающей за собой некую таинственную власть над событиями, парадоксально соседствующую с полной человеческой беспомощностью и беззащитностью перед лицом грубой силы и страшной беды, впрочем, давно осознанной как особый путь, «указанный Ангелом» , — есть выбор. Она должна или проклясть последним проклятием город, превратившийся из «города райского ключаря» в «город мертвого царя» /см.стихотворения 1917 года «В городе райского ключаря.» и 1919 года «Призрак» /, в «ненужный привесок» у «тюрем своих» .
строки из «Поэмы.»: «И на старом Волковом поле, /Где могу я плакать на воле /В чаще новых твоих крестов.» /1, 317/.
С самого начала Великой Отечественной войны нечто принципиально меняется не только в мироощущении Ахматовой, но даже в, казалось бы, давно устоявшейся и классическинеподвижной поэтике ее стихов. В цикле «Ветер войны» она, сознательно или на интуитивном уровне, становится в ряды заслуженно презираемых ею «советских писателей». И то же ее прославленное «Мужество», как, собственно, и почти все «ленинградские» стихи времен войны, — образец «высокого стиля» добротного соцреализма. Безусловно, в этом не было сервильности, но налицо, быть может, единственная сознательная попытка «угодить» вкусам массового советского читателя, в это время снова осознанного как родной народ, «пойти в ногу со временем», растворившись в его стиле и одновременно участвуя в создании и закреплении монументального /позже названного «сталинским» / стиля эпохи.
Обращает на себя внимание стихотворение, написанное в предчувствии ужасов первой ленинградской блокадной зимы 1941;1942 годов, «Птицы смерти в зените стоят.» Эта первая строка неожиданно перекликается с некоторыми образами «Реквиема». Во «Вступлении» мы находим следующие строки: «Это было, когда улыбался /Только мертвый, спокойствию рад. /И ненужным привеском болтался /Возле тюрем своих Ленинград. /Звезды смерти стояли над нами /И безвинная корчилась Русь.» /1, 197/. Но если в «Реквиеме» «уже осужденных полки» идут и з Ленинграда в дикие пространства смерти, то в стихотворении «Птицы смерти.» героиня взывает: «Кто идет выручать Ленинград?» — «полки», уже военные, в рядах которых мог быть и сын героини «Реквиема» /благословленный Ахматовой на ратный подвиг Лев Гумилев/, идут в Ленинград, к Ленинграду, на его защиту. Если в «Реквиеме» героиня завидует улыбке мертвого, то в.
" Птицах смерти." она отчаянно борется за жизнь «живого еще» /1, 208/ родного города и оплакивает смерть его сыновей. Из «ненужного привеска» Ленинград снова превращается в самое важное на земле место, поэтический центр мироздания, судьба которого — судьба России. В «Реквиеме» противопоставляются безжалостные, тупые «власть имущие», «они» ^ и страдающие «мы» — в «Птицах смерти.» — противопоставление жизни любого человека и безличной страшной силы уничтожения, наподобие стихии: «но безжалостна эта твердь» /1, 208/. Изменяется и «лицо» смерти, кажется, со всех сторон окружившей человека, ставшей его землей и небом. Но если «звезды смерти» /1, 197/, стоявшие над «нами» -героями «Реквиема», вызывают ассоциацию с кремлевскими звездами — одним из самых зловещих и универсальных символов эпохи тотального террора /не случайно при этом присутствующее в том же предложении определение «кровавый» — ведь и кремлевские «звезды смерти» имели именно цвет крови/, то стоящие «в зените» над блокадным Ленинградом «птицы смерти» — символ совершенно иного порядка. В нем нет никакого политического, злободневного оттенка, противопоставления «нас» и «их» — это угроза народу, ленинградцам, России, и все должно быть прощено и забыто, пока парят над головой эти страшные «птицы» .
Так Ленинград, Иерусалим, прощенный перед лицом всенародного бедствия и угрозы тотальной смерти, становится местом воскресения души героинипронзительное сострадание сменяет проклятия и горькую память о пережитой и непрощенной боли: «Ленинградскую беду /Руками не разведу, /Слезами не смою, /В землю не зарою. /Я не словом, не попреком, /Я не взглядом, не.
намеком, /Я не песенкой наемной, /Не похвалой нескромной./А.
земным поклоном /В поле зеленом /Помяну." /" Причитание", 1944 — 1, 211/. Образ поля, таким образом, как бы окаймляет военные стихи Ахматовой, сочетая мотивы обреченности /" солома" как символ беды, беззащитности и скорой смерти, исчерпанности/,.
сама форма «плача» /народного «причета» / и — надежды. Ведь то самое Волково Поле, место беды и смерти, кладбище, место поминания усопших, при всех трагических обертонах «Причитания» становится «полем зеленым», травой, новыми ростками молодой жизни на могилах павших /Пушкинский мотив!/, а значит, надеждой. «Попреки», скорбная память о предвоенном и, быть может, роковые предчувствия того, что случится в послевоенном Ленинграде, перед лицом пережитой бедьг, претворяются в светлую и святую память, близкую к молитве: «Да что там имена! — захлопываю святцы- /И на колени все! — багровый хлынул свет, /Рядами стройными проходят ленинградцы, /Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет» / «In memoriam», 1942 — 1, 211/. Так перед лицом высшей правды и высшего суда единой становится участь вчерашних непримиримых врагов. Война и все связанное с ней — единственный, на наш взгляд, период/за исключением нескольких произведений 30-х годов/, когда само название «Ленинград» звучит органично и «любовно» в стихах Ахматовой, переставая быть стилистическим недоразумением, торчащим странным инородным телом в классически-прозрачном строе стихов петербургской поэтессы. Таким образом, в новой «ахматовской» главе «петербургского мифа» мы сталкиваемся с попыткой христианского осмысления реальных событий истории, в которой «великомучеником» оказывается советский «город-герой», носящий имя, связанное с христианством разве только по принципу «времен Веспасиана». В 1944 году она пишет: «Последнюю и высшую награду — /Мое молчанье — отдаю/ Великомученику Ленинграду» /2, 45/.
Есть в теме города у Ахматовой еще один аспект, который, впрочем, с определенной долей условности, можно назвать религиозным. С любовью и вниманием верующего человека она подмечает, так сказать, «православные» черточки в описании дорогих ее сердцу городов. Колокольный звон, золотой крест,.
венчающий луковку, чтимая икона или другая святыня и, конечно, сам храм существуют в поэтическом мире Ахматовой как органичные и неотъемлемые черты городского пейзажа, именно благодаря их постоянному присутствию становящегося специфически русским городским пейзажем.
Эта особенность городского пейзажа Ахматовой, одновременно выделяющая ее творчество из круга современной поэту трактовки темы и вводящая ее в классическую русскую традицию, проявилась, как и многие основополагающие черты ахматовской поэзии, уже на первых этапах творческого пути.
В трактовке этой, казалось бы, устоявшейся темы в лирике Ахматовой можно выделить ряд особенностей.
Безусловно, храм с его пятиглавием /" И глядеть бы на смуглые главы/Херсонесского храма с крыльца." - 1,61/, колокольным звоном /" Под звоны древние далеких колоколен." - «И город был полон веселым рождественским звоном.» — 1, 57, 145/, золотым крестом /" Но не было в небе узорней крестов,/Воздушней цепочек, длиннее мостов." -1,293/, с праздниками/" Но воссиял неугасимый свет/Тому три года в Вербную субботу.уА за окном со свечками народ/Неспешно шел. О, вечер богомольный!" - 1,140/ и крестным ходом/" И хода крестного торжественное пенье/Над Волховом, синеющим светло" - «Как крестный ход, идут часы Страстной Недели.» — 1,96,195/ для Ахматовой, быть может, самая дорогая и трогательная часть городского пейзажа. Но необходимо отметить, что церковный крест — не единственная, а зачастую и не главная «вертикаль» в творчестве Ахматовой, что отразилось, конечно, и в ее городской пейзажной лирике. В ней много дворцов, высоких и прекрасных, шпилей и мостов, садов, набережных и улиц. В мире Ахматовой храм — часть жизни, но не единственный ее смысли таким образом функции храмовой /церковной/ атрибутики в городском пейзаже вполне соответствуют тому месту и значению, которое имело.
православие в системе ценностей поэта. Существующее «всегда», исконное, оно не было выстрадано в том смысле, в котором писал Достоевский о своей «осанне, прошедшей через горнило сомнений». Так же не «выстрадана», не освящена собственно церковным, истовым к ней отношением церковь в пейзаже Ахматовой. Она «привычна». Возможно, эта привычность и являлась причиной того, что, позволяя себе уклоняться от строгих требований православия в сфере бытовой, житейской, повседневной, Ахматова сохраняла верность христианству как идеологии. Иллюстрацией подобного отношения может служить стихотворение 1917 года «Мы не умеем прощаться.» Герои во время своих вынужденно-молчаливых прогулок по городу заходят в церковь, но уже после того как окончилась главная служба суточного богослужебного круга — Литургия — и наступил черед так называемых «треб». Заходят не молиться, но и не из праздного любопытства: по дороге, как в любимый сквер, галерею или клуб. Занимая позицию посторонних, они не участвуют сердцем в совершаемых обрядах, улавливая лишь то, что связано, а точнее, не связано с обстоятельствами их собственной неприкаянной жизни:
В церковь войдем, увидим.
Отпеванье, крестины, брак,.
Не взглянув друг на друга, выйдем.
Отчего все у нас не так?
Именно житейский аспект часто проступает в религиозной тематике Ахматовой, особенно в ранний период творчествав процитированном стихотворении фантастические «палаты,/Где мы будем всегда вдвоем» важнее и реальнее посещенной мимоходом церкви и совершающегося в ней.
Наличие и «укорененность», степень необходимости храма именно как храма, места молитвы, а не великолепного памятника.
архитектуры или знака-символа привычной «милой жизни», привычного уклада, у Ахматовой — выражение «степени русскости» городского пейзажа. /Естественно, мы имеем в виду те города, где подобного рода приметы принципиально возможны. Итальянские города, Париж, город из стихотворения «И очертанья „Фауста“ вдали.», Ташкент и т. п. здесь в расчет не принимаются и не рассматриваются: «И горькое это несходство/Давило как воздух сиротства.» /1,287/.
В ранних стихах Санкт-Петербург — город истории, искусства и пылких страстей и храмы его именно великолепны, но безжизненны в плане сокровенно-религиозном: в них нет заветных святынь, скорее это места парадных церемониаловгероиня видит их лишь снаружи, извне, не испытывая необходимости зайти внутрь. Вспомним: «Вновь Исаки й в облаченье /Из литого серебра.» /" Стихи о Петербурге" - 1,68/- «.Последняя зима перед войной./ Белее сводов Смольного собора,/Таинственней, чем пышный Летний сад,/ Она была.» /" Тот голос, с тишиной великой споря." - 1,97/- «Был переулок снежным и недлинным./И против двери к нам стеной алтарной/Воздвигнут храм святой Екатерины» /" Эпические мотивы, 2 — 1,159/. Вот, пожалуй, и все, что мы можем найти о петербургских церквях у Ахматовой по отношению к дореволюционной поре.
С течением лет, а точнее, по мере пережитых страданий Петербург-Ленинград если и не «воцерковляется», то христианизируется, отражая процессы, происходящие в душе героини. Так, тяжело переживаемые смерти Н. Гумилева и А. Блока вызвали в первом случае строки молитвы: «Прижимаю к сердцу крестик гладкий:/Боже, мир душе моей верни!» /1,163/, а во втором — новый этап «христианизации» петербургского пейзажа. Мы имеем в виду углубление образа кладбища, уже не абстрактного, «На Казанском или на Волковом.» /2,28/, знака смерти для оплакивающей себя героини, но конкретного места.
христианского погребения, светлой и глубокой молитвы об усопшем:
А Смоленская нынче именинница, Синий ладан над травою стелется, И струится пенье панихидное, Не печальное нынче, а светлое. Принесли мы Смоленской Заступнице, Принесли Пресвятой Богородице На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, Александра, лебедя чистого /1,166/.
Уточняется и раскрывается определение «священный град Петра» /" Петроград, 1919″ - 1,144/. «Мертвый город под беспощадным небом» /" Клевета" / оказывается городом «райского ключаря» /2,32/, где «церкви белы, высоки мосты», где звонили когда-то у Спаса на Крови jr «Годовщину последнюю празднуй.» /, где была чудотворная икона Скорбящей Божьей Матери / «Петербург в 1913 году» /. Город из «опьяневшей блудницы», так напоминающей соответствующий образ из Апокалипсиса /" Когда в тоске самоубийства." /, и «промотанного наследства» /" Тот город, мной любимый с детства." /превратился в «великомученика» /" Последнюю и высшую награду.'^ 1944/.
В какой-то степени «воцерковленным», несмотря на сформировавшийся устойчивый образ «города парков и зал» /" Царскоселъская ода" /, предстает со страниц ахматовской лирики и Царское Село, быть может, в еще большей степени, чем Петербург, имеющее право носить имя «города мертвого царя», если иметь в виду события 1917;1918 годов, связанные с трагедией Царской семьи.
Ахматова видит церковные, исконно русские черты в этом, казалось бы, аристократическом, европеизированном городе /" Первое возвращение", «Ждала его напрасно много лет.» и Т.д./134.
Степень «исконности», «русскости» города в поэтическом мире Ахматовой напрямую связана с наличием и количеством храмов в городском пейзаже. Их все же мало в Петербурге /хотя в старом Петербурге — несколько больше: вспомним городской пейзаж «Первой Северной Элегии» /. По представлению Ахматовой, значительно больше, хотя они не всегда в центре внимания, церквей в Москве.
Москва изначально предстает городом исконно русским и церковным в отличие от европейского и светского Петербурга. Так, первое же «московское» стихотворение «Плотно сомкнуты губы сухие.» /1913/ повествует о московской святыне — мощах канонизированной в 1910 году супруги Димитрия Донского княгини /у Ахматовой неточность: «княжны» -1,62/ Евдокии, в монашестве Ефросинии.
В другом московском стихотворении, «Третий Зачатьевский» /1922/, мы также находим приметы церковной Москвымонастырь в честь Зачатия святой Анной Пресвятой Богородицы, колокольню, возвращающегося после службы звонаря. Даже в самых трагических московских стихотворениях, проникнутых тем чувством отчаяния и предельной, безнадежной скорби, которое Ахматова сформулировала в «Последнем тосте/» За то, что Бог не спас" - 1,193/, почти незримо, но очевидно присутствует церковный колорит. В «Стансах» она пишет: «Кремлевская луна.
134 Б. Кац замечает по этому поводу: «.в представлении Ахматовой Царское Село не включается в состав Петербурга, сохраняя культурную автономию» /Кац Б.А., Тименчик Р. Д. Указ.соч. С. ЮО/.
Замоскворечье.Ночь./Как крестный ход, идут часы Страстной Недели." /1,195/.
В «Позднем ответе», посвященном памяти Марины Цветаевой и входящем в состав цикла «Венок мертвым», читаем:
Мы сегодня с тобою, Марина,.
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,.
И безмолвнее шествия нет.
А вокруг погребальные звоны.
Да московские хриплые стоны.
Вьюги, наш заметающей след.
Образ крестного хода как русской церковной традиции, возникающий в самые трагические моменты, подчеркивает саму суть подобного рода шествий. Следование за Христом по пути страданий, когда каждый как бы несет свой крест, объединяет весь народ — от последних нищих и неграмотных крестьянок до великих поэтов, и в «Позднем ответе» «безмолвное шествие миллионов» /1,251/ не что иное, как всероссийский крестный ход. Этот образ роднит московские стихотворения 30-х с ранним «Пустых небес прозрачное стекло.» /1914/: «И хода крестного торжественное пенье/Над Волхвом, синеющим светло./Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,/Кричит и мечется среди ветвей,/А город помнит о судьбе своей:/Здесь Марфа правила и правил Аракчеев» /1,96/. Город, помнящий о своей страшной и высокой судьбе, ощущающий сегодняшний день как часть вечного крестного хода русской историиу это и Новгород, и Москва, и Бежецк.
Неоднозначным предстает в довоенном творчестве Ахматовой образ Москвы: «И снова жжет московская истома,/Звенит вдали смертельный бубенец./Кто заблудился в двух шагах от дома,/Где.
снег по пояс и всему конец" /1,182/^- пишет она в стихотворении 1936 г. «Борис Пастернак». Но это описание — такая же ностальгия по невозвратному прошлому как очевидно «царскосельские» строки стихотворения «Одни глядятся в ласковые взоры.», также написанного в 1936;м г.: «И снова черный масляничный вечер,/Зловещий парк, спокойный бег коня/И полный счастья и веселья ветер,/С небесных круч слетевший на меня» /1,183/. Именно таким — счастливым, безмятежным и немного «истомным» и грешным представляется «голос памяти». Московская реальность 30-х — начала 40-х годов — это «Стансы» /1940/ и «Поздний ответ» /1940, 1961/. В ней два полюса: на одном — всемогущее зло, на другом — его жертвы.
Характерным примером восприятия Москвы как города, парадоксальным образом сочетающего эти полюса — тьму и святость — являются два варианта строки следующего четверостишия:
За ландышевый май/fe моей Москве кровавой /1937? — 2,41/ (стоглавой /не датировано- - А-86, I, 362Д^)тдам я звездных стай/ Сияния и славы.
Мотив крестного хода, устойчиво связанный с образом «кровавой» и одновременно «стоглавой» Москвы 30-х — начала 40-х годов, указывает на наличие в «московском тексте» той же антиномии, что и в «петербургском тексте», исследованном В. Н. Топоровым, и намечает путь ее «сотериологического» /термин В.Н.Топорова/135 разрешения.
Она разрешается «в смысле новозаветном, а не в том, в каком принято стало говорить об историзме Ахматовой» 136.
135 Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы//Ученые записки Тартусского университета. Труды по знаковым системам. 1984, вып.664,/т, Д8. С.б.
136 Мейлах М. В. «Свою меж вас еще оставив тень.» //Ахматовские чтения. Вып.Ш. «Свою меж вас еще оставив тень.» М., 1992. С. 155.
Мученическая кровь, по учению Церкви, есть основание христианства, и таким образом московская «стоглавость» является порождением крови мучеников, пролитой во славу Христовой Церкви. А кровь новомучеников, проливаемая на глазах, отдана за эту «стоглавость», ставшую символом Святой Руси. Это и есть крестный ход истории «в смысле новозаветном» — через страдания и невинную кровь — к победе добра и света Воскресения.
В позднем творчестве Ахматовой образ крестного хода, как и вся связанная с ним проблематика, почти исчезает, во всяком случае по отношению к Москве, облик которой в послевоенной ахматовской лирике становится иным. Москва, кажется, оборачивается к поэту еще одной своей стороной — гостеприимной, светлой и — творческой: «Все в Москве пропитано стихами,/Рифмами проколото насквозь» /1,299/. Несколько ранее к однозначно «московским» Пастернаку, Булгакову и Цветаевой Ахматова добавляет «московский» образ Блока:
Пора, пора к березам и грибам,.
К широкой осени московской.
Там все теперь сияет, все в росе,.
И небо забирается высоко,.
И помнит Рогачевское шоссе.
Разбойный посвист молодого Блока.
В позднем решении «московской» темы у Ахматовой особое место занимает «Трилистник московский» /1961;1963/. Характерными представляются определения в стихотворении «Без названия»: «Среди морозной праздничной Москвы» — «И святочного неба бирюза,/И все кругом блаженно и безгрешно.» /1,293/. Городской московский пейзаж стихотворения «Еще тост», входящего в упомянутый цикл — один из шедевров ахматовской лирики: «Но не было в небе узорней.
крестов,/Воздушней цепочек, длиннее мостов." /1,293/. В нем остаются приметы «церковности» /и даже упоминается крест/, но несут они скорее декоративную, нежели смысловую нагрузку. Москва с ее традиционно русским, церковным колоритом теперь связывается с драматическими перипетиями последней любви, и ее «праздничный» /1,293/ облик соответствует ахматовскому восприятию «последней любви», сочетающему элементы трагедии и торжества. «Пышнее нету торжества,/Чем твой уход, ПоследняяГ /2,97/ - напишет она в стихотворении «Письмо» /1964/. Так же в ранней лирике парадная архитектура Петербурга с ее дворцами, парками, набережными и холодными, величественными храмамиИсаакием, Смольным, Екатерининским — была фоном, а порой и участником молодого упоения земной страстью.
Однозначно «церковен» в поэтическом мире Ахматовой Киев. Это ощущение «древнего города» /" Древний город словно вымер.", 1914/ как колыбели русской истории и православной веры в высшей степени органично, хотя и неожиданно сочетается с сугубо личным, биографическим подтекстом /история первого замужества и отношений с Н.В.Недоброво/, а кстати и с тем, что в стихотворении «О, как меня любили ваши деды.» /1960;е годы/ было определено самим поэтом как «киевское помело» /2,105/.
Обратим внимание на одну интересную деталь. Образ Киева возникает в поэзии Ахматовой и Гумилева примерно в одно и то же время. Но при прочтении «киевских» стихотворений двух поэтов, навеянных подчас общими воспоминаниями и жизненными коллизиями, создается впечатление, что речь идет о разных городах.
Киев Ахматовой с его Софийским собором, Печерской Лаврой, мощами, иконами, колокольным звоном — церковный, исконно русский город.
Окрашен в «церковно-православные» тона и образ «киевского» «спутника жизни»: он не просто возлюбленный, но.
жених, муж, с которым связывает героиню клятва верности, данная во время венчания: «И в Киевском храме Премудрости Бога,/Припав к солее, я тебе поклялась,/Что будет моею твоя дорога,/Где бы она ни вилась./То слышали Ангелы золотые /И в белом гробу Ярослав./Как голуби, вьются слова простые/И ныне у солнечных глав» /1,119/.
То же событие у Николая Гумилева описывается совершенно по-иному: «Из логова змиева,/Из города Киева,/Я взял не жену, а колдунью» 137.
В стихотворении 1914 г. «Древний город словно вымер.» Ахматова делает акцент на церковности, устремленности к Богу «древнего города»: «Над рекой своей Владимир/Поднял черный крест./Липы шумные и вязы/По садам темны,/Звезд иглистые алмазы/К Богу взнесены» /1,85/.
Ахматовский Днепр — река св. Владимира и Крещения Руси, река святая, собственно — русский Иордан. Стихотворение Гумилева подчеркивает в образе Киева и Днепра языческие, бесовские, «мутные» черты: «Снеси-ка истому ты/В днепровские омуты,/На грешную Лысую гору» 138. Можно сказать, что герой стихотворения Гумилева — простой русский «крещеный» человек, которому, на его несчастье, в жены попалась «колдунья». Не об этом ли «киевском помеле» в полушутливом тоне скажет Ахматова уже в 60-е годы:
О, как меня любили ваши деды,.
Улыбчиво, и томно, и светло.
Прощали мне и дольники и бреды,.
И киевское помело.
137 Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., /Библиотека поэта. Большая серия/, 1988. С. 168.
138 Там же.
Прощает, точнее — «жалеет» свою «жену-колдунью» и герой указанного стихотворения Гумилева: " :не жалко ее, виноватую,/Как птицу подбитую,/Березу подрытую/Над очастью, Богом заклятою" 139.
И если сама Ахматова акцентировала внимание на чертах киевского городского пейзажа, свидетельствующих о традиционной православной духовности, то именно эти черты для Гумилева, возможно, «сметало» ахматовское «киевское помело». Примем во внимание и то обстоятельство, что ахматовский «колокольно-церковный» Киев для Гумилева был связан с мыслями о самоубийстве. Как известно, Гумилев пытался привести в исполнение свои страшные намерения, и это нашло отражение опять же в «киевских», подчеркнуто-церковных строках Ахматовой:
Пришли и сказали^ <" Умер твой брат!" .
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня кровавый закат.
Над крестами лаврскими плачет.
Но заметим, что уже в раннем /1910 г./ цикле, посвященном Николаю Гумилеву, в состав которого входит процитированное выше стихотворение, «церковная» героиня будто «проговаривается» об иной, «потаенной», своей ипостаси: «Я прошлое в доме моем берегу,/Над прошлым тайно колдуя» /2,10/.
" Киевские" стихотворения Ахматовой имеют еще одну особенность: в них ярко заявлена тема живописи, популярная в классических поэтических системах и оттесненная на второй план архитектурой и скульптурой в ахматовском поэтическом мире.
13″ Там же. С. 168.
Но данная тема, связанная с Киевом, предстает в необычном ракурсе: ахматовская героиня сосредотачивает свое внимание лишь на иконах, как и положено благочестивой православной верующей. Тем более что «киевские» иконные изображения — почти все, что мы можем найти на эту тему в лирике Ахматовой, за исключением разве что названий икон Божией Матери Смоленской и Всех скорбящих Радость /" Скорбящая" / в Петербурге.
В строках упоминавшегося выше стихотворения 1915 г. «И в Киевском храме Премудрости Бога.» :" И если слабею,/Мне снится икона/И девять ступенек на ней" /1,119/-речь идет о знаменитой древней и необыкновенно актуальной в связи с софиологическими богословскими спорами начала века /продолжавшимися и на Западе, в эмигрантских кругах, и закончившимися, собственно, к началу второй мировой войны/ иконографии Софии Премудрости Божией, особого символического изображения некой фигуры, восседающей на троне с девятью ступенями и знаменующей творческую мудрость Бога. В стихотворении «Широко распахнуты ворота.» мы находим следующие строки: «И темна сухая позолота/Нерушимой вогнутой стены «/1,170/. В данном случае речь идет о древнем мозаичном изображении Богоматери — Оранты /молящейся с воздетыми к небу руками/, находящ: мся на выложенной золотой смальтой стене конхи абсиды Софийского собора. Этот иконографический тип получил на Руси название «Божья Матерь — Нерушимая Стена». Дни церковного празднования в честь этой иконы — 31 мая и Неделя (воскресение) Всех Святых. Во многих «киевских» стихотворениях присутствует еще один почти обязательный, связанный с образом Киева в восприятии Ахматовой элемент — могучий колокольный звон.
Гулом полны алтари и склепы,.
И за Днепр широкий звон летит.
Так тяжелый колокол Мазепы.
Над Софийской площадью гудит.
Все грозней бушует, непреклонный, Словно здесь еретиков казнят, А в лесах заречных, непреклонный, Веселит пушистых лисенят /" Широко распахнуты ворота." - 1,170Д.
Колокольный звон /по церковному преданию, особенно ненавистный нечистой силе/ является для Ахматовой очень важным образом-символом и встречается во многих ее стихотворениях, так или иначе связанных с темой религии. Эточерта типично русского городского пейзажа. На данную особенность поэтического мира Ахматовой обращает внимание Б. А. Кац: «Колокольный звон как звучащая реалия быта может связываться и с городом. Любопытно, что при этом город всегда назван или во всяком случае легко опознается по названиям улиц и площадей. колокола звучат у Ахматовой либо в маленьких городках /Царское Село, Херсонес, Бежецк/, либо в городах-хранителях русской старины: в древних русских столицах Киеве и Москве, а также в легендарном Китеже. Олицетворение западноевропейской ориентации — Петербург колокольного звона как будто и не знаетцерковный звон заменен в нем боем крепостных часов. Характерно, что при описании некоего воображаемого европейского города Ахматова помещает на колокольню не церковные колокола, а часы-куранты. В звуках, доносящихся с колокольни, слух поэта выделяет архаические.
Специально о колокольном звоне исследователь говорит следующее: «Кроме мощных динамических свойств и способности заполнять огромные пространства колокольному звону твердо.
140 Кац Б. А., Тименяик Р. Д. Анна Ахматова и музыка. Л., 1989.С.99−100.
приписан признак сакральности" 141. «Колокольный звон, таким образом, является «обобщением святости того, что можно было бы назвать духовной родиной» 142.
Образ колокола и колокольного звона присутствует в таких произведениях Ахматовой^как «Первое возвращение» /1910/.? «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день.» /1912/, «У самого моря» /1914/, «Ждала его напрасно много лет.» /1916/, «Бежецк» /1921/, «Широко распахнуты ворота.» /1921/, «Причитание» /1922/, «Уложила сыночка кудрявого.» /1940/, «Под Коломной» /1943/ и др.
В стихотворении «Ив Киевском храме Премудрости Бога.» находим строки: «И в голосе грозном софийского звона/Мне слышится образ тревоги твоей» /1,119/. Этот же образцентральный в стихотворении «Стал мне реже сниться, слава Богу.», самом раннем /1912/ из цитируемых нами в данном случае. «И весь день не замолкали звоны/Над простором вспаханной земли,/Здесь всего сильнее от Ионы/Колокольни Лаврские вдали» /1,105/. Не совсем понятный «Иона», обычно никак не комментируемый или кратко и неточно определенный как «Ионинский монастырь в Киеве» /см. А-86- 1,401/, — это Киевский Свято-Троицкий мужской монастырь. Он был основан и построен на правом берегу Днепра в нескольких километрах от Киево-Печерской Лавры знаменитым киевским подвижником монастырским старцем прозорливым Ионой. Его заветной мечтой было возведение среди других построек величественной колокольни, и еще задолго до окончания строительства он купил для нее в 1896 году огромный колокол весом 1150 пудов. Он не.
141 Там же. С. 111.
142 Там же. С. 125.
дожил до дня завершения строительства своего любимого детища и скончался 9 января 1902 года, приняв схиму с именем Петра143.
В ранней лирике Ахматовой город — почти без исключенияЦарское Село или Санкт-Петербург. Тема исконно русского города, свидетеля высокой и страшной истории, возникает, собственно, лишь на страницах «Белой стаи» в контексте военной лирики, являющей органичный сплав патриотических и религиозных чувств.
Примером подобного рода текстов может служить.
стихотворение 1914 года «Пустых небес прозрачное стекло.»: «.И.
хода крестного торжественное пенье/Над Волховом, синеющим.
светло./Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,/Кричит и.
мечется среди ветвей,/А город помнит о судьбе своей:/Здесь Марфа.
правила и правил Аракчеев" /1,96/. Стоит еще раз упомянуть^ о том, что с этого же времени /особенно ярко — в «Подорожнике» и «Anno Domini» / получает некий религиозный оттенок и тема Петербурга /" Высокомерьем дух твой помрачен.", «Когда в тоске самоубийства.», «Петроград, 1919» и т. д./.
Истинным символом России-Китежа предстают провинциальные города, хотя эта тема, в силу событий жизни поэтессы (о судьбе своего поколения она пишет: «И мы забыли навсегда,/Заключены в столице дикой,/Озера, степи, города/И зори родины великой./В кругу кровавом день и ночь/Долит жестокая истома./Никто нам не хотел помочь/За то, что мы остались дома.» — 1,144), не могла быть разработана с исчерпывающей полнотой. Бежецк, Коломна, Новгород, опосредованно — Воронеж. Городской пейзаж в стихотворениях «Бежецк» и «Под Коломной» определяет церковная вертикальэто — первое и главное, что ищет взглядом и обретает героиня: «Там белые церкви и звонкий,.
143 См.: Архимандрит Иона, основатель и настоятель Киевского Свято-Троицкого общежительного монастыря. Житие: подвиги и чудеса. М., 1995.
светящийся лед,/Там милого' сына цветут васильковые очи./Над городом древним алмазные русские ночи/И серп поднебесный желтее, чем липовый мед./Там вьюги сухие взлетают с заречных полей,/И люди, как Ангелы, Божьему Празднику рады,/Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады,/И Книга Благая лежит на дубовом столе" /1,145/. Стихотворение «Под Коломной» начинается следующим образом: «.Где на четырех высоких лапах/Колокольни звонкие бока/Поднялись.» /1,227/. В стихотворении «В городе райского ключаря» /1917/, имеющем религиозный характер, героиня обращает внимание на эту, кажется, непетербургскую деталь пейзажа: «Церкви белы.» /2,32/. Имеет, как мы уже говорили в связи с религиозными аспектами темы смерти у Ахматовой, глубокое религиозно-символическое значение и стихотворение «Воронеж», где явная тема поэта-мученика имеет зашифрованно-мистический аспект загробного торжества /" пира" /, ожидающего земных страдальцев.
В городских стихотворениях Ахматовой существует та же антитеза, что и в раннем /1913/ стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможней.», где реальная, полнокровная, напряженная и трудная даже в счастливые минуты жизнь противопоставляется некоему идеальному образу «юности — молитвы воскресной» /стихотворение «Вместо мудрости — опытность, пресное.», 1913/, которой в реальности могло и не быть. Там — храм, молитва, «богомольная печаль» /стихотворение «Словно Ангел, возмутивший воду.» /, «монашество», точнее, стиль «а-ля монахиня» /" И уже не монашенка я." / воспринимается как поэтичное, чистое, но невозвратное прошлое: «Все глядеть бы на смуглые главы/Херсонесского храма с крыльца/И не знать, что от счастья и славы/Безнадежно дряхлеют сердца» /1,61/. В моменты скорбей и испытаний об этом прошлом можно вспомнить с тоской, окунуться, как в живую воду/" И я поверила, что есть прохладный снег/И синяя купель для тех, кто нищ и болен." /1,57/, но путь героини,.
возможно, лежащий по направлению к Бежецку-Китежу, пока еще далек от цели, кажущейся иногда заманчиво-близкой, очень желанной, но нереальной на данном этапе трагической судьбы: «Там строгая память, такая скупая теперь,/Свои терема мне открыла с глубоким поклоном- /Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь- /А город был полон веселым рождественским звоном» /1,145/. Бежецк-Китеж уже призывает к себе колокольным звоном /сравним: «Мне знакомый голос прислышался, /Колокольный звон/ Из-под синих волн,/Так у нас звонили во граде Китеже./Вот большие бьют у Егория,/А меньшие с башни Благовещенской,/Говорят они грозным голосом:/-Ах, одна ты ушла от приступа,/Стона нашего ты не слышала,/Нашей горькой гибели не видела.» — 2,41/, но пока погружение в его молитвенно светлые воды для героини невозможно.
У Ахматовой, подлинного поэта «Настоящего Двадцатого Века», тема города не может не занимать значительного места. Действительно, в том или ином контексте слово «город» /включая производные и названия конкретных городов/ в ее стихах встречается не менее 120 раз. При всей сложности и многогранности эта тема относится к числу достаточно изученных как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении. Но тот особый религиозный оттенок, который имеют некоторые «городские» стихи Ахматовой, «новозаветной» .
/термин М.Б.Мейлаха/ ахматовской историзм. в отношении Города как символа в системе религиозных взглядов и представлений, остается вне пределов специального внимания исследователей. Именно «новозаветный историзм» породил не только такие стихотворения-символы, как «Лотова жена», «Петроград, 1919», «Бежецк», стихи о Киеве и Москве, определения типа «великомученик — Ленинград», но и те библейские, христианские коннотации, намеки и ассоциации,.
которые углубляют смысл многих «городских» стихотворений, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к религиозной тематике. Исследования подобного рода необходимы для полноты восприятия авторского замысла, без этого смысл многих ахматовских шедевров, включая «Поэму без героя», не будет воспринят с должной полнотой.
Список литературы
- Ахматова А. Соч. В 2-х т. Сост. и подготовка текста В. А. Черных. М., 1986.
- Ахматова А. Поэма без героя. Под ред. Р. Д. Тименчика. М., 1989.
- Ахматова A. «Requiem». Под ред. Р. Д. Тименчика. М., 1989.
- Ахматова А. Соч. В 2-х т. Сост. и подготовка текста М. М. Кралина. М., 1990.
- Айхенвальд Ю. Поэты и поэтессы. М., 1922. С.53−75.
- Аникин А.Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. ВыпЛ-VII. Новосибирск, 1988.
- Аникин А.Е. О некоторых возможных источниках и параллелях одного образа Ахматовой: «.и смерти ждать как чуда"//Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. Тезисы конференции. М., 1989. С.47−50.
- Арватов Б. Гражд. Ахматова и тов. Коллонтай // Молодая гвардия, 1923. N4/5.C.640−684.
- Ардов М.В., священник. Легендарная Ордынка//Чистые пруды. Альманах. М. Д990.
- Архимандрит Иона, основатель и настоятель Киевского Свято-Троицкого общежительного мужского монастыря: подвиги и чудеса. М., 1995.
- Ахматовский сборник. Париж, 1989.
- Ахматовские чтения. Тверь, 1991.
- Ахматовские чтения. Вып.1: «Царственное слово». М., 1992.
- Ахматовские чтения. Вып. II: «Тайны ремесла». М., 1992.
- Ахматовские чтения. Вып. Ш: «Свою меж вас еще оставив тень.» М., 1992.
- Бабаев Э. «На улице Жуковской .» //Воспоминания об Анне Ахматовой. М. Д991.С.404−420.
- Бабаев Э. «Одна великолепная цитата»/цитаты в творчестве Анны Ахматовой //Русская речь, 1993, N З.С.З-6.
- Баевский B.C. История русской поэзии. Смоленск, 1994.
- Баскер М. Гумилев, Рабле и «Путешествие в Китай»: к прочтению одного протоак^. стического мифа //Н.Гумилев и русский Парнас. Материалы научной конференции 17−19 сентября 1991 г. Спб., 1992.С.5−25.
- Берлин И. Из воспоминаний «Встречи с русскими писателями «//Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991 .С.436−460.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. М., 1968.
- Благовестник, или толкование Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Святое Евангелие. В двух частях. М., 1993.
- Брюсов В. Будущее русской поэзии //Русская мысль, 1991, N 8.С.18.
- Брюсов В. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм"// Русская мысль, 1913, N 4.С.140−142.
- Брюсов В. Вчера, сегодня, завтра русской поэзии// Брюсов В. Соч. В 6-ти т. М. Д975.Т.6.С.505, 508.
- Брянчанинов Игнатий, епископ. Слово о Смерти. 6-е изд.М., 1990.
- Ван дер Лидмейер. Простота Анны Ахматовой // Серебряный век в России. М. Д993.С.261−275.
- Верхейл Кейс. Тишина у Ахматовой //Ахматовские чтения. Вып.1: «Царственное слово». М., 1992. С, 14−21.
- Виленкин В. В сто перовом зеркале. М., 1990.
- Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой/стилистические наброски/. Л., 1925.
- Волков В.В., Суран Т. И. Концепция судьбы как встречи, вины, заслуги и воздаяния у М.А.Булгакова //Понятие судьбы в г контексте разных культур. М., 1994.С.291−289.
- Гизетти А. Три души //Ежемесячный журнал, 1915, N12.С.154−160.
- Гладков Б.И. Толкование Евангелия. Спб., 1907. *
- Гловинская М.Я. Предсказания и пророчества в русском языке //Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.С.174−181.
- Горелик Л.Л. Стилизация и «Простая жизнь» в ранней лирике Анны Ахматовой//Третьи Ахматовские чтения. Материалыобластной научной конференции 12−14 мая 1993 года. Одесса, 1993.С.19−20.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л. /Библиотека поэта. Большая серия/, 1988.
- Гусев В.А. Библейские образы и мотивы в поэзии А.Ахматовой //Третьи Ахматовские чтения. Материалы областной научной конференции 12−14 мая 1993 года. Одесса, 1993.С.5−7.
- Дневник последнего старца Оптиной пустыни иеромонаха Никона /Беляева/. Спб., 1994.
- Дробышев В.Н. Страх и смерть в русском религиозном мировоззрении // Ступени. Философский журнал, 1993, N1/7/.C.21−28.
- Дубровский Д.И. Смысл жизни и достоинство личности // Философские науки, 1990, N 5.С.116−120.
- Ельчанинов Александр, священник. Записи. М., 1992.
- Жданов А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Правда, 1946, 21 окт.
- Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
- Иванов Вяч.Вс. Ахматова и категория времени //Анна Ахматова и русская культура начала 20 века, эзисы конференции. М. Д989.С.З-5.
- Иванов Вяч.Вс. Беседы с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.С.473−503.
- Ильин И.А. Когда же возродится великая русская поэзия// Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. М., 1993.С.217−229.
- Ильина Н. Анна Ахматова, какой я ее видела// Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.С.569−595.
- Ильинская А. Матушки земли Российской. М., 1994.
- Исупов К.Г. Русская мысль о смерти //Ступени. Философский журнал, 1993, N1/7/.С.29−60.
- Исупов К.Г. Русская философская патология //Вопросы философии, 1994, N З.С.106−114.
- Йованович М. «Чужие голоса» в «Реквиеме» Анны Ахматовой //Russian Literature, 1984, XV-I.C.176−192.
- Калиновский П. Переход: Последняя болезнь, смерть и после. Екатеринбург, 1994.
- Кац Б.А., Тименчик Р. Д. Анна Ахматова и музыка. Исследовательские очерки.Л.Д989.
- Коллонтай А. Письма к трудящейся молодежи. Письмо 3е. О «Драконе» и «Белой птице» //Молодая гвардия, 1923, N 2.С.162−174.
- Колобаева Л.А. А.Ахматова и О. Мандельштам //Вестник МГУ, сер.9. Философия. 1993, N 2.С.З-11.
- Концевич И.М. Оптина пустыня и ее время. Jordanville, 1970.
- Кормилов С.И. Море в поэзии Анны Ахматовой // Морской вектор в судьбах России: история, философия, культура. IV Крымские пушкинские чтения. Симферополь, 1994.С.27−28.
- Кравцова И.Г. Н.Гумилев и Эдгар По: Сопоставительная заметка Анны Ахматовой //Н.Гумилев и русский Парнас. Материалы научной конференции 17−19 сентября 1991 г. Спб., 1992.С.51−58.
- Кралин М. Артур и Анна: роман в письмах.Л., 1990.
- Кублановский Ю. «Реквием» //Волга, 1992, NII/12.C.158 164.
- Лелевич Г. Анна Ахматова (Беглые заметки) //На посту, 1923, N 2/З.Стб. 177−202.
- Лотман Ю.М., Минц З. Г. Статьи о русской и советской поэзии. Таллин, 1989.С.134−154.
- Лукницкий П.Н. Из дневника и писем //Воспоминания об Анне Ахматовой. М. Д991.С.142−179.
- Малахов С. Лирика как орудие классовой борьбы (О крайних флангах и непролетарской поэзии Ленинграда) //Звезда, 1931, N 9.С.160.
- Мандельштам Н.Я. Вторая книга:Воспоминания.М., 1990.
- Мандельштам Н.Я. Из воспоминаний //Воспоминания об Анне Ахматовой. М. Д991.С.299−326.
- Мейлах М.Б. Об именах Анны Ахматовой I. Анна // Russian Literature, 1975, N 10/ll.C.33−59.
- Мейлах М.Б. «Свою меж вас еще оставив тень.» // Ахматовские чтения, Вып III: «Свою меж вас еще оставив тень.» М. Д992.С. 152−174.
- Митрофан, монах. Как живут наши умершие и как будем жить и мы по смерти. По учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и выводам науки. 5-е изд.ТЛ.В 4-х ч. Спб., 1889 /М.Д991/.
- Морозов В.А. Образ Петербура в лирике А.А.Ахматовой 10-х 20-х годов //Третьи Ахматовские чтения. Материалы областной научной конференции. Одесса, 1993.С.34−35.
- Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989.
- Настольная книга свящеыослужителя, Месяцеслов/сентябрь-февраль/, М. Д979.Т.2.
- Настольная книга священослужителя. Месяцеслов/март-август/, М. Д979 Т.З.
- Недоброво Н. Анна Ахматова //Русская мысль, 1915, N7.С.50−68.
- Никифор, архимандрит. Библейская экциклопедия. М. Д891/М.Д990/.
- Нилус С.А. Святыня под спудом. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1991.
- Нилус С.А. На берегу Божьей реки. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1991.4.1.
- Нилус С.А. На берегу Божьей реки. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992, 4.2.
- Нилус С.А. Великое в малом. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.
- Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. /В русском переводе с параллельными местами и примечаниями/. Брюссель, 1979.
- О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из Постановления ЦК ВКП/б/ от 14 августа 1946 г. //Правда, 1946, 21 авг.
- Павловский А.И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество. М. Д991.
- Памяти Анны Ахматовой. Сборник, Paris, 1974.
- Парнок С. Отмеченные имена (Н.Клюев, А. Ахматова, И. Северянин) //Северные записки, 1913, Апрель.С.114−115.
- Пастернак Б. Соч.В 5-ти т. Сост. и комментарии Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова. М. Д989.Т.1.
- Пердов В. По литертурным водоразделам. I. Затишье // Жизнь искусства, 1925, N 43.С.4−6.
- Подберезина П.Е. К поэтической мифологии Анны s Ахматовой //Третьи Ахматовские чтения. Материалы областной научной конференции 12−14 мая 1993 года. Одесса, 1993.С.82−83.
- Православные русские обители. Спб., 1910 /репринт -Спб., 1994/.
- Православные чудеса. Век XX. М. Д995.С. 17−32.
- Православный богослужебный сборник. М., 1991.
- Православный молитослов и псалтирь. М., 1980. и
- Преподобного Ио&на, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908.
- Проблемы жизни, смерти и бессмертия //Мир философии, Т.2.М.Д991.
- Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993.
- Сахаров Софроний, схиархимандрит. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985.
- Сахаров Софроний, схиархимандрит. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991.
- Свенцицкая Э.М. Поэт и время в «Поэме без героя» А.Ахматовой /'/Третьи Ахматовские чтения. Материалы научной конференции 12−14 мая 1993 года. Одесса, 1993.С.84−85.
- Седристая В.Г. А.Ахматова и М.Булгаков. (К проблеме взаимосвязей) //Третьи Ахматовские чтения. Материалы научной конференции 12−14 мая 1993 года. Одесса, 1993.С.86−87.
- Семенова С.Г. Odium fati как духовная позиция в русской религиозной философии // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.С.26−34.
- Срезневская B.C. Дафнис и Хлоя //Звезда, 1989, N6.С.141−144.
- Стрелков В.И. Смерть и судьба //Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.С.34−39.
- Струве Г. П. Анна Ахматова и Николай Недоброво // Ахматова А. Соч. В 3-х т. Париж, 1983.T.3.C.282−301.
- Струве Н. Бог Анны Ахматовой //Струве Н. Православие и культура. М., 1992.С.243−245.
- Струве Н. На смерть Ахматовой //Струве Н. Православие и культура. М. Д992.С.136−139.
- Струве Н. О «Полночных стихах Анны Ахматовой» // Струве Н. Православие и культура. М. Д992.С.235−243.
- Тименчик Р.Д. Автометаописание у Анны Ахматовой // Russian Literature, 1975, N 7/8.С.212−226.
- Тименчик Р.Д. Принципы цитирования у Анны Ахматовой //Тезисы I Всесоюзной конференции «Творчество Ал. Блока и русская культура 20 века». Тарту, 1975.С.126−138.
- Тименчик Р.Д. Храм Премудрости Бога: стихотворение Анны Ахматовой «Широко распахнуты ворота .» //Slavica Hierusalymitana, 1981. vol V-VI.C.17−34.
- Топоров В.Н. «Поэма без героя» в ритуальном аспекте // Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. Тезисы конференции. М., 1989.С. 15−21.
- Топоров В.Н. Об ахматовской нумерологии и менологии// Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. Тезисы конференции. М. Д989.С.6−14.
- Топоров В.Н. Судьба и случай //Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1993.С.39−75.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
- Трубников Н.Н. Проблемы смерти, времени и цели человеческой жизни //Философские науки, 1990, N 2.С.104−115.
- Угодник Божий Серафим: В 2-х т. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993.
- Фарино Е. «Все души милых на высоких звездах.» Ахматовой //Анна Ахматова и русская культура начала 20 века. Тезисы конференции. М. Д989.С.34−38.
- Фигуры Танатоса. Символы смерти в культуре. Спб., 1991.
- Флоренский П., священник. Малое собрание сочинений, ВыпД.Имена. Кострома, 1993.
- Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. /Пер.с англ. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой /Предисл. и пер. А. Наймана- коммент.В.Черных и др. М., 1991.
- Хоружий С.С. Философский процесс в России как встреча философии и православия //Вопросы философии, 1991, N1.С.39−57.
- Хренков Д.Т. Анна Ахматова в Петербурге Петрограде-Ленинграде. Л., 1989.
- Цивьян Т.В. Материалы к поэтике Анны Ахматовой // Ученые записки Тартусского университета, 1967, вып.198. Труды по знаковым системам. 3.С.180−208.
- Цивьян Т.В. Ахматова и музыка //Russian Literature, 1978. N 10/ll.C.173−212.
- Цивьян Т.В. Человек и его судьба приговор в модели мира //Понятие судьбы в контексте разных культур.М., 1994.С.122−130.
- Чужак Н. Через головы критиков//Наш путь, Чита, 1922, N 2.С.77−78.
- Чуковская JI. Записки об Анне Ахматовой. М., 1989.
- Чулков Г. Закатный звон (И.Анненский и А. Ахматова)// Чулков Г. Вчера и сегодня. М., 1916.С.73−77.
- Чулков Г. Анна Ахматова //Наши спутники. М. Д922.С.71−79.
- Шаховской Иоанн, архиепископ. Московский разговор о бессмертии //Шаховской Иоанн, архиепископ. Избранное. Петрозаводск, 1992.С.499−536.
- Щеглов Ю.К. Из наблюдений за поэтическим миром Ахматовой («Сердце бьется ровно, мерно.») //Russian Literature» 1982, vol. 11.С.50−90.
- Щеглов Ю.К. Черты поэтического мира Анны Ахматовой// Wiener Slavistisher Almanach, 3.1981.С.27−56.
- Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пб., 1923.
- Kline G.L. Religious Theme in Soviet literature //Aspects of religion in Soviet Union 1917−1967. Chicago-Jondon, 1971. P. 149−180.
- Leiter Sh. Akhmatova's Petersburg. Philadelphia, 1983.
- Rosslyn W. The prince, the fool, the nunnery (Religiotffc Qrvflf Lttve in the early poetry of Anna Akhmatova), Amsterdam, 1984.