Погребальный обряд пьяноборской культуры в свете статистического анализа
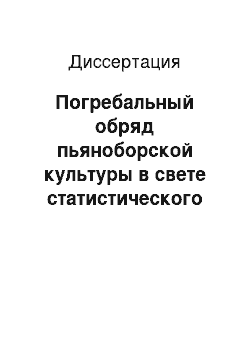
Ских I и II, опубликованы. Данное обстоятельство в немалой степени определило отбор памятников для нашего исследования, поскольку оно позволяет заинтересованному исследователю без излишних усилий проверить корректность результатов работы автора этих строк. Кроме того, перечисленные могильники являются наиболее «чистыми» пьяноборскими памятниками, следовательно их материал является наиболее… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Итоги и перспективы применения статистических методов анализа в археологии Приуралья
- Глава II. Статистическая характеристика погребального обряда пьяноборской (чегандинской) культуры
- Глава III. Статистическая характеристика вещевого комплекса пьяноборской (чегандинской) культуры
Погребальный обряд пьяноборской культуры в свете статистического анализа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Пьяноборская (чегандинская) археологическая культура — одна из наиболее исследованных и выразительных культур Прикамья, давно и неоднократно привлекавшая к себе внимание исследователей. Это внимание было обращено практически на все аспекты проявления и существования данной культуры. Среди них, пожалуй, наиболее детально разработанным является аспект её атрибуции. Впервые пьяноборская культура была выделена A.A. Спицыным в начале XX века по материалам Пьяноборского могильника, открытого в 80-е годы XIX в. на Нижней Каме. После публикации коллекции этого памятника1 в российской археологии появилось понятие «пьяноборская культура», как обозначение прикамских древностей конца I тыс. до н.э. — первой половины I тыс. н.э.
Уже в советское время одним из первых к этим материалам обратился A.B. Шмидт, рассматривавший нижнекамские памятники как часть культурного ареала Прикамья. По мнению исследователя, Прикамский культурный ареал включал в себя три археологических культуры: пьяноборскую в Нижнем Прикамье, гляденовскую в Среднем Прикамье и уфимскую (караабызскую) на Нижней и Средней Белой. В первой половине XX столетия взгляды A.B. Шмидта на этнокультурную ситуацию в Прикамье и Приуралье в эпоху раннего железного века нашли поддержку в трудах H.A. Прокошева, В. А. Оборина, О. Н. Бадера и В. Ф. Генинга.3.
С альтернативной точкой зрения в эти же годы выступил А. П. Смирнов, объединявший все прикамские памятники II в. до н.э. — V в. н.э. в единую пьяноборскую культуру.4.
50 — 60-е г. г. XX в. стали временем интенсивного накопления материалов по пьяноборской культуре, поэтому вскоре вопрос об альтернативных концепциях развития прикамских культур послеаньинского времени практически был снят с повестки дня. Это нашло отражение в первой обобщающей работе по данной проблеме В. Ф. Генинга. Детально проанализировав имеющийся материал и, прежде всего, материал исследованных им Чегандинских могильников и городищ в Удмуртском Прикамье, исследователь пришел к выводу, что «основные черты материальной культуры, которые могут характеризовать этнический состав населения — керамика, украшения костюма, орнаментальные узоры для ананьинской и чегандинской культур — составляют единую линию развития, и при наличии культурных остатков того и другого времени на одних поселениях свидетельствуют о непрерывности развития одного населения на данной территории».
Для удобства обозначения и восприятия послеананьинских культур Прикамья В. Ф. Генинг предложил объединить под понятием «пьяноборская этнокультурная общность» три синхронные и родственные культуры: чегандин-скую, гляденовскую и караабызскую.5 То есть, вернулся к первоначальной концепции A.B. Шмидта.
Такой подход В. Ф. Генинга не вызвал активной поддержки у других исследователей и в публикациях последующих лет одновременно встречались термины и чегандинская, и пьяноборская культура. Но поскольку В.Ф. Генин-гом были обозначены основные параметры рассматриваемой культуры — территория, хронология, морфология керамики и погребального обряда — в последующий период исследования проблематики пьяноборской (чегандинской) культуры было сосредоточены на вопросах уточнения хронологии, социальных и демографических реконструкциях. В немалой степени этому способствовало интенсивное накопление пьяноборского археологического материала на территории Нижнего Прикамья, в том числе и низовьях р. Белой, ставших в начале 70-х годов одним из основных районов работ Нижнекамской Археологической экспедиции ИА АН СССР.
Одним из первых исследователей, обратившихся к проблеме этносоциальных реконструкций носителей пьяноборской культуры, был Б. Б. Агеев.
Анализируя географию и планиграфию пьяноборских могильников, исследователь на территории ее распространения выделял девять племен, которые, по его мнению, образовывали союз родственных по происхождению племен. В то же время могильники пьяноборской культуры представлялись Б. Б. Агееву как некрополи родовых объединений.6.
Позднее исследованиями Г. Н. Журавлевой было установлено, что основной ячейкой пьяноборского общества являлась большая патриархальная семья, ведущая общее хозяйство и имеющая общее место захоронения.7.
Вопросы социальной организации пьяноборского общества рассматривает в своей монографии, посвященной вооружению и военному делу финно-угров Приуралья в эпоху раннего железного века, В. А. Иванов. По результатам анализа количества пьяноборских погребений с оружием и его качества автор не соглашается с концепцией Б. Б. Агеева о наличии нескольких пьяноборских племен и считает, что пьяноборская культура являлась одним большим племенем.8.
Второй блок проблем пьяноборской проблематики был связан с вопросами хронологии и периодизации культуры. В свое время В. Ф. Генинг определял время существования пьяноборской культуры временем III в. до н.э. — III в. н.э., то есть располагал ее между ананьинской (VIII — III в.в. до н.э.) и мазунин-ской (III — V в.в. н.э.) культурами.9 Исследования Б. Б. Агеева позволили скорректировать нижнюю дату пьяноборской культуры, определив ее — II в. до н.э.10 В последующем, базируясь на методе статистической обусловленности сопряженности типов вещей, к аналогичным выводам пришел и В. А. Иванов. Им было выделено в материальной культуре пьяноборских могильников восемь групп взаимовстречающихся вещей, которые укладывались в рамках трех веков I тыс. н.э.11.
Затем Т. А. Лаптева проанализировала эполетообразные застежки — характерный компонент материальной культуры «пьяноборцев» — на предмет выявления территориально-хронологических закономерностей в развитии данной категории артефактов. Опираясь на типологию эполетообразных застежек, разработанную В. Ф. Генингом, автор выделяет 8 типов этих изделий и располагает их во времени. Наиболее ранними — III — II вв. до н.э. — исследовательница считает застежки с треугольной и круглой задней бляхой и одним соединительным жгутом (типы 2 и 3 — по Т.А. Лаптевой). Затем, по времени, следуют застежки с одним основным и двумя вспомогательными жгутами и застежки с тремя жгутами (типы 5 и 6), датируемые I в. до н.э. — I в. н.э. Дальнейшая эволюция эполетообразных застежек с 3-мя жгутами шла в направлении увеличения размеров задней бляхи и количества соединительных жгутов. Бытование этих застежек относится, по Т. А. Лаптевой, ко II — III вв. н.э., то есть, к концу пьянобор-ской культуры.12.
Третий блок вопросов по пьяноборской культуре был связан с проблемой ее генезиса. Возвращение к вопросам происхождения было обусловлено пересмотром датировки пьяноборской культуры. Одной из актуальных проблем стала проблема культурно-хронологического соотношения пьяноборской и ка-раабызской культур.
Следует отметить, что в вопросе о происхождении собственно пьяноборской (чегандинской), караабызской и синхронных им культур Прикамья — гля-деновской и осинской — исследователи проявляли полное единодушие, находя этнокультурную основу перечисленного в ананьинской культуре. Расхождения во мнениях касаются, главным образом, пьяноборской и караабызской культур, которые одни исследователи — А. Х. Пшеничнюк, В. Ф. Генинг — считают самостоятельными «постананьинскими» культурами13- другие — H.A. Мажитов, Р. Д. Голдина — локальными вариантами единой пьяноборской культуры.14.
Третья точка зрения по данному вопросу как бы соединяет первые две. Так, В. А. Иванов, принимая, периодизацию А. Х. Пшеничнюка и применяя метод статистической обработки к погребальным комплексам караабызской культуры, получил при этом три группы вещей, демонстрирующих между собой устойчивую взаимовстречаемость. Основываясь на результатах своего исследования, В. А. Иванов делает предположение об активной роли «караабызцев» в оформлении материальной культуры пьяноборских племен.15 Это наблюдение нашло поддержку в работах Б. Б. Агеева, который считал, что между караабыз-ской и пьяноборской керамикой и некоторыми типами бронзовых украшений прослеживается морфологическое сходство. Не отрицая участие ананьинского позднего населения в сложении пьяноборской культуры, исследователь отводил им более скромную роль.16.
По-прежнему актуальной в Волго-Уральской археологии остается проблема о роли пьяноборской культуры в формировании этнокультурной карты Прикамья и Приуралья. В. Ф. Генинг считал, что «пьяноборцы под давлением пришельцев ушли на Среднюю Вятку (азелинская культура), а потому в этногенезе финно-угорских народов Прикамья участия принимать не могли».17 Позднее эта точка зрения была им уточнена и он пришел к выводу, что именно симбиоз пьяноборского (чегандинского) и караабызского населения.
1 б привел к формированию в Прикамье мазунинской культуры. Последний вывод исследователя, по-видимому, базируется на результатах исследований А. Х. Пшеничнюка, приведших его к заключению о том, что именно пьяноборская и караабызская культуры образовали генетическую основу раннебахму-тинской (мазунинской) культуры. При этом исследователь отмечал, что «караабызская культура обнаруживает гораздо больше сходства с мазунинской, нежели пьяноборская».19.
Совершенно определенно вопрос о роли пьяноборской культуры в генезисе последующей мазунинской (раннебахмутинской) культуры решает H.A. Мажитов. Опираясь на результаты сравнительного анализа погребального обряда пьяноборского и мазунинского (раннебахмутинского) населения, исследователь приходит к заключению об их генетической преемственности.
В принципе аналогичную позицию по вопросу об исторических судьбах носителей пьяноборской культуры занимает Т. И. Останина, которая также считает, что пьяноборская и караабызская культуры сыграли роль генетического субстрата в формировании мазунинской культуры, правда, удельный вес каждой из указанных культур в генезисе мазунинской культуры она оценивает про.
21 тивоположно А. Х. Пшеничнюку — роль «пьяноборцев» была решающей.
Свою законченность концепция H.A. Мажитова о генетической связи пьяноборского и мазунинского населения получила в исследованиях по этому вопросу Р. Д. Голдиной, которая сумела проследить трансформацию пьянобор-ской культуры в мазунинскую и даже рассматривает последнюю как позднюю стадию пьяноборской культуры.22.
Таким образом, видно, что, несмотря на более чем вековой поиск и изучение археологических памятников пьяноборской культуры, широкий охват исследовательских проблем, с ней связанных по целому ряду вопросов, в том числе, и касающихся морфологии рассматриваемой культуры в целом, у исследователей не сложилось единого мнения.
На наш взгляд, это может быть обусловлено отсутствием единого методического подхода к анализу достаточно массового (о чем будет сказано ниже) археологического материала, характеризующего пьяноборскую культуру. Вместе с тем, современная археологическая наука располагает вполне разработанными и достаточно апробированными методами сравнительно-статистического анализа массового археологического материала. Конструктивность и продуктивность этих методов заключается в том, что они не только позволяют получить выверенные и статистически обоснованные результаты, но и дают возможность последовательно проследить исследовательскую «кухню» и, при необходимости, проверить её корректность и объективность. Одним из таких методов является разработанная нами поисковая компьютерная программа «KLAD», подробно, о которой будет сказано ниже.
Целью нашего исследования является статистический анализ погребального обряда пьяноборской (чегандинекой) культуры и его всесторонняя характеристика как наиболее выразительного морфологического признака указанной культуры в целом. Дело в том, что в двух наиболее фундаментальных, после В. Ф. Генинга, исследованиях пьяноборской культуры (Б.Б. Агеев, Р.Д. Голдина) характеристика пьяноборского погребального обряда фактически лишена количественных показателей. Например, по Б. Б. Агееву погребальный обряд рассматриваемой культуры выглядит следующим образом: могильники располагаются по берегам крупных и мелких рек, на надпойменных террасахтреть могильников (из 20-ти, рассмотренных исследователем) располагалась на мысах коренных террасдостоверная связь с поселениями установлена для 5-ти могильниковв расположении могил на территории могильника Б. Б. Агеев прослеживает «определенный порядок», выражающийся в том, что захоронения осуществлялись по принципу «клановости», когда «каждая семья имела свой участок, отделенный свободным пространством, на общем кладбище" — вместе с тем, исследователь обнаруживает и «определенную взаимосвязь в расположении погребений и топографии памятника» — погребения Афонинского могильника расположены параллельными рядами вдоль береговой террасыпогребения совершались в простых могилах по обряду трупоположения, хотя выделяются несколько могил с обрядом кремации, а также частичными и вторичными захоронениями- «видимо, покойники заворачивались в луб или дно ям выстилалось им" — положение костяков в могилах на всей территории пьяноборской культуры одинаково — вытянуто на спине с вытянутыми вдоль тела руками, хотя встречаются погребения с руками, согнутыми в локтях, уложенными на грудь, на живот*- «в ориентировке погребенных даже на одном могильнике наблюдается большое разнообразие», так что «почти на всех пьяноборских могильниках в различном соотношении бытовало одновременно несколько ориентировок погребенных" — остатки жертвенной пищи (кости животных) «в могилах встречаются редко" — сосудов найдено всего 49- наиболее характерное орудие труда, представленное в погребениях — нож- «по сопровождающему инвентарю погребения четко делятся на мужские и женские: в женских погребениях богато представлены украшения и принадлежности костюма, «инвентарь муж Б. Б. Агеев приводит данные по могильникам, в которых встречены такие погребения. ских погребений представлен наконечниками стрел, копий, мечами, кинжалами и удилами" — приводятся также данные о погребениях, где пояса лежали развернуто рядом с человеком.23.
В интерпретации Р. Д. Голдиной погребальный обряд пьяноборской культуры характеризуется следующими признаками: могильники располагаются обычно по берегам рек высотой 4 — 6 м., иногда 12 — 20 м., и были связаны с близлежащими поселениямивнешних признаков могилы не имеютзахоронения на площади памятника располагались в определенном порядке, образуя ряды, группы, разделенные свободным пространством или имеющие разную ориентировкумогилы прямоуголной формыхоронили умерших, как правило, в ящиках из досок, сверху тоже закрытых досками, но известны факты захоронения в деревянных долбленых колодахбольшинство захоронений совершены по обряду трупоположения, вытянуто на спинеосновная масса погребений — индивидуальные, но встречались и коллективные захороненияв одной пятой части всех могил зафиксирован обычай укладывать пояс вдоль тела погребенногов мужских погребениях найдены железные ножи, костяные, бронзовые и железные наконечники стрел и копий, колчанные крючки, мечи, части конской упряжи, каменные точила и тому подобноехарактерный предмет женского костюма — эполетообразная застежкав женских захоронениях встречались височные подвески, гривны, перстни и браслеты, застежки-фибулы, пронизки и т. п.24.
Таким образом, в предлагаемых характеристиках учитываются практически все компоненты погребального обряда пьяноборской культуры, но без введения количественных показателей. А это затрудняет объективную оценку значимости того или иного признака и не дает возможности сравнительно-типологического анализа могильников между собой.* В данном случае это непосредственно касается проблемы выделения локальных вариантов пьяноборской культуры.
Кроме того, отсутствие в исследованиях количественных данных заметно обезличивает саму характеристику пьяноборского погребального обряда, поскольку уравнивает все фиксируемые его признаки.
Практика изучения погребальной обрядности привела исследователей к оценке ее как особой сферы человеческой деятельности, имеющей собственные цели и средства их достижения. Конкретные морфологические формы погребений определяются не только характером общественных отношениий данного социума, но, в большей степени, действием законов, превращающих погребальный обряд во внепространственное и во вневременное явление. Под последним подразумевается повторяемость форм и способов совершения захоронений с древнейших времен до настоящего времени.25.
Повторяемость форм и способов погребений, по сути, определяется тремя универсальными архетипами: погребальные сооружения (яма и насыпь), погребальный инвентарь и дополнительные погребальные структуры (жертвенники, кострища, перекрытия, гробы, ограды и т. п.).
В контексте археологического исследования и этноисторических реконструкций «морфология отдельного погребения (особенно, если оно безынвен-тарно) не может быть использована в качестве культуроразличительного признака — одни и те же формы погребений встречаются в разные исторические периоды или в пределах одной эпохи, но у разноэтнического и/или разнокультурного населениясходные формы общественных отношений порождают различные формы погребений, и, наоборот, за одними и теми же формами погребений скрываются разные формы общественных отношений.».
Применительно к пьяноборской культуре данные положения вполне определенно указывают на то, что ее погребальный обряд может послужить эталонным материалом для всестороннего статистического анализа, как своеобразный опытный полигон.
В соответствии с обозначенной целью формулировались и задачи исследования: по всем имеющимся в распоряжении исследователей материалам составить номенклатуру признаков погребального обряда пьяноборской культурыпровести кластерный анализ пьяноборских могильников на предмет выявления степени их внутренней связи (типологическая близость и различие могильников, выделение локальных вариантов) — выявить блоки признаков погребального обряда по степени их информационной значимости (предложенная В. Ф. Генингом и В.А. Борзуно-вым схема — всеобщие, локальные, частные), что позволит уточнить степень внутренней цельности пьяноборской (чегандинской) археологической культуры, как этнокультурного явления в истории народов Прикамьядать суммарную характеристику признаков погребального обряда пьяноборской (чегандинской) культуры и показать удельный вес каждого из этих признаков в погребальном обрядевыделить устойчивые сочетания этих признаков как статистически обоснованные модули, которые являются ничем иным как компонентами этнографической культуры пьяноборского населениядать суммарную характеристику комплекса погребального инвентаря пьяноборских могильниковвыделить устойчивые сочетания компонентов вещевого комплекса, что позволит судить об одновременном бытовании тех или иных типов вещейдать сравнительную характеристику могильников пьяноборской культуры по перечисленным выше признакам и установить степень их типологической и хронологической близостина основании полученных данных дать общую характеристику пьяноборской (чегандинской) культуры как этнокультурного явления в древней истории Прикамья;
• установить в каких количественных показателях и по каким морфологическим признакам прослеживается генетическая преемственность пьяноборского и мазунинского погребального обряда.
Из сказанного выше следует, что объектом исследования являются известные в настоящее время в Прикамье могильники пьяноборской (чегандин-ской) культуры, предметом — археологически фиксируемые детали погребального обряда и компоненты погребального инвентаря.
Источниковая база для исследований погребального обряда пьяноборской (чегандинской) культуры в настоящее время представлена материалами 22-х могильников, разбросанных на обширном пространстве Камско-Вятско-Бельского бассейна (рис.1). Степень изученности и количественное содержание этих могильников различны: среди них выделяются такие крупные могильники, как Тарасовский (1879 погребений), Ново-Сасыкульский (415 погребений), Ш-Кушулевский (324 погребения) и могильники с единичными захоронениями типа 1-Уяндыкского (4 погребения) или Ш-Кушулевского (10 погребений). Всего известно около 4000 пьяноборских погребений (по нашим подсчетам — 3902 погребения).
Для предлагаемого исследования были взяты материалы 13-ти могильников пьяноборской культуры — Ш-Кушулевского, 1-Уяндыкского, Юлдашевско-го, Ново-Сасыкульского, Чеандинского II, Ныргындинского I, Ныргындинского II, Старо-Киргизовского, Камышлытамакского, Урманаевского, 1-Меллятамакского, Ошкинского, Деуковского II — давшие в общей сложности 2050 погребений указанной культуры (что составляет более 52% от известного количества пьяноборских погребений). Все они, за исключением Ныргындин.
28 ских I и II, опубликованы. Данное обстоятельство в немалой степени определило отбор памятников для нашего исследования, поскольку оно позволяет заинтересованному исследователю без излишних усилий проверить корректность результатов работы автора этих строк. Кроме того, перечисленные могильники являются наиболее «чистыми» пьяноборскими памятниками, следовательно их материал является наиболее аутентичным в плане анализа именно пьянобор-ского погребального обряда. Исходя из этих соображений, автор настоящей работы не включил в анализ Тарасовский могильник, содержащий 48% всех погребений интересующего нас периода. Во-первых, памятник еще находится в стадии обработки его исследователями. Во-вторых, он является едва ли не единственным из известных сейчас могильников, материал которого отражает процесс трансформации пьяноборской культуры в мазунинскую (дата могильника I — V вв. н.э.)29, то есть, он содержит и «чисто» пьяноборские, и «чисто» мазунинские, и переходные между ними погребения. В-третьих, именно это обстоятельство, превращает данный памятник в своеобразный эталон для проверки не только выводов, касающихся генезиса мазунинской культуры, но и метода, используемого автором этих строк.
Для решения проблемы генетической преемственности пьяноборской и мазунинской культур автором в его работе были использованы также материалы двух мазунинских могильников: Покровского и Бирского (ранние погребения) — в общей сложности 199 погребений. Выбраны эти памятники также были не случайно. Прежде всего, это два памятника, расположены на противоположных границах ареала мазунинской культуры, следовательно, они не могут иметь общей генетической основы, кроме как пьяноборской культуры в целом. Во-вторых, памятники эти расположены за пределами собственно пьяноборско-го ареала и пьяноборских погребений в своем составе не содержат. И в-третьих, хронологически они стоят за пределами времени существования собственно пьяноборских памятников, что, на наш взгляд, придает дополнительную чистоту гипотезе о генетической преемственности рассматриваемых культур и проводимому нами эксперименту по ее проверке.
Территориальные границы исследования определяются территорией пьяноборской культуры в том виде, как она представляется сейчас исследователям. Первоначально В. Ф. Генинг определял ее «в треугольнике, вершины которого на востоке находятся по р. Каме у устья р. Буй, на юге — по р. Белой у устья р. Базы, на западе — по р. Каме у устья р. Ик».30 Б. Б. Агеев хотя и не очертил словесно в своей работе границы пьяноборской культуры, но, судя по приводимой им карте пьяноборских памятников, это территория от устья р. Куваш (левый приток р. Белой) на востоке до устья р. Ик и правобережья Камы — на западеот среднего течения р. Быстрый Танып — на севере до среднего течения р. Ик — на юге.31 Примерно так же очерчивает пьяноборский ареал и Р.Д. Гол-дина: «от устья р. Куваш до низовий Белой и по ее притокам, р. Ик, а также по камскому побережью от устья Ика на юге и до устья Малой Сарапулки на севе-ре». 32.
За пределами очерченного ареала находятся Ошкинский, Покровский и Бирский могильники. Однако из перечисленных памятников Ошкинский могильник, представляющий (по Р.Д. Голдиной) худяковскую культуру пьяноборской общности33, интересен нам тем, что он является самым западным пьяно-борским могильником, синхронным основной массе памятников с собственно пьяноборской (чегандинской) территории. Его типологическое место в комплексе пьяноборских могильников также должно пролить дополнительный свет на проблему семантики понятий «пьяноборская общность» или «пьяноборская культура». Относительно Покровского и Бирского могильников было сказано выше: это в контексте проверки гипотезы генетической преемственности пьяноборской и мазунинской культур — наиболее оптимальные для «чистоты эксперимента» памятники.
Хронологические рамки исследования укладываются во время существования пьяноборской (чегандинской) культуры в Прикамье так, как это установлено предшествующими исследователями. Сейчас их известно три: III в. до н.э. — II в. н.э. (В.Ф. Генинг) — II в. до н.э. — III в. н.э. (Б.Б. Агеев) — III — II вв. до н.э. — V в. н.э. (Р.Д. Голдина).34 Но поскольку период с III по V вв. н.э. — это все-таки общепризнанно — мазунинская культура35, в предлагаемой работе главным образом будут фигурировать материалы памятников, укладывающихся в хронологический рамки, установленные В. Ф. Генингом и Б. Б. Агеевым, хотя часть материалов следующего хронологического отрезка также будет задействована.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые за историю изучения культур эпохи раннего железного века в Прикамье метод математического анализа применен ко всему погребальному материалу пьяноборской (чегандинской) культуры, включающему археологически выявленные признаки обряда и комплекс сопровождающего инвентаря. Более того, можно говорить о том, что представляемая работа имеет междисциплинарный характер: с одной стороны, она демонстрирует возможности применения методов математической статистики в археологии, с другой — раскрывает перед математиками дополнительные сферы приложения их методических разработок в области прикладной статистики.
С точки зрения традиционной археологии результаты статистического анализа известного и массового археологического материала позволяют нам по-новому представить морфологические характеристики пьяноборского погребального обряда и внести определенные коррективы в некоторые реконструкции внутренней этнокультурной истории пьяноборского населения Прикамья.
Методологической основой диссертации являются принципы историзма, объективности и системности исторического процесса. Кроме традиционных методов археологического анализа — типологизация, классификация, хронологизация исходного материала — в работе активно использовались методы математической статистики — количественные характеристики, статистический отбор и иерархия признаков, выявление статистически обусловленных связей и их обоснование.
Научно-практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении и реконструкции этносоциальной структуры и мировоззрения пьяноборского населения. Особенно полезны они могут быть при восстановлении основных этапов этнической истории и этногенеза современных прикамских народов. Для специалистов в области математической статистики результаты исследования показывают цели и задачи применения статистико-математических методов в археологии и содержание компьютерных программ, требуемых для компьютеризации археологических исследований.
Апробация работы проводилась в докладах на научных конференциях: «Болгар и проблемы изучения древностей Урало-Поволжья» 100-летие А. П. Смирнова, г. БолгарМеждународной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения В. Ф. Генинга, г. ИжевскXVУральском археологическом совещании, г. ОренбургНаучно-практической конференции «Этнические взаимодействия на Южном Урале», г. Челябинскна региональной научно-практической конференции «Этнические взаимодействия на Южном Урале», г. Челябинскна международной научной конференции «Исторические истоки, опыт взаимодействия народов Приуралья», г. Ижевск.
Положения, выдвигаемые на защиту:
• погребальный обряд пьяноборской культуры — явление, предельно унифицированное и стандартизированное;
• этнографической особенностью пьяноборского населения Прикамья является привязка ориентировки погребенных к большой реке;
• социальная стратификация пьяноборского населения по погребальному обряду не представляется возможной;
• ассортимент погребального инвентаря пьяноборской культуры также достаточно унифицирован и самобытен, что затрудняет его внутреннюю хронологизацию;
• социальная стратификация пьяноборского населения по составу погребального инвентаря не возможна;
• пьяноборская культура представляла собой единый этнокультурный массив, не имеющий внутреннего этнографического членения;
• погребальный обряд пьяноборской культуры является генетической основой для погребального обряда последующей мазунинской культуры;
• компьютерная программа «КЬАО» представляет собой действенный инструмент для обработки и анализа массового археологического материала (погребальных памятников).
1 Спицын A.A. Древности бассейнов рек Оки и Камы // MAP. № 25. СПб., 1901.
2 Шмидт A.B. Туйский всадник // Записки коллегии востоковедов АН СССР. T.I. JI., 1925. С.410- Он же. Археологические изыскания Башкирской экспедиции АН СССР // Приложение к ж. «Хозяйство Башкирии», 1929, № 8−9. С.14−15.
3 Прокошев H.A. Из материалов по изучению Ананьинской эпохи в Прикамье // CA. 1948, X. С. 199- Бадер О. Н., Оборин В. А. Очерк работ Камской археологической экспедиции в 1955 и 1956 годах // Уч.зап. ПГУ. Т.ХИ. Вып.1, Пермь, 1960, С. 22 и сл.- Генинг В. Ф. Очерк этнических культур Прикамья в эпоху железа // Труды Казанского филиала Академии Наук СССР. Сер.гуман.наук 2. Казань, 1959. С. 163 — 177.
4 Смирнов А. П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья // МИА. № 28. 1952. С. 62, 69.
5 Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. 4.1 // ВАУ. Вып. 10. Свердловск-Ижевск, 1970. С. 8 и сл.
6 Агеев Б. Б. Пьяноборский союз племен // Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981; Он же. Проблемы общественного строя населения пьяно-борской культуры // Вопросы древней и средневековой истории Южного Урала. Уфа, 1987; Он же. Пьяноборская культура. Уфа, 1992. Гл. 4.
7. Журавлева Г. Н. Народонаселение Среднего Прикамья в пьяноборскую эпоху // Автореф. канд. дисс. Ижевск, 1995.
8 Иванов В. А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа. М., 1984. С. 74 и сл.
9 Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья. С. 91 и сл.
10 Агеев Б. Б. К вопросу о нижней дате пьяноборской культуры // Новые материалы и исследования по истории и филологии Башкирии. Уфа, 1976. С. 12.
11 Иванов В. А. О времени функционирования могильников эпохи раннего железа в Приура-лье//Древности Среднего Поволжья. Куйбышев, 1985. С. 93 и сл.
12 Лаптева Т. А. Эполетообразные застежки Прикамья // Типология и датировка археологических материалов Восточной Европы. Ижевск, 1995. С. 131 и сл.
13 Пшеничнюк А. Х. Караабызкая культура // АЭБ T. V, 1973. С. 235- Генинг В. Ф. Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры. М., 1988. С. 220.
14 Мажитов H.A. Бахмутинская культура. М., 1968. С.57- Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 2000. С. 242.
15 Иванов В. А. О времени функционирования могильников эпохи раннего железа. С. 90 и сл.
16 Агеев Б. Б. Пьяноборская культура.С. 104 и сл.
17 Генинг В. Ф. Узловые проблемы изучения пьяноборской культуры // ВАУ. Вып.4. Свердловск, 1962. С. 46 и сл.
18 Генинг В. Ф. Этническая история Западного Приуралья .С.220.
19 Пшеничнюк А. Х. Караабызкая культура// АЭБ T. V, 1973. С. 241.
20 Мажитов H.A. Бахмутинская культура.С.59−64.
21 Останина Т. И. Население Среднего Прикамья в III — V вв. Ижевск, 1997. С. 174.
22 Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 2000. С. 190, 204 и сл.
23 Агеев Б. Б. Пьяноборская культура. Гл. 1.
24 Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. С.212−223.
23 Смирнов Ю. А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. М., Восточная литература 1997. С. 7−12. 26 Там. же С. 12 и сл. 27Там же. С. 13.
28 Агеев Б. Б., Мажитов H.A. III Кушулевский могильник пьяноборской культуры // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986; Агеев Б. Б., Мажитов H.A. Новый паматпик пьяноборской культуры в Башкирии. Уфа, 1985. Васюткин С. М. Исследование пьяноборских могильников в западной Башкирии.// Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа. Уфа, 1982; Васюткин С. М., Калинин В. К. Ново-Сасыкульский могильник // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1982;
Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху (археологические памятники Чегандинской культуры III в. до н. э. — II в. н. э.) // ВАУ, Вып 11. Ижевск-Свердловск, 1971. Казаков Е. П., Старостин П. Н., Халиков А. Х. Деуковский II могильник. // Отчеты Нижнекамской археологической экспедиции.М., 1972. Вып. 1 Лещинская H.A. Ош-кинский могильник — памятник пьяноборской эпохи на Вятке.- Ижевск.: Издательский дом «Удмуртский университет». Вып.2, 2000; Мажитов H.A., Пшеничнюк А. Х. Камышлы-Тамакский могильник // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1968. Т. 3. Пшеничнюк А. Х. Памятники ананьинской и пьяноборской культур в низовьях р. Белой. // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986;
Пшеничнюк А. Х. Юлдашевский могильник. // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986; Старостин П. Н. Первый Меллятамакский могильник. // Древности ИкскоВельского междуречья. Казань, 1978.(Отчеты нижнекамской археологической экспедиции И, А АН СССР). Вып. 2. Работы татарского отряда.
29 Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа.С.226.
30 Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья .4.1. С. 12.
31 Агеев Б. Б. Пьяноборская культура. С. 83, рис. 15.
32 Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа.С.210. «Там же. С. 242.
34 Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья .4.1. С.88−93- Агеев Б. Б. Пьяноборская культура. С.79- Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа.С. 226.
35 Останина Т. И. Население Среднего Прикамья в III — V вв.
Заключение
.
Статистический анализ погребального обряда пьяноборской (чегандин-ской) культуры, произведенный с помощью компьютерной программы «КЬАЭ», позволяет нам сделать следующие выводы.
Первый — погребальный обряд рассматриваемой культуры может быть описан через 146 альтернативных признаков*, объективных в своем материальном выражении. В данном случае объективность признаков исключает, в частности, присутствие каких-либо метрических параметров, зависимых от уровня точности их фиксации в полевых условиях. То есть, исходный материал для морфологической характеристики предмета исследования может быть зафиксирован (следовательно — он был) или не зафиксирован (следовательно — его не было).
Второй — обобщенное (матричное) описание пьяноборского погребального обряда выражается в следующих качественных, но статистически обусловленных параметрах: могильники располагались преимущественно на краю надпойменных террасв этом случае преобладало расположение могил рядами вдоль русла рекимогилы представляли собой неглубокие ямы прямоугольной формы**, умершего укладывали в позе вытянуто на спине, с вытянутыми вдоль тела рукамиориентировали погребенных головой в сторону ближайшей большой реки. Последний признак может определенно рассматриваться как этнографический признак носителей пьяноборской культуры.
Все остальные признаки обряда, такие как ориентировка погребенных ногами к реке или вдоль реки, коллективные захоронения, погребения, содержащие кости животных и глиняную посуду (остатки поминальной пищи), угли, имеют частный характер. Они разбросаны по конкретным могильникам, не свя Альтернативность в данном случае подразумевает дилемму — есть признак или его нет. «Не исключено, что наличие могил овальной формы объясняется условиями их археологической фиксациизаны между собой, не образуют условно-зависимых модулей и обусловлены топографией каждого конкретного памятника. Этим и объясняется, во-первых, отсутствие на достаточно обширной территории пьяноборской культуры выраженных локальных вариантов погребальных памятников, а во-вторых — не поддающийся формальной логике диапазон типологической близости пьянобор-ских могильников.
Последнее, впрочем, как раз и может быть объяснено через призму отмеченной Ю. А. Смирновым специфики таких признаков погребального обряда, как углистые подсыпки в могилах и ориентация погребенных по сторонам света. Первые, как считает названный исследователь, могут считаться элементами погребального обряда только в том случае, если они выполняют изолирующую в отношении останков погребенного функцию1, чего мы, как известно, в пьяно-борских некрополях не наблюдаем. Вторая же в контексте археологического анализа помогает различать погребальные комплексы между собой, но в качестве материала для интерпретации маловыразительна из-за неопределенности её семантического поля2. Что мы и постарались продемонстрировать в ходе нашего анализа.
Третий — материальная культура пьяноборского населения Прикамья* имеет ярко выраженный этнографический характер в том плане, что составляющие её артефакты представлены практически в каждом из известных в настоящее время пьяноборских могильников. И количественные различия анализируемых памятников по ассортименту погребального инвентаря определяются или объемом самого памятника, или, что чаще — степенью его археологического изучения.
Можно определенно утверждать, что весь комплекс вещевого погребального инвентаря, в том его виде (сочетаниях типов вещей), как он представлен в могильниках, является этнографическим («характеристическим») для пьяно Представленная в основном артефактами, происходящими из погребальных памятников. борской (чегандинской) культуры. Вместе с тем, внутри него по количественным показателям и широте распространения в пределах пьяноборской территории выделяются вещи, характеризующие пьяноборскую культуру как четко локализованное этнокультурное образование. Это — височные подвески всех типов, поясные накладки прямоугольной и ромбической формы, пряжки в виде цельнолитого кольца и пластинчатые, бляхи-накладки с прорезным геометрическим орнаментом, плоские круглые или умбоновидные, эполетообразные застежки всех типов и костяные трехгранные наконечники стрел.
Четвертый — он вытекает из третьего — широкое территориальное и количественное распространение однотипных вещей в пределах самой пьяноборской культуры делает весьма затруднительным использование их (за немногим исключением) в качестве хронологических реперов. Одни и те же типы вещей в разном количестве присутствуют практически во всех известных могильниках, но в таких сочетаниях, что, в отличие от более поздних, например, археологических культур региона, не образуют между собой устойчивых связей — хронологически обусловленных комплексов. Поэтому, очевидно, не случайно, что большинство известных в настоящее время погребальных памятников пьяноборской культуры в их археологической интерпретации оказываются «растянутыми» во времени, занимая промежуточное место между двумя стадиями рассматриваемой культуры. Согласно современной хронологии этой культуры, один и тот же могильник функционирует не менее 500 — 600 лет.
Таким образом, результаты статистического анализа показывают, что большинство типов вещей имели хождение на всей территории рассматриваемой культуры (являлись её этнографическим признаком) и практически в течение всего периода её существования. Более того, вероятно именно вследствие многообразия типов вещей (то есть, она не отличалась монолитностью), материальная культура пьяноборского населения Прикамья сохраняла свой облик на протяжении довольно длительного периода. Вместе с тем, она же довольно резко трансформировалась в мазунинскую вследствие воздействия на нее в общемто ограниченного импульса извне: появление в регионе поясной гарнитуры новых типов сопровождается изменением типов традиционных для Прикамья украшений — застежек-фибул, височных подвесок, поясных накладок.
Пятый — результаты сравнительно-статистического анализа погребального обряда пьяноборских могильников, безусловно, подтверждают выводы исследователей о прямой генетической преемственности пьяноборской и мазунин-ской культур. Наглядное тому свидетельство — высокое значение показателей близости Бирского и Покровского могильников с пьяноборскими по признакам погребального обряда (с учетом того, что Покровский и Урманаевский или Бирский и Ныргындинский II могильники значительно удалены друг от друга во времени, показатели их близости между собой — 0,6 и 0,5 соответственно — представляются достаточно высокими). Вместе с тем, эти же результаты, обнаруживающие практически полное отсутствие типологической близости между двумя мазунинскими могильниками — Покровским и Бирским (ранние погребения) — показывают, что интерпретация мазунинской культуры, как заключительной стадии пьяноборской, требует специальной — дополнительной проработки.
1 Смирнов Ю. А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. М., 1997. С. 74.
2 Там же. С. 206.
Список литературы
- Агеев Б.Б. Научный отчет о раскопках на Кушулевском могильнике в 1970.
- Агеев Б.Б., Мажитов H.A. Научный отчет о раскопках на Кушулевском могильнике в 1969.
- Агеев Б.Б. Научный отчет об итогах полевых исследований на территории БАССР и Оренбургской области.
- Ашихмина Л.И. Отчет о раскопках Ныргындинского I могильника проведенных летом 1975.
- Голдина Р.Д., Чистяков М. Отчет об исследованиях Удмуртского отряда Нижне-Камской археологической экспедиции в 1969 г. (Ныргындинского I могильника). Архив Уд.ГУ. Свердловск, 1969.
- Голдина Р.Д. Отчет об исследованиях Удмуртского отряда Нижне-Камской археологической экспедиции летом 1970 (Ныргындинского I могильника). Архив Ур.ГУ. Свердловск, 1971.
- Голдина Р.Д. Отчет о раскопках Ныргындинского I могильника в 1971 году. Архив Уд.ГУ. Свердловск, 1972.
- Дневник раскопок. Ново-Сасыкульский могильник.
- Ю.Агеев Б. Б., Мажитов H.A. Ш-Кушулевский могильник пьяноборской культуры // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986.
- П.Агеев Б. Б., Мажитов H.A. Новый паматник пьяноборской культуры в Башкирии. Уфа, 1985.
- Васюткин С.М., Калинин B.K. Ново-Сасыкульский могильник // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1982.
- З.Казаков Е. П., Старостин П. Н., Хапиков А. Х. Деуковский II могильник. // Отчеты Нижнекамской археологической экспедиции. М., 1972. Вып. 1
- Н.Клюева Г. Н. Отчет об археологических исследованиях, проведенных в Каракулинском районе Удмуртской АССР летом 1979 г. Ижевск, 1980.
- Лещинская H.A. Ошкинский могильник памятник пьяноборской эпохи на Вятке. — Ижевск, 2000. Вып. 2.
- Агеев Б.Б. К вопросу о большесемейных группах в пьяноборской культуре. // Из истории Сибири, Томск, 1976. Вып.21.
- Агеев Б.Б. К вопросу о нижней дате пьяноборской культуры. // Новые материалы и исследования по истории и филологии Башкирии. Уфа, 1976.
- Агеев Б.Б. К хронологии могильника Чеганда II // Советская археология. -1976.-№ 3.
- Агеев Б.Б. Пьяноборская культура (вопросы хронологии и общественного строя). Автореф. дис. канд. ист. наук: Иститутархеологии. М., 1983.
- Агеев Б.Б. Пьяноборская культура. Уфа, 1992.
- Агеев Б.Б. Хронология и периодизация пьяноборской культуры. // Хронология памятников Южного Урала. Уфа, 1993.
- Амброз А.К. Фибулы юга европейской части СССР. // Свод археологических источников. М., 1966. Вып. Д1−30.
- Арматынская О.В. Особенности погребальных традиций населения Кам-ско-Бельского междуречья в эпоху раннего железа (конец IV в. до н.э. V в. н.э.) // Материалы по погребальному обряду удмуртов. Ижевск, 1991.
- Ашихмина Л.И., Клюева Г. Н. Новые материалы по ранней истории пья-ноборской культуры. // Вопросы финно-угроведения. Сыктывкар, 1979.
- Бакиров Н.Е., Евдокимова В. П., Иванов В. А. Опыт статистического анализа археологического материала VII IX вв. н.э. Южного Урала и При-уралья. Препринт. Уфа, 1988.
- Васюткин С.М. Исследование пьяноборских могильников в западной Башкирии. // Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа. Уфа, 1982.
- Вихляев В.И. Древняя мордва Посурья и Примокшанья. Саранск, 1977.
- Генинг В.Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху (чегандинская культура III в. до н. э. II в. н.э.). // Вопросы археологии Урала. Свердловск — Ижевск, 1970. Вып 10.
- Генинг В.Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху (археологические памятники Чегандинской культуры III в. до н.э. -II в. н.э.) // Вопросы археологии Урала. Ижевск-Свердловск, 1971. Вып 11.
- Генинг В.Ф. Проблемы изучения железного века Урала // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1961. Вып. 1
- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок. // Советская археология. 1973. — № 1.
- Генинг В.Ф. Узловые проблемы изучения пьяноборской культуры. // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1962. Вып. 4 Свердловск, 1962.
- Генинг В.Ф., Борзунов В. А. Методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда. // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1975. Вып. 13
- Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999.
- Голдина Р.Д. Могильники VII IX вв. на Верхней Каме. // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1970. Вып. 9
- Голдина Р.Д. Проблемы этнической истории пермских народов в эпоху железа (по археологическим материалам). // Проблемы этногенеза удмуртов. Устинов, 1987.
- Деопик Д.В., Узянов A.A., Штиглиц М. С. Статистический метод анализа керамического комплекса // Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972.
- Деревянко А.П., Холюшкин Ю. П. Математические методы в археологических реконструкциях. Методология и методика археологических реконструкций. Новосибирск, 1995.
- Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа. М., 1984.41 .Иванов В. А. Исследование памятников эпохи железа в нижнем течении р. Белой. // Археологические открытия. М., 1981.
- Иванов В.А. Вооружение средневековых кочевников Южного Урала и Приуралья (VII XIV вв.) // Военное дело древнего населения северной Азии. Новосибирск, 1987.
- Иванов В.А. Древние угры-мадьяры в Восточной Европе. Уфа, 1999.
- Иванов В.А. Население Нижней и Средней Белой в ананьинскую эпоху -Автореф. дисс.. канд. ист.наук. М., 1978.
- Иванов В.А. О времени функционирования могильников эпохи раннего железа в Приуралье. // Древности Среднего Поволжья. Куйбышев, 1985.
- Иванов В.А. Этнические процессы в степной и лесостепной полосе Южного Урала и Приуралья в VII XIV вв. н.э. — Дисс. .докт. ист.наук.Уфа, 1990.
- Иванов В.А. Этнические процессы в степной и лесостепной полосе Южного Урала и Приуралья в VII XIV вв. н.э. — Автореф. дисс.. докт. ист. наук. М., 1990.
- Иванов В.А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII-XIV вв.). М., 1988.
- Каменецкий И.С., Маршак Б. И., Шер Я.А. Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода). М., 1975.
- Лаптева Т.А. Эполетообразные застежки Прикамья. // Типология и датировка археологических материалов Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. Ижевск, 1995.
- Лебедев Г. С. Погребальный обряд как источник социологической реконструкции. // Краткме сообщенияо докладах и полевых исследованиях института археологии. Вып. 148, 1976.
- Мажитов H.A., Пшеничнюк А. Х. Камышлы-Тамакский могильник // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1968. Т. 3.
- Нейлор К. Как построить свою экспертную систему. М., 1991.56.0станина Т. И. Население Среднего Прикамья в III V вв. Монография 1. Ижевск, 1997.57.0станина Т. И. Покровский могильник IV Vbb. Каталог археологической коллекции. Ижевск, 1992.
- Пшеничнюк А.Х. Исследования по раннему железному веку // Вопросы древней и средневековой истории Южного Урала. Уфа, 1987.
- Пшеничнюк А.Х. Кара-Абызская культура. Население центральной Башкирии на рубеже нашей эры. // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1973.
- Пшеничнюк А.Х. Юлдашевский могильник. // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986.
- Пшеничнюк А.Х. Памятники ананьинской и пьяноборской культур в низовьях р. Белой. // Археологические работы в низовьях Белой. Уфа, 1986.
- Садыкова М.Х. Новые памятники железного века Башкирии // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962.
- Свод этнографических понятий и терминов. М., 1986. Вып. 1.
- Смирнов А.П. Могильники пьяноборской культуры (к вопросу о дате) //КСИИМК. 1949. Вып. 25.
- Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов среднего Поволжья и Прикамья.// Материалы и исследования по археологии СССР. М&bdquo- 1952.-№ 28
- Смирнов Ю.А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. М., 1997.
- Сунгатов Ф.А. Турбаслинская культура. Уфа, 1998.
- Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золо-тоордынских ханов. М., 1966.
- Федоров-Давыдов Г. А. Статистические методы в археологии. М., 1987.
- Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII — VI вв. до н. э.). М., 1977.
- Чижевский А.А. Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового раннем железных веках (предананьинская и ананьин-ская культурно-исторические области). Автореф. дисс. .канд. ист. наук. М., 2002.