Катакомбные культуры Донецко-Доно-Волжского региона
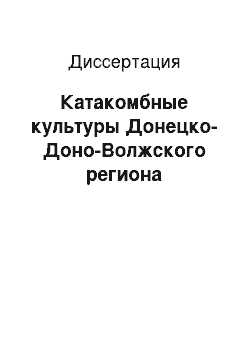
Ранний и развитый этапы существования среднедонской катакомбной культуры отмечены также взаимодействием с культурой волго-донской. Взаимодействие это шло по другому пути, нежели с вышеописанными образованиями. Волго-донские памятники к западу от Иловли единичны. С другой стороны, обрядовые традиции волго-донской культуры (левобочное положение умершего в сочетании с северо-восточной и восточной… Читать ещё >
Содержание
- Введение
- Глава I. История изучения среднедонской катакомбной культуры
- Выводы главы
- Глава II. Памятники донецкой катакомбной культуры в Доно-Волжском регионе
- II. 1. Общие положения
- II. 2. Погребальный обряд
- II. 3. Керамика
- II. 4. Металлический инвентарь
- II. 5. Прочие категории инвентаря
- Выводы главы
- Глава III. Памятники среднедонской катакомбной культуры
- III. 1. Общие положения
- III. 2. Погребальный обряд
- III. 3. Керамика
- III. 4. Металлическии инвентарь
- III. 5. Прочие категории инвентаря
- 1. /СО
- Выводы главы
- Глава IV. Опыт реконструкции историко-культурных процессов в Донецко
- Доно-Волжском регионе
Катакомбные культуры Донецко-Доно-Волжского региона (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Изучение эпохи средней бронзы Юго-Восточной Европы осуществляется уже более века. Среди множества проблем, возникающих в археологической науке на протяжении этого периода, несмотря на богатейшую историографиическую традицию, одной из самых сложных остается проблема становления и развития катакомбных культур Доно-Волжского региона. Северо-восток катакомбного мира, представленный памятниками донецкой, волго-донской и среднедонской культур, отнюдь не был глухой окраиной. По интенсивности культурогенетических процессов он мог соперничать с нижнедонским «эпицентром» КИО.
Учитывая факт чрезвычайной сложности процессов, протекавших в то время, решение ее представляется возможным лишь при максимально тщательном, дробном подходе к структурированию материалов постоянно расширяющейся источниковой базы. Результатом подобного подхода все чаще становится выделение разнопорядковых пространственно-временных образований (таксономических единиц): общностей, культур, а в последнее время все чаще и локальных вариантов внутри культурных групп. Столь скрупулезный подход в итоге наполняет содержанием общехронологические схемы, иллюстрируя конкретные процессы культурного взаимовлияния.
Ввиду отсутствия письменных источников, успешное изучение эпохи бронзы возможно лишь при использовании комплексного подхода к проблемам, основанного на использовании данных самых разных научных дисциплин, как гуманитарных, так естественнонаучных и источниковедческих. Важнейшей по значимости для исторических реконструкций источниковедческой дисциплиной является археология, главными функциями которой являются: разработка методов поиска, получения и анализа вещественных данных, т. е. сделать из археологических источников источники исторические. Часто археолог, справившись с такого рода задачами, сам стремится создать реконструкцию на базе полученных фактов, становясь, тем самым, и историком. Наиболее уязвимым местом во многих подобных исследованиях является то, что пространные исторические реконструкции создаются на ограниченном круге вещественных источников, которые к тому же при другом аналитическом подходе могут раскрыть иные информативные грани. Большинство такого рода работ априори находятся в русле традиционного и предельно генерализованного марксизмом понимания исторических процессов и не оставляют места возможному их многовариантному проявлению, о чем могли бы поведать те же вещественные источники при их более глубоком и комплексном анализе. В этой связи мы считаем недопустимым формальный подход, с упором на «выдергивании» отдельных погребений по каким-либо критериям, равно как и искусственное «записывание» всех памятников на одной территории или одного хронологического горизонта в единую культуру. Крупные могильники в первую очередь рассматривались в комплексеименно такой подход к источникам позволяет наиболее полно раскрыть заданную тему. Также привлекался обширный круг дополнительных археологических источников по среднему бронзовому веку Центрального и СевероВосточного Кавказа, степного Предкавказья, Нижнего Дона и СевероВосточного Приазовья, Донбасса, Заволжья.
Первоначальной задачей ставилось решение круга вопросов, связанных с формированием, развитием и историческими судьбами среднедонской катакомбной культуры. В дальнейшем, однако, стало ясно, что их невозможно решить без определения роли и места в культурогенетических процессах памятников предшествующего хронологического пласта — так называемых «погребений с елочно-гребенчатой орнаментацией керамики» и памятников донецкой катакомбной культуры.
Таким образом, тема данной работы сформулирована как «Катакомбные культуры Донецко-Доно-Волжского региона (по материалам погребальных памятников)». Среднедонская катакомбная культура и памятники восточной периферии донецкой катакомбной культуры — главный предмет нашего исследования.
Объект исследования — археологический источник — погребальные памятники (преимущественно подкурганные захоронения) эпохи средней бронзы.
Исходя из вышеизложенного, цель данной работы нами определена как сбор, систематизация и анализ всего комплекса доступных археологических источников, связанных со среднедонской и донецкой катакомбными культурами на конкретной чётко очерченной территории (Волго-Донское междуречье и Доно-Донецкое междуречье, включая бассейны левых притоков Северского Донца до р. Оскол). На этой основе становится возможной попытка реконструкции историко-культурных процессов и их механизмов на значительной территории юга Восточной Европы. Использование результатов работы в качестве уже исторического источника в совокупности с другими подобными работами должно, в свою очередь, упростить реализацию задач исторического исследования, посвященного эпохе средней бронзы Восточной Европы (Кавказского очага культурогенеза) в целом (в этом заключена её практическая значимость).
Долгое время считалось, что памятники среднедонской культуры в Волго-Донском междуречье «совсем немногочисленны и характеризуются относительно поздним обликом» (Синюк, 1996. С. 143). За этим необоснованным утверждением стоит пренебрежение многими исследователями (фактически до появления исследования A.B. Кияшко (Кияшко, 2002)) катакомбными древностями археологическими источниками Волго-Донского междуречья. Раскопки волгоградских и саратовских археологов показали, что дело обстоит совсем не так. Важность и актуальность исследований археологических источников катакомбного времени Волго-Донского региона очевидна. Это обширный регион охватывает различные природно-ландшафтные зоны и включает в себя бассейны трех крупных донских притоков — Хопра, Медведицы и Иловли. Верховья последней сближаются до четырех километров с рекой.
Камышинкой — притоком Волги. Это место, называемое «переволокой», исстари использовалось для перехода из бассейна Дона в Волгу и обратно (Котельников, 1963, с. 165). Узкая южная, сухо-степная часть региона также с древнейших времен была своеобразным «перекрестком», через который проходили массовые миграции населения. Таким образом, мы вправе предполагать на данной территории широкую контактную зону носителей нескольких линий культурных традиций: доно-донецкой, доно-волжской и волго-уральской, что в перспективе может дать неоценимую информацию по изучению различных аспектов этнических процессов и их характера в древности.
Несколько иначе ситуация обстоит с древностями Донеччины и Среднего Дона. Первые вплоть до третьей четверти XX в. были традиционным эталоном для составления хронологических колонок всего бронзового века Восточной Европы. В отличие от иных территорий, охваченных данным исследованием, материалы многолетних полевых работ 1970;1980;х гг. до недавнего времени оставались необработанными и в массе неопубликованными. Это привело к тому, что в 1970;х гг. они уступили свое «привилегированное» значение памятникам Нижнего Подонья и СевероВосточного Приазовья, и, несмотря на обилие доступных источников и их разнообразие, в целом рассматривались как продолжение культурно-хронологических построений, предложенных для этой территории. При этом большее внимание уделялось ранним памятникам. Древности Среднего Дона в узком смысле этого термина (в пределах современной Воронежской области) всей своей совокупностью рассматривались фактически изолированно от сопредельных территорий в рамках единой археологической культуры.
Итак, исходя из поставленной цели, непосредственными задачами данной работы являются:
1. Определить степень проработки комплекса вопросов, связанных с изучением среднедонской катакомбной культуры.
2. Определить границы распространения среднедонской катакомбной культуры в Волго-Донском и Доно-Донецком регионах и выявить территориальную специфику памятников.
3. Уточнить культурную атрибуцию памятников, предшествующих среднедонской катакомбной культуре.
4. Определить роль памятников донецкой катакомбной культуры в регионе в решении вопроса генезиса среднедонской культуры.
5. Определить масштабы и глубину контактов носителей среднедонской катакомбной культуры с соседними образованиями.
6. Определить место и относительную хронологическую позицию памятников среднедонской катакомбной культуры в системе древностей эпохи средней бронзы региона.
В ходе исследования применялись следующие традиционные методы: типологический, статистический, картографический, стратиграфический, сравнительно-исторический, историко-генетический. Анализ материалов проводился по следующей выборке признаков археологической культуры: идеология (погребальный обряд), технология (металл), бытовая сфера (керамика).
Материалом для исследования послужили результатыы работ археологических экспедиций ЛОИА АН СССР, Волгоградского, Воронежского, Саратовского, Ростовского классических и педагогических университетов, Северскодонецкой экспедиции института археологии АН УССР, Харьковского и Восточноукраинского государственных (ныне национальных) университетов, Ростовской областной инспекции по охране и эксплуатации памятников истории и культуры и др., а также коллекции, полученные в ходе данных раскопок (представленные преимущественно в фондах Волгоградского, Саратовского, Энгельсского краеведческих музеев, археологических музеев Воронежского университета и Воронежского педагогического университета, Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника).
Методологическая и теоретическая основа: монографические работы Березуцкой Т. Ю., Братченко С. Н., Кияшко А. В., Матвеева Ю. П., Мельника В. И., Пряхина А. Д., Синюка А. Т., Смирнова A.M., а также труды, вошедшие в сборники «Советская (Российская) археология», «Археологические вести», «Археология Восточноевропейской лесостепи», «Археология Восточноевропейской степи», «Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье», «Нижневолжский археологический вестник», «Проблеми дослщження пам’яток археологи Схщной Укра’ши», «Археолопя» и др.
Используемые в работе публикации можно условно разделить на две группы — публикации источников и работы сугубо аналитического характера.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Впервые для исследования среднедонской катакомбной культуры привлечены масштабные материалы северо-степной части доно-волжского региона.
2. Впервые в рамках одного исследования рассматриваются культурогенетические процессы на всей северо-восточной территории распространения катакомбной культурно-исторической общности.
3. Уточнена культурно-историческая интерпретация памятников развитого и позднего этапов среднего бронзового века донецко-доно-волжского региона.
Положения, выносимые на защиту:
1. Говорить о завершенности изучения феномена среднедонской катакомбной культуры пока преждевременно (вопросы территориальных рамок, абсолютной и относительной хронологии, генезиса, взаимовлияния с соседними образованиями, даже вопрос о названии этой культуры остаются предметом дискуссии).
2. Основная территория среднедонской катакомбной культуры простиралась в Волго-Донском междуречье вплоть до верховьев рек Иловля и Широкий Карамыш на северо-востоке, Иловли на востоке, излучины Волги в районе Волгограда и р. Мышкова на юге. В Доно-Донецком междуречье южная граница проходит по р. Северский Донец, западная — по р. Оскол (рис. 29, 62, 63).
3. Очагом сформирования среднедонской катакомбной культуры следует считать бассейн Среднего Дона в узком смысле этого термина, с большим акцентом на его правобережную часть (рис. 62).
4. Ключевым субстратом для сложения среднедонской катакомбной культуры являлись носители донецкой катакомбной культуры, преимущественно ее северные группы Донского Правобережья. Основной механизм культурогенеза — миграционный. Роль автохтонного доно-волжского населения, носителей культур шнурового блока — вторичная.
5. Генезис и развитие среднедонской катакомбной культуры — явление многокомпонентное, которое имеет в целом поздний характер в рамках существования катакомбной КИО. Финальный этап культуры соотносится с ранним этапом развития блока посткатакомбных образований.
Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списков литературы и архивных материалов (включает 203 и 62 наименований соответственно), 9 таблиц, 11 диаграмм и 63 иллюстраций. В качестве приложения приводится список стратифицированных погребений с изучаемой территории. Объем самой работы составил 180 страниц. Во введении определяется тема исследования, даётся краткая характеристика объекта исследования, а также обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Первая глава представляет собой историографический обзор работ, посвященных различным аспектам изучения среднедонской катакомбной культуры, выделение наиболее дискуссионных и актуальных вопросов. В рамках второй главы произведён структурный и типологический анализ и классификация памятников восточной периферии донецкой катакомбной культуры, как с точки зрения погребального обряда, так и отдельных категорий инвентаря. В рамках третьей главы разбираются памятники среднедонской катакомбной культуры. Четвертая глава представляет собой опыт историко-культурной реконструкции — в ней освещена роль памятников донецкой и среднедонской катакомбных культур донецко-доно-волжского региона в изучении вопросов межкультурного взаимодействия племен эпохи средней бронзы, генезиса среднедонской катакомбной культуры, определении территориальных границ ее распространения, уточнении вопросов относительной внешней и внутренней хронологии. В заключении подводятся итоги проведенного исследования, перечисляются основные теоретические и практические результаты работы, определяется перспективность разработки темы.
Ряд положений, изложенных в данной работе, освещался автором на заседаниях Отдела археологии Средней Азии и Кавказа ИИМК РАН, различных конференциях в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани (Федосов, 2005; 2006; 2006а- 2007 и др.), статьях (Федосов, 2007а, 2008, 2008аФедосов, Сухорукова, 2009).
Выводы главы.
Итак, проведенный анализ свидетельствует, во-первых, о прямой преемственности среднедонской катакомбной и донецкой катакомбной культур, причем фиксируется больше общих черт с донецкой «классикой», нежели с павловско-усть-курдюмским типом. Данное утверждение применимо ко всему ареалу культуры.
Во-вторых, памятники на всей территории распространения среднедонской катакомбной культуры от Волги до Оскола демонстрируют общие устойчивые культурообразующие признаки, отличающие их от соседних образований и выраженные в преобладании единой формы погребального сооружения, деталей погребального обряда (поза и ориентировка умершего), общих керамических форм и орнаментальных канонов. Разделение среднедонской катакомбной культуры на Правобережный и Левобережный варианты правомерно, также можно ставить вопрос о выделении западного, осколо-краснянского варианта, но различия между ними носят этнографический, а не культурообразующий характер. Они выражены не в наличии или отсутствии каких-либо компонентов, а в их относительных показателях. Особенности локальных вариантов обусловили в первую очередь межкультурные контакты.
В-третьих, время формирования среднедонской катакомбной культуры связано с распадом, точнее трансформацией, донецкой культуры и синхронизируется с рубежом костромского и привольненского этапов развития кавказской металлообработки.
В-четвертых, металлообработка среднедонской катакомбной культуры, восходит в первую очередь к донецкому очагу, однако, ввиду большой территории распространения, имеет свою локальную специфику, проявившуюся на позднем этапе.
В-пятых, формирование основных орнаментальных сюжетов среднедонской катакомбной культуры связано с унификацией в единый набор целого ряда культурных керамических традиций на основе донецкой. При этом одни инокультурные элементы вошли в среднедонскую культуру, уже будучи переработанными донецкой (в первую очередь, это касается влияния блока шнуровых культур, центральнокавказских образований), другие — через непосредственные детерминационные процессы. Степень детерминации и преобладающий вектор влияния неодинаков (постшнуровой блок, ростово-луганская группа, западноманычская катакомбная культура в большей степени, волго-донская и восточноманычская катакомбные культуры — в меньшей). Кроме того, развитие среднедонской керамической традиции развивалось с учетом общих для катакомбной КИО эпохальных тенденций. Наиболее ранней формой среднедонской посуды нам представляется высокошейный сосуд с выделенными округлыми плечиками, орнаментированный преимущественно в шнуровой технике. К наиболее архаичным элементам декора относятся тесьма, спиралевидные вдавления, «личиночный» штамп. Процесс формирования валиковой орнаментации начинается с распада донецкой культуры, вытеснение им шнуровой техники происходило постепенно. Несмотря на кажущееся богатство декора, налицо тенденция к упрощению орнамента, в первую очередь за счет уменьшения разнообразия сюжетных элементов на сосуде.
В-шестых, погребальный обряд среднедонской катакомбной культуры демонстрирует нарастающую тенденцию к упрощению, выраженную в упрощении погребальных конструкций, уменьшении количества коллективных погребений, использования охры, производственных наборов, наборов украшений, инсигний власти.
170 ГЛАВА IV.
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОНЕЦКО-ДОНО-ВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ.
В этой главе дается опыт реконструкции историко-культурных процессов (процессов культурогенеза), происходивших на обширных пространствах Доно-Донецкого и Доно-Волжского междуречий на развитом, позднем и финальном этапах среднего бронзового века. В его основу положены выводы, полученные в результате анализа совокупности археологических источников, освещенного во второй и третьей главах нашего исследования.
Итак, огромный массив накопленных к настоящему времени археологических источников неопровержимо свидетельствует о том, что на севере катакомбного мира протекали процессы культурного развития не менее сложные и динамичные, чем в его эпицентре — на Нижнем Дону и в Северо-Восточном Приазовье. Применительно к очерченной данной работой территории ключевыми словами для определения этих процессов будут миграция и детерминация. Именно они обусловили кажущуюся пестроту катакомбных памятников региона.
На Нижнем Дону и в Северо-Восточном Приазовье процесс формирования катакомбной обрядности и соответственно оформления новой культуры происходил на основе местного позднеямного субстрата (Кияшко, 1999; Санжаров, 2001). С некоторой задержкой, обусловленной большей удаленностью от кавказского очага металлургии и эпицентра новой идеологической революции, очевидно меньшей плотностью населения, эти же процессы протекали на Среднем Дону и прилегающих к нему с востока и запада территориях. Об этом свидетельствует небольшая (менее двух десятков) группа ямно-катакомбных погребений, восходящих к доно-волжской обрядовой традиции по A.B. Кияшко (Кияшко, 2002, с. 86, рис. 29). Целостность этого процесса, однако, была нарушена уже прямым воздействием внешнего фактора.
Начало раннедонецкого горизонта (успенского этапа кавказской металлобработки) ознаменовалось продвижением носителей полтавкинской археологической культуры в район южного сухостепного Волго-Донского междуречья. A.B. Кияшко, М. Б. Рысин, и вслед за ними Е. П. Сухорукова, считают ее следствием устремления к кавказскому центру культурных влияний (Кияшко, 2002, с. 80, 211- Рысин, 2007, с. 195, 214- Сухорукова, 2008а, с. 59). Не исключая правильность данной трактовки и в то же время не считая ее единственно возможной, не нахожу уместным вдаваться в дискуссии по этому вопросу, ибо он лежит за рамками данного исследования и его решение не отменяет самого факта миграции, впервые отмеченного (повторюсь) С. Н. Братченко (Братченко, 1976) (рис. 28). Впоследствии это положение было доказано A.B. Кияшко (Кияшко, 2001, 2002а) и Е. П. Сухоруковой (Сухорукова, 2008, 2008а), вплоть до постановки вопроса о выделении отдельного нижнедонского локального варианта полтавкинской культуры. Немногочисленность памятников с восточными элементами говорит скорее против последнего утверждения.
В раннедонецкое время на полтавкинской основе под влиянием раннекатакомбных (преддонецких) памятников складывается своеобразная волго-донская культура. Ее ареал в целом совпадает с границами сухо-степной и полупустынной природно-климатических зон и охватывает Заволжье, Правобережье Волги до р. Иловля, южную «узкую» часть ВолгоДонского междуречья. Западнее, на Левобережье Нижнего Дона, в низовьях Чира и Северского Донца, тот же процесс культурной трансформации, но с другим ведущим субстратом (носителями доно-донецкой обрядовой традиции) приводит к появлению иной культурной группы, оставившей погребения павловско-усть-курдюмского типа. В дальнейшем эта группа оказалась вовлечена в распространение донецкой культуры на север. Освоение носителями доно-донецкой обрядовой традиции северо-степных и лесостепных пространств Доно-Донецкого междуречья проходило по долинам рек Донского бассейна, по-видимому, несколькими волнами, и началось еще на раннедонецком (успенском) этапе. На северо-западе они распространяются до среднего течения р. Оскол, на севере охватывают пределы современной Липецкой области (Бессуднов, Ивашов, 2003), на северо-востоке донецкие катакомбные материалы отмечены даже в Сурско-Мокшанском междуречье (рис. 28). Отметим, что область распространения на север поселений значительно превышает область распространения погребальных памятников. Среди последних самыми северными на текущий момент следует считать могильники Красненский, Власовский I-III, Крутец, Тростянка. На северо-востоке донецкие погребения отмечены на волжском правобережье в районе Саратова (Усть-Курдюм I-III, Сабуровка), далее восточная граница проходит, по-видимому, по р. Иловля. Степень освоения территории была неодинаковой — плотность заселения Доно-Донецкого междуречья существенно выше, очевидно, в силу близости формирующегося донецкого локального очага металлургического производства.
A.B. Кияшко предполагает также участие пришлого волго-уральского населения в формировании западноманычской катакомбной культуры (Кияшко, 2002, с. 76−77). Его гипотеза объясняет своеобразный биритуализм западноманычских памятников (сочетание обрядовых групп «правый боксевер» (ОГ1С по нашей классификации) и «правый бок — запад» (ОГ13), но не дает ответа на вопрос об истоках керамического комплекса культуры, свои параллели имеющего в культурах Центрального и Северо-Восточного Кавказа. Как бы то ни было, именно с формированием западноманычской катакомбной культуры связан наблюдаемый отток раннедонецкого населения из Левобережья Нижнего Дона в северном направлении.
Расселение на столь значительной территории не могло не отразиться на облике материальной культуры. На восточной и северо-восточной периферии возникает своеобразный дериват — памятники павловско-усть-курдюмского типа. Его формирование, повторюсь, следует относить к раннедонецкому горизонту. Внутри этого типа памятников оформляются Правобережный и Левобережный варианты, отразившие степень связи с метрополией" (основной зоной распространения донецкой «классики» на правобережье Северского Донца), а также специфику контактов с сопредельными образованиями — волго-донской культурой, шнуровыми группами, немногочисленными остатками местного раннекатакомбного населения1. Главное следствие этих контактов — локальные особенности керамики. Погребальный обряд отличается большей стабильностью. Более того, в восточных левобережных погребениях позднедонецкого горизонта отмечаются отдельные реминисценции более раннего времени — вогнутые ступеньки в шахте, декапитация черепов, округлодонные сосуды, горизонтально-зональная система декора посуды и т. п. В рамках инокультурных связей павловско-усть-курдюмских памятников первенство, безусловно, принадлежит волго-донской культуре. Эти связи выразились во взаимопроникновении форм сосудов и основных сюжетных композиций. Однако различия в основных обрядовых установках не позволяют смешивать эти культуры и атрибутируют массив памятников привольненского и отчасти успенского этапов Доно-Донецкого и ВолгоДонского (бассейны Иловли, Медведицы, Хопра) междуречья в рамках донецкой катакомбной культуры.
Финал привольненского этапа ознаменовался новым всплеском культурогенетических процессов. Происходит дезинтеграция и распад донецкой катакомбной культуры. На ее основе складываются среднедонская катакомбная культура и бахмутская культурная группа. Определенное донецкое влияние ощущается и в позднекатакомбной ростово-луганской группе памятников. Здесь мы вплотную подступаем к следующим вопросам.
Первый связан с правомерностью выделения памятников бахмутского типа и его критериев. Во-первых, уже очевидно, что нельзя рассматривать в рамках этого термина все постдонецкие погребения Нижнего Дона, Подонцовья, и уж тем более Приазовья, как это сделал С. Н. Санжаров Определенные реплики керамической традиции репинской культуры, отразившиеся преимущественно на поселенческой керамике, по-видимому, стоит связывать с этим автохтонным населением. В погребальном обряде и в погребальной керамике эта связь фиксируется на единичных примерах.
Санжаров, 2001), — получается слишком аморфная совокупность. Во-вторых, несмотря на выделение в южной части Доно-Донецкого региона ростово-луганской группы памятников, а в северной его частизначительного пласта памятников среднедонской катакомбной культуры с обширной контактной зоной, остается необходимость в характеристике погребений донецкой обрядовой традиции (рис. 62). Керамический комплекс этой группы примечателен сосудами, морфологически занимающими промежуточное положение между позднедонецкими кубковидными сосудами (группа Б-П по нашей классификации) и классическими среднедонскими «раструбошейниками» (группа Б-IV).1 К нему, возможно, стоит относить и кубковидные сосуды с защипным валиковым пояском в основании горла и шнуровой орнаментацией «треугольники вершинами вниз» в верхней части тулова. Все это говорит о синхронности этой группы памятников с ранним этапом среднедонской катакомбной культуры и общих генетических истоках. Дополнительным аргументом служит наличие ножей промежуточных между вторым привольненским и костромским типами (Отдел 1 группа Б, Отдел 3 группа, А по нашей классификации). Отсутствие более поздних ножей классических костромских типов (Отдел 1 группа А, Отдел 2 по нашей классификации) говорит об относительной краткосрочности ее бытования. Керамический комплекс позднекатакомбных памятников Северо-Восточного Приазовья имеет намного более смешанный характер, в котором донецкой катакомбной культуре принадлежит отнюдь не преобладающая роль в сравнении с ингульскими и манычскими группами. Время ее бытования С. Н. Санжаров определяет вплоть до появления ранних бабинских памятников на этой территории (Санжаров, 2001). Таким образом, можно говорить как минимум о двух «бахмутских» группах памятников. Вопрос терминологии и точных критериев обеих групп.
1 Это, в частности, керамика из погребений Бессергеневский III 23/1, 23/2 (Парусимов, 2002, с. 68, рис. 37,.
1, 4), Золотые Горки V 3/6 (Там же. С. 77, рис. 46), Мокрый Керчик I 3/12 (Там же. С. 89, рис. 58, 1, с. 91, рис. 61, 1, с. 93, рис. 62, 2). В последнем случае такой сосуд находился в одном закрытом комплексе с «елочным» сосудом типа Б-1−1-.
— вопрос будущих исследований, и уровень накопленных на сегодняшний день археологических источников, на мой взгляд, позволяет его решить.
Второй связан с ранним этапом среднедонской катакомбной культуры. Как следует из логики наших рассуждений, подкрепленных фактическим материалом, формирование среднедонской катакомбной культуры является частью единого процесса распада донецкой катакомбной культуры и явлением одного порядка с появлением памятников бахмутского типа в их правобережном Донецко-Нижнедонском варианте. Отражением этого процесса можно объяснить и наличие высокошейного сосуда типа Б-IV-lв донецком погребении Усть-Курдюм I 5/3 (Лопатин, Якубовский, 1993, с. 146, рис. 6, 6). Если принять во внимание эффект определенного «запаздывания» донецких памятников крайней северо-восточной периферии культуры, расположение большинства комплексов с совместным нахождением донецкой и среднедонской керамики в Доно-Донецком междуречье, сосредоточение там же основной массы «безваликовых» сосудов типа Б-П со шнуровой (тесемчатой орнаментацией и архаичными формами ритуальной керамики типа амфорок), то очагом формирования среднедонской катакомбной культуры следует считать бассейн Среднего Дона в узком смысле этого термина, с большим акцентом на его правобережную часть (рис. 62). Еще раз подчеркнем, что появление валикового пояска в месте основания горла — явление стадиального порядка и должно рассматриваться в ряду других маркеров раннего этапа среднедонской катакомбной культуры, наряду с выпуклыми плечиками и широким устьем высокошейных сосудов, использованием тесьмы, спиралевидных вдавлений, наличием костяных колец и т. п. В южной части ареала донецкой культуры процесс дезинтеграции был осложнен воздействием внешних факторов, скорее всего, прямой миграции, приведшей к сложению ростово-луганской группы.
Ростово-луганская группа памятников сменяет бахмутские памятники Донеччины и Нижнего Дона и, очевидно, провоцирует очередной миграционный поток в северную часть Волго-Донского междуречья. Вопрос о генезисе этой группы до конца еще не решен, равно как и вопрос о ее критериях. Последний должен получить дополнительное освещение в свете новых археологических работ на севере Ростовской области. Своеобразный ее керамический комплекс, наряду с уникальными керамическими формами (бесшейные сосуды реповидных форм, округлобокие цилиндрошейные высокошейные сосуды с широким устьем и валиковой орнаментацией), включает в себя также значительное количество центральнои восточно-кавказских заимствований (обмазка нижней части тулова, круглые и сосцевидные налепы группами по три в верхней части тулова сосуда и т. п. (например, Новоникольское 2/1 (Братченко, Швецов, 1991, с. 180, рис. 14)). Обрядовая сторона обнаруживает определенное сходство с западноманычской катакомбной культурой.
Взаимная инфильтрация среднедонского, ростово-луганского и западноманычского населения отражена как во взаимопроникновении форм керамики (в ростово-луганских погребениях см., например: Парусимов, 2002, с. 71, рис. 40- Парусимов, 2004, с. 198, рис. 9), в том числе появлении миниатюрных бесшейных реповидников, так и в наличии среднедонских погребений далеко на Нижнем Дону (Лысый курган, погребение 9 (Братченко, 1976, с. 217, табл. XIV, 5), могильник возле Новочеркасской ГРЭС 5/11 и др.) и западноманычских в бассейне Медведицы (Березовский 2/1 (Кияшко, Мамонтов, 1982)). С влиянием западноманычской культуры, возможно, связано появление довольно устойчивой группы погребений с северной ориентировкой умерших в комплексах развитого этапа среднедонской культуры, и которая практически не фиксируется в донецких (в т.ч. павловско-усть-курдюмских) и ранних среднедонских памятниках. Они же, по-видимому, являлись ретрансляторами определенных центрально-кавказских реплик, которые можно связывать с поздним этапом местной средней бронзы.
Среднедонская катакомбная культура выступает преемницей донецкой в плане контактов со шнуровыми культурами лесной зоны и сменившим их постшнуровым блоком. Контакты с различными культурами лесной зоны определили характерные черты керамического комплекса ее локальных вариантов: осколо-донецкого, правобережного и левобережного. Орнаментальные сюжетные элементы, восходящие к шнуровому блоку, были опосредованы через донецкую катакомбную культуру. Катакомбным влиянием можно объяснить немногочисленные подкурганные кенотафы и погребения с постшнуровой керамикой (воронежской, вольско-лбищенской). Однако не менее важными обстоятельствами являются отсутствие сочетания в одном закрытом комплексе среднедонского и постшнурового сосудов, а также различия в сфере металлообработки (использование различных типов украшений с отсутствием их диффузии).
Ранний и развитый этапы существования среднедонской катакомбной культуры отмечены также взаимодействием с культурой волго-донской. Взаимодействие это шло по другому пути, нежели с вышеописанными образованиями. Волго-донские памятники к западу от Иловли единичны. С другой стороны, обрядовые традиции волго-донской культуры (левобочное положение умершего в сочетании с северо-восточной и восточной ориентировкой) проявляются в ряде периферийных памятников культуры среднедонской (могильники Первомайский I, VII, VIII, Пичуга (Федосов, 2006, 2006а)). В противовес этому, слабои ребристопрофилированная керамика волго-донской культуры в среднедонских комплексах отсутствует и, более того, использование елочно-гребенчатого штампа в среднедонской катакомбной культуре существенно сокращается, тогда как имеется довольно представительная серия высокошейных сосудов волго-донской культуры, отражающая черты керамической традиции Среднего Дона (Барановка I 22/1, Никольское, Кривая Лука XXII, Пичуга, Иловатка ½). Единственным примером обратного влияния может быть использование горизонтальных линий зубчатого штампа вместо оттисков шнура на ряде сосудов из погребений среднедонской катакомбной культуры иловлинского бассейна. Добавим к этому спорадическое использование валиков, а те, что есть, представлены волнистыми поясками в основании горла. Напрашивается вывод о достаточно раннем для среднедонской катакомбной культуры продвижении ее носителей в южную сухостепную часть ВолгоДонского междуречья (Федосов, 2006, 2006а, 2007), активной ассимиляции и вытеснении местного населения за Волгу. Это подтверждается наличием синхронных среднедонских и волго-донских комплексов под одной курганной насыпью (Евстратовский I курган 2). К слову сказать, среднедонские импорты в ростово-луганских и западно-манычских комплексах, а также немногочисленные погребения этой культуры к югу от основного ее ареала также имеют все признаки раннего этапа. Другими словами, гипотеза A.B. Кияшко о ее пришлом характере верна лишь отчасти (Кияшко, 2002, 2003). Волго-Донское междуречье севернее устья Иловли следует рассматривать в рамках основной территории расселения носителей этой культуры, по крайней мере, на раннем и развитом этапах ее развития (Федосов, 2005). На севере погребальные памятники распространяются дальше линии наиболее северных донецких — вплоть до юга современной Тамбовской области (Туголуковский 1/7). Граница поселений, наоборот, несколько отодвигается на юг и юго-запад.
Развитый этап среднедонской катакомбной культуры характеризуется большей пестротой основных обрядовых признаков. В керамическом комплексе происходит постепенный переход от шнуровой орнаментации к валиковой, выраженность плечиков сосуда уступает место большей биконичности. Этот этап, по видимому, маркируют костромские ножи Отдела 1 группы, А по нашей классификации (рис. 43).
Поздний этап знаменуется господством валиковой орнаментации, причем доминируют заглаженные валики и валики с насечками в отступающей технике. Более редким маркером является треугольное сечение валиков. К этому этапу, скорее всего, относится большинство сосудов с воронежскими и вольско-лбищенскими чертами в орнаментации. Появляются сосуды группы Б-У, преимущественно на среднедонском правобережье. В металлургической сфере главной новацией становятся сферические пустотелые подвески. Их уникальность косвенно свидетельствует о резком ослаблении связей с другими культурами катакомбной КИО и Кавказом. Ареал культуры начинает сокращаться за счет южных территорий. Причина этого, на мой взгляд, в конечном счете кроется в резкой аридизации климата.
Финальный этап связывается с господством прочерченной орнаментальной техники. Валиковая орнаментация сохраняется, но ее значимость в декоре уменьшается. Увеличивается доля сосудов группы Б-У. С этим этапом связана также небольшая серия сосудов типа Б-1−1-. В обрядовой сфере распад катакомбной обрядности, ранее выраженный в виде тенденции к упрощению, существенно ускоряется, что выражено в существенном преобладании ямных конструкций. Смена идеологической основы обрядности также четко иллюстрируется появлением ОГЗС («левый бок — север») на большей части территории расселения катакомбных племен1. Этот, по-видимому, весьма краткосрочный этап можно соотнести с ранним этапом днепро-донской бабинской культуры, ранними криволукскими, лолинскими, воронежскими и вольск-лбищенскими древностями, поздним этапом гинчинской культуры. В металлургической сфере поздний и финальный этапы маркируются «приталенными» костромскими ножами Отдела 2. В территориальном плане ареал культуры «съеживается» до бассейна Среднего Дона в узком смысле этого термина. В южной части Волго-Донского междуречья, в бассейне Медведицы, на Правобережье Волги распространяются памятники криволукской группы, на Нижний Дон — носители бабинских культурных традиций (рис. 63). Район современного Цимлянского водохранилища, бассейны Чира, Белой Калитвы.
1 Вдобавок, положение костяка, характерное для раннебабинских памятников, зафиксировано в Павловском I 25/4 (Синюк, Матвеев, 2007, с. 123, рис. 61,6), Больших Копенах I 2/4. становится активной контактной зоной этих культурных образований, что вполне согласуется с выводами P.A. Мимохода (Мимоход, 2005). В курганах они везде перекрывают среднедонские погребения (Линево курган 7, Павловский I курган 42, Первомайский VII курган 15, Чир II курган 3, Перекопка V, Ясеневый II курган 3, Рестумов II курган 3, Нижняя Баранниковка курган 5, Красная Заря курган 6 и др.), однако все имеющиеся случаи стратиграфии касаются комплексов с признаками раннего и развитого этапов культуры, но никак не поздних и тем более финальных. Исследованные поселения с керамикой среднедонской и бабинской культур не имеют выраженной стратиграфической колонки (Санжаров, 2004, 2005; Лапушина балка., 2009).
Выше мной уже высказывалось мнение, что определенный свет на проблему керамического комплекса криволукской культурной группы на текущий момент проливают только сосуд из погребения Жареный Бугор 3/1 (Монахов, 1984, с. 241−243, рис. 2), верхняя часть из насыпи кургана 1 могильника Рунталь (Жемков, Лопатин, 2007, с. 102, 118, рис. 4, 4 Мимоход, 2009, с. 34), сосуд из погребения Вшивый V 1/7 (рис. 56, 58). Поселения с находками валиковой керамики на Правобережье Нижней Волги в равной мере расположены в ареале среднедонской катакомбной культуры, а наличие на них венчиков высокошейных сосудов группы Б-IV (Лапшин, 2003) скорее подтверждает их катакомбную принадлежность, нежели криволукскую (рис. 59, 60). Фрагменты керамики, морфологически близкие сосуду из Жареного Бугра и с аналогичной системой орнаментации, происходят с верхних слоев эпохи средней бронзы поселений Заволжья (Юдин, 2003) (рис. 61).1 Сосуд из Вшивого V 1/7 демонстрирует черты керамической традиции позднего этапа среднедонской катакомбной культуры — вытянутые пропорции, спрямленное горло, покрытый «птичками» из ногтевых вдавлений валик, а также пережиточные черты волго-донской культурыширокое для керамики среднедонской катакомбной культуры устье, Их, похоже, и стоит ассоциировать с поселенческими памятниками криволукской культурной группы. елочно-гребенчатый" пояс на плечиках, схожий с Рунталевским образцом. Декор сосуда выполнен крайне небрежно. Что касается фрагмента придонной части с валиками из Паницкого VI 4/3 (Мимоход, 2009), то выше уже аргументировалась сомнительность его однозначной криволукской атрибуции. Сам комплекс занимает верхнюю позицию в стратиграфической колонке погребений эпохи средней бронзы кургана.
Сложно судить о том, носители какой именно культуры финала средней бронзы создали укрепления на ряде поселений волжского Правобережьяпоздней (финальной) среднедонской, вольско-лбищенской, или криволукской, однако гипотеза о кратковременном сосуществовании раннебабинских, криволукских, ранних воронежских и вольск-лбищенских и финальносреднедонских памятников нам кажется наиболее убедительной. Против нее могут быть приведены два основных возражения.
Первое — это отсутствие серьезного диапазона перекрытия имеющихся радиоуглеродных дат. Однако, выборка имеющихся дат по среднедонской катакомбной культуре очень мала и охватывает памятники развитого этапа, за исключением комплекса Паницкое VI 2/1 с чертами воронежской культуры (Мимоход, 2009).' Дата комплекса Паницкое VI 4/3 с неясной культурной атрибуцией может трактоваться как в одну, так и в другую сторону.
Второе — отсутствие в погребениях среднедонской катакомбной культуры, даже финального этапа, маркеров посткатакомбного пласта, в первую очередь костяных пряжек. Приводимые С. И. Берестневым случаи обнаружения костяных пряжек в позднекатакомбных захоронениях Северного Причерноморья и Крыма (Берестнев, 2001, с. 70) на деле соотносятся с подбойными погребениями раннего этапа бабинской культуры. На это совершенно справедливо указывает С. Н. Санжаров (Санжаров, 2003, с. 242). Одновременно он пытается вывести генезис ранних.
1 Нельзя не отметить заслугу P.A. Мимохода в получении первых радиоуглеродных дат по среднедонской катакомбной культуре и криволукской группе. бабинских пряжек с одним отверстием из костяных колец позднедонецких и позднекатакомбных памятников Северо-Восточного Приазовья, смешивая при этом различные типы колец из этих памятников.1 Круглые костяные предметы из погребений Белояровка 5/10 и 5/11 найдены за черепом умершего2, в последнем случае довольно далеко от скелета. Данных трасологического анализа предметов автор не приводит. То же замечание справедливо и в отношении колец из Берданосовки 17/4 и Другого 1/11 (Санжаров, 2003, с. 241). Ссылка на пряжку из Мокрого Волчика 3/2 аргументом не может быть в виду совершенно иной морфологии предмета. Наконец, в среднедонской катакомбной культуре костяные кольца встречаются крайне редко и, за одним исключением (Сидоры 28/1), ограничиваются ранним этапом. Костяные пряжки характерных формпримета последующей эпохи, нового идеологического фона, который не вписывался в обрядовые установки катакомбного населения, пусть даже на стадии дезинтеграции. По этой причине они не использовались в погребальном обряде.
У населения воронежской культуры и вольско-лбищенской группы курганный обряд погребения не был ведущим (Беседин, 1997, с. 67- Мимоход, 2009, с. 33), что серьезно затрудняет задачи исследователям. Наличие катакомбно-постшнуровых контактов отражено в керамическом комплексе всех указанных культур, и это признают все исследователи (Беседин, 1984; Синюк, 1996; Мимоход, 2009 и др.). Нахождение основной массы воронежских материалов на укрепленных мысовых поселениях может косвенно свидетельствовать о достаточно враждебном окружении в период продвижения постшнуровых групп на юг лесостепи. В виду отсутствия сколько-нибудь представительного пласта бабинских3 и криволукских.
О костяных кольцах в погребниях восточной периферии донецкой катакомбной культуры см соответствующем параграфе главы 2 настоящего исследования. Что показательно, женщины, в то время как костяные пряжки являются атрибутом мужских погребений. Древности раннего этапа бабинской культуры на Среднем Дону автору неизвестны. в памятников на Среднем Дону им может быть только финальнокатакомбное население.
Финальный этап существования среднедонской катакомбной культуры был краткосрочным. В Волго-Донском междуречье ее также ненадолго сменяют доно-волжские абашевские и поздние воронежские памятники на севере, поздние криволукские на юге1, в Доно-Донецком — днепро-донские бабинские второго и третьего (?)2 этапов, а затем — ранние покровские древности. Точка зрения С. И. Берестнева о синхронизации поздних среднедонских древностей и древностей новокумакского горизонта (Берестнев, 2001, с. 47), поддержанная мной ранее (Федосов, 2007, 2007а), при переносе ее на более широкий круг источников показала свою несостоятельность. В то же время однозначное утверждение об отсутствии периода сосуществования памятников финального этапа среднедонской катакомбной культуры с ранними криволукскими и бабинскими при допущении этого факта для ранних воронежских, вольско-лбищенских и доно-волжских абашевских (Мимоход, 2009, с. 33) также на данный момент требует дополнительной аргументации.
1 Существенное пополнение источниковой базы криволукских памятников в последние годы позволяет говорить о существовании собственно криволукских типов пряжек, и выстроить хронологическую колонку эволюции этой категории инвентаря (Мимоход, 2009, с. 34), сопоставленную с бабинскими аналогичными изделиями. Эта колонка должна стать базой для внутренней периодизации этого образования.
В частности, маркируется пряжкой с двумя отверстиями из бабинского комплекса Старая Калитва ОК/1 (Березуцкий, Гринев, 2008, с. 103, рис. 40, 8, 9), материалами Филатовского кургана (Синюк 1996 с 199 202,215).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Итак, в проведенном исследовании на основе выборки в 975 погребальных комплексов Доно-Донецкого и Волго-Донского междуречий с привлечением иных источников (поселенческих материалов, материалов сопредельных территорий) были рассмотрены памятники восточной периферии донецкой катакомбной культуры и среднедонской катакомбной культуры. В результате анализа особенностей погребального обряда и инвентаря с привлечением типологического метода установлено место комплексов с правобочным положением умершего с преобладанием западной и южной ориентировки (по черепу) в системе древностей развитого этапа средней бронзы Юго-Восточной Европы. Доказана неправомерность их рассмотрения в рамках волго-донской культуры и раннего этапа среднедонской катакомбной культуры. Обоснована атрибуция этой группы как отдельного культурного типа в рамках донецкой катакомбной культуры, уточнены ее ареал распространения (Левобережье Нижнего Дона, Доно-Донецкое междуречье, северная часть Волго-Донского междуречья), хронологические рамки (финал успенского — привольненский этапы кавказской металлообработки), охарактеризованы локальные особенности (Правобережный и Левобережный варианты).
В Доно-Донецком и Волго-Донском регионах донецкую культуру сменяет среднедонская катакомбная культура. В работе раскрывается вопрос ее генезиса как следствие нескольких волн миграции носителей донецкой культуры в фазе ее дезинтеграции. Вклад автохтонного населения, носителей шнуровых культурных традиций в формирование среднедонской катакомбной культуры был неоднородным и не носил определяющего характера, хотя и отразился в особенностях керамики ее локальных вариантов. Взаимодействие с западно-манычской, волго-донской культурами и ростово-луганской группой осуществлялось на той стадии, когда ключевые признаки среднедонской катакомбной культуры уже сформировались, хотя оно также выразилось в определенном локальном своеобразии ее периферийных памятников. Также охарактеризованы наиболее ранние памятники среднедонской, сформулированы критерии раннего этапа, его маркеры и место в хронологической таблице катакомбных древностей. В отношении развитого и позднего этапов обосновано культурное единство памятников Волго-Донского и Доно-Донецкого (включая осколо-донецкие) регионов.
Были уточнены восточные и юго-восточные границы распространения среднедонской катакомбной культуры. Можно с уверенностью рассматривать большую часть Волго-Донского междуречья как часть ее основного ареала (с незначительной корректировкой это точка зрения Ю. П. Матвеева, а не Г. В. Подгаецкого, Т. Б. Поповой, П. Д. Либерова, А. Т. Синюка (см. Березуцкая, 2003)), а саму культуру как автохтонную для территории вплоть до устья Карамыша и верховьев Иловли на северо-востоке, Иловли на востоке и ее устья на юге. Южная «узкая» часть ВолгоДонского междуречья и междуречье Иловли и Волги, т. е. граничащие с сухой степью районы, являлись «буферной» зоной, зоной контактов с сопредельными образованиями. Впоследствии эта территория также была занята носителями среднедонской катакомбной культуры на развитом этапе ее развития. На позднем этапе ее сменяют памятники криволукской группы (Федосов, 2007а).
Наконец, определена относительная хронологическая позиция среднедонской катакомбной культуры в рамках эпохи средней бронзы, и скорректирована ее внутренняя периодизация. Последнее в первую очередь касается выделения критериев раннего этапа культуры и его соотношения с донецкими и постдонецкими древностями. В целом подтверждается финальнокатакомбный характер культуры. Более того, ее финальные памятники, на наш взгляд, синхронизируются с культурами посткатакомбного блока Днепро-Донецкого и Нижневолжско-Прикаспийского регионов, а также с постшнуровыми образованиями лесостепи.
Список литературы
- Алейников B.B. Отчет об исследовании курганного могильника «Ясеневый П"в Тарасовском районе Ростовской области в 2006 году // Архив РОМК.
- Березуцкий В.Д. Отчет об охранных раскопках курганов в Воронежской области в 2003 г. // Архив ВГПУ.
- Березуцкий В.Д. Отчет об охранных раскопках курганов в Воронежской области в 2007 г. // Архив ВГПУ.
- Гармашов А.И. Отчет об исследовании частично разрушенного кургана могильника „Заречный-I“ в с. Кашары Кашарского района Ростовской области в 2001 г. // Архив РОМК.
- Дьяченко А.Н. Отчет об исследованиях курганного могильника Орешкин-1−89 в Михайловском районе Волгоградской области в 1989 г. // ВОКМ, Фонды № 67, 67а, 676.
- Дьяченко А.Н. Отчет о раскопках курганных могильников в Нехаевском районе Волгоградской области в 1991 г. // ВОКМ, Фонды № Ю9, 109а.
- Дьяченко А.Н. Отчет об археологических исследованиях в Волгоградском Задонье (Иловлинский район) в 1993 г. // ВОКМ, Фонды № 98, 98а.
- Ю.Ефимов Ю. К. Отчет об археологических раскопках курганов близ с. Прилепы в зоне строительства оросительной системы на землях клх. „Рассвет“ Репьевского района Воронежской области в 1987 г. // Архив АМВУ. Р.-1, 92.
- П.Ефимов К. Ю. Отчет об охранных раскопках кургана близ с. Прилепы Репьевского района Воронежской области в 1988 г. // Архив АМВУ. Р.-1, 93.
- Ефимов К.Ю. Отчет об охранных исследованиях курганов на территории Воронежской области в 1991 г. // Архив АМВУ. Р.-1, 168.
- Железчиков Б.Ф. Отчет о раскопках курганов в Суровикинском районе Волгоградской области // Архив ВОКМ, № 184.
- Ильюков JI.C. Исследование курганного могильника Нижнедонские Частые курганы в Белокалитвенском районе Ростовской области в 2004 г.1. Архив РОМК.
- Клепиков В.М. Отчет об археологических раскопках в зоне строительства II очереди Фроловской оросительной системы у х. Ветютнев Фроловского района Волгоградской области. // ВОКМ, Фонды № 110, 110а, 1106.
- Клепиков В.М. Отчет о проведении археологических исследований курганного могильника „Зензеватка-I“ у с. Зензеватка Ольховского района Волгоградской области в 2008 г. // ВОКМ, Фонды №
- Кузьмин В.Н. Отчет об аварийно-спасательных раскопках курганных могильников „Малая Каменка VI“, Рестумов I», «Рестумов II» и «Малая Каменка IX» в Каменском районе Ростовской области в 2001 г. // Архив РОМК.
- Лисицын И.П. Отчет об археологических работах Городищенского отряда летом 1973 г. // ВОКМ, Фонды № 124, 124а.
- Лисицын И.П. Отчет об археологических работах Городищенского отряда летом 1974 г. // ВОКМ, Фонды № 124, 124а.
- Мамонтов В. И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и
- Волгоградского музея краеведения. Сезон 1970 г. // ВОКМ, Фонды № 29, 29а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда Волго-Донской экспедиции ЛОИА АН СССР в Кумылженском, Ленинском и Средне-Ахтубинском районах Волгоградской области. Сезон 1971 г. // ВОКМ, Фонды № 30, 30а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда Волго-Донской экспедиции ЛОИА АН СССР в Михайловском, Калачевском и Кумылженском районах Волгоградской области. Сезон 1972 г. // ВОКМ, Фонды № 31, 31а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР, Волгоградского областного отделения ВООПИК и археологического отряда ВГПИ в Волгоградской области в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1.7755, 7755а, 77 556.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР, Волгоградского областного отделения ВООПИК, ВОКМ и археологического отряда ВГПИ в 1980 г. // ВОКМ, Фонды № 40, 40а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР, Волгоградского областного управления культуры, областного музея краеведения и Донской экспедиции на территории Волгоградской области в 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9025, 9025а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской лаборатории НИС ВГПИ в 1985 г. // ВОКМ, Фонды № 47, 47а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской экспедиции ВГПИ за 1986 г. // ВОКМ, Фонды № 50, 50а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской экспедиции НИС ВГПИ в Калачевском и Октябрьском районах Волгоградской области в 1987 г.//Архив ИА РАН. Р-1.№ 11 944, 11 944а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР в Волгоградской области в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14 313, 14 314.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской экспедиции НИС ВГПИ на территории Волгоградской области в1990 г.// Архив ИА РАН. Р-1.№ 15 035, 150 356.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Приволжского отряда ЛОИА АН СССР и Донской экспедиции НИС ВГПИ на территории Волгоградской области в1991 г. //Архив ИА РАН. Р-1. № 16 736, 16 736а.
- Мамонтов В.И. Отчёт о работе Донской археологической лаборатории НИС ВГПУ в Волгоградской области в 2002 г. // ВОКМ, Фонды № 177, 177а.
- Мамонтов В.И. Отчёт о работе Донской археологической лаборатории НИС ВГПУ в Волгоградской области в 2003 г. // ВОКМ, Фонды № 201, 201а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Донской экспедиции археологической лаборатории НИС ВГПУ в Волгоградской области в 2004 г. // ВОКМ, Фонды № 202, 202а.
- Мамонтов В.И. Отчет о работе Донской экспедиции НИС ВГПУ в Волгоградской области в 2006 г. // ВОКМ, Фонды №
- Матвеев Ю.П. Отчет о раскопках могильника «Частые Курганы» // Архив МАВУ. Р.-1,40.
- Матюхин А.Д. Отчет об археологических раскопках у с. Большие Копены Лысогорского района Саратовской области в 2003 г. // Личный архив автора раскопок.
- Мыськов Е.П. Отчет о работе Волго-Ахтубинского отряда археологической экспедиции ВГПИ в Суровикинском и Котельниковском районах Волгоградской области в 1987 г. // ВОКМ, 1. Фонды № 54, 54а.
- Мыськов Е.П. Отчет о работе Волго-Ахтубинской экспедиции ВГПУ в 1994 г. // ВОКМ, Фонды № 128, 128а.
- Мыськов Е.П. Отчет об археологических исследованиях, проведенных Волго-Ахтубинской археологической экспедицией ВГПУ в Клетском районе Волгоградской области в 2007 г. // Архив лаборатории истории материальной культуры ВГПУ.
- Прохорова Т.А. Отчет о раскопках курганов на северной окраине х. Головка Белокалитвенского района Ростовской области в 1999 г. // Архив РОМК.
- Ростунов В.Л. Отчет об археологической экспедиции у ст. Павлодольской Моздокского района СОАССР // Архив археологического музея СОГУ им. К. Х. Хетагурова.
- Сергацков И.В. Отчёт об археологических исследованиях в районе с. Барановка Камышинского района в 1982 1987 гг. // ВОКМ, Фонды № 72, 72а.
- Сергацков И.В. Отчёт об археологических исследованиях Иловлинского отряда археологической экспедиции ВолГУ в Камышинском районе Волгоградской области в 1988 г. // ВОКМ, Фонды № 59, 59а.
- Сергацков И.В. Отчёт об археологических исследованиях Иловлинского отряда в Волгоградской области в 1990 г. // ВОКМ, Фонды № 76, 76а.
- Сергацков И.В. Отчёт о раскопках Иловлинской археологической экспедиции ВолГУ в 1991 г. // ВОКМ, Фонды № 81, 81а.
- Сергацков И.В. Отчёт о раскопках Иловлинской археологической экспедиции ВолГУ в 1992 г.// ВОКМ, Фонды № 83, 83а.
- Сергацков И.В. Отчет об охранных археологических работах в зонестроительства магистрального газопровода Починки Изобильное на участке Жирновской компрессорной станции. // ВОКМ, Фонды № 181, 181а.
- Сергацков И.В. Отчёт о раскопках курганного могильника Ольховка I на трассе строительства магистрального газопровода Починки Изобильное в 2003 г. // ВОКМ, Фонды № 197, 197а.
- Сергацков И.В. Отчет о раскопках курганов в зоне строительства ЛЭП 500 Кв у села Перекопка Клетского района Волгоградской области в 2007 г. // ВОКМ, Фонды № 248.
- Скворцов Н.Б. Отчет об археологических разведках в Николаевском районе Волгоградской области и археологических раскопках у с. Амелино Фроловского района Волгоградской области в 1993 г. // Архив ИАРАН.-Р-1. № 17 840.
- Скворцов Н.Б. Отчет об охранных археологических раскопках в Чернышковском районе Волгоградской области курганного могильника «Попов -1″ в 2005 году. // ВОКМ, Фонды № 214.
- Скрипкин A.C. Отчет об археологических исследованиях археологической экспедиции ВГПИ за 1969 г. // ВОКМ, Фонды № 125, 125а.
- Четвериков С.А. Отчет об археологических раскопках курганного могильника Рыбушка Саратовского района Саратовской области в 1989 г. (по открытому листу № 841) // Архив ИА РАН. Р-1. №. 13 716.
- Четвериков С.А. Отчет об археологических раскопках курганного могильника Рыбушка Саратовского района Саратовской области в 1990 г.по открытому листу № 841) // Архив ИА РАН. Р-1. № 14 900.
- Шендаков Г. Н. Отчет об археологической разведке в Камышинском районе Волгоградской области за 1966 г. //ВОКМ, Фонды № 107.
- Шендаков Г. Н. Отчет об археологической разведке в Камышинском районе Волгоградской области за 1967 г. //ВОКМ, Фонды № 97.
- Шендаков Г. Н. Отчет об археологической разведке в Камышинском районе Волгоградской области за 1969 70 гг. // ВОКМ, Фонды № 95.
- Аринчина Т.Ю. Культовая керамика среднедонской катакомбной культуры // Исследования памятников археологии Восточной Европы. -Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1988. с. 74−88.
- Баринов Д.Г. Новые погребения эпохи средней бронзы в Саратовском Заволжье // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 г. Саратов: Дирекция охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры, 1996. — с. .
- Белановская Т.Д. Костяная булавка из погребения у ст. Раздорская // АСГЭ. Вып. XXI.-Л., 1961. с.
- Беседин В.И. Воронежская культура эпохи бронзы // Эпоха бронзы Восточно-Европейской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронежского унта, 1984. — с. 60−77.
- Беседин В.И., Матвеев Ю. П. Стратифицированное погребение репинской культуры Подгоренского могильника // Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. Воронеж, 2003. — с. 134−141.
- Березуцкая Т.Ю. Катакомбное погребение мастера-изготовителя стрел // Археология Доно-Волжского бассейна. Воронеж: Изд-во Воронежского пединститута, 1993. — с. 47−52.
- Березуцкая Т.Ю. Катакомбные погребения кургана № 1 Песковского могильника // Археологические исследования высшей педагогической школы.-Воронеж: Изд-во ВГПУ, 1996.-е. 107−118.
- Березуцкая Т.Ю. Погребения эпохи бронзы из Новочигольского кургана // Проблемы археологии бассейна Дона. Воронеж, 1999. с. 106−112.
- Березуцкая Т.Ю. Среднедонская катакомбная культура и её локальные варианты (по материалам погребальных памятников). Воронеж, 2003.
- Березуцкая Т.Ю., Березуцкий В. Д. Архиповские курганы // АПВЕ. -Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2002. с. 59−76.
- Березуцкий В.Д., Гринев А. М. Россошанские курганы. Воронеж: ООО1. Пресса ИПФ», 2008 174 с.
- Березуцкий В.Д., Кравец В. В., Новиков Н. Л. Древности Богучарского края. Воронеж: Воронежский государственный педагогическийуниверситет, 2005 130 с.
- Березуцкий В.Д., Маслихова Л. И. Зареченские курганы // Археологические памятники бассейна Дона. Воронеж, 2004.
- Березуцкий В.Д., Маслихова Л. И. Новые данные к изучению Первого Власовского могильника // АПВЕ. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2005. — с. 108−141.
- Березуцкий В.Д., Маслихова Л. И. Курган 13 у с. Ближнее Стояново на Среднем Дону // АПВЕ. Выпуск 13. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2009. — с. 111−122.
- Берестнев С.И. Новоплатоновский курганный могильник на р. Оскол // Древности. Харьков, 1995. — с. 134−155.
- Берестнев С.И. О роли собаки в религиозно-мифологических представлениях древних индоевропейских племен // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины: Тезисы докладов. Харьков: Изд-во Харьковского национального ун-та, 1999. -с. 41−49.
- Берестнев С.И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы. Харьков: ПФ «Амет», 2001. — 264 с.
- Беседин В.И. Воронежская кульутра эпохи бронзы // Эпоха бронзы Восточноевропейской лестостепи: Межвузовский сборник научных трудов Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1984. — с. 60−77.
- Беседин В.И. Воронежская кульутра эпохи бронзы: выделение и проблемы исследования // ABEJI. Выпуск 10. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1997. — с. 63−69.
- Бессуднов А.Н., Ивашов М. В. Материалы бронзового века поселения Студеновка III на Верхнем Дону // АПВЕ. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2002. — с. 34−41.
- Бианки A.M. Этюд о «кинжалах» // Археологическая типология. Л., 1991.
- Борисов A.B., Демкин В. А., Ельцов М. В. Палеопочвенные исследования курганных могильников Ольховка I в Волгоградской области // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Выпуск 3. -Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2006. с.
- Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова Думка, 1976. — 251 с.
- Братченко С.Н. Донецька катакомбна культура ранньогу етапу. -Луганск: Шлях, 2001.- 196 с.
- Братченко С.Н. Могили бронзово1 доби в басейш р. Деркул // Материали та дослщження з археологи СхщноТ Укра’ши. Выпуск 1. -Луганск: Вид-во СНУ ¡-меш Володимира Даля, 2003. с. 162−225.
- Братченко С.Н. Прадавня Слобожанщина: сватсвсыа могили кургани III тис. до н.е. та майдани // Материали та дослщження з археологи СхщноТ Укра’ши. Выпуск 2. — Луганск: Вид-во СНУ 1меш Володимира Даля, 2004. — с. 65−190.
- Братченко С.Н. Ливенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века // Материали та дослщження з археологи СхщноТ УкраТни. Выпуск 6. Луганск: Вид-во СНУ 1меш Володимира Даля, 2006. — с. 32−310.
- Братченко С.Н. Катакомбне «бароко» з овами та петлям1 в систем! орнаментащ'1 // Материали та дослщження з археологи СхщноУ Укра’ши. Выпуск 7. Луганск: Вид-во СНУ iMem Володимира Даля, 2007. — с. 103−109.
- Братченко С.Н. Олексащцлвсью могили-кургани в долиш Лугаш // Материали та дослщження з археологп' СхщноТ Укра’ши. Выпуск 8. -Луганск: Вид-во СНУ IMem Володимира Даля, 2008. с. 134−217.
- Братченко С.Н., Швецов М. Л. Северскодонецкие катакомбные погребения на р. Красная // Катакомбные культуры Северного Причерноморья. Источники. Проблемы. Исследования. Киев: НПО «Археолог», 1991. — с. 165−187.
- Братченко С.Н., Санжаров С. Н. Рщюсш бронзов1 знаряддя з катакомб Оверськодонеччини та Донщини (III тис. до н.е.). Луганск: Вид-во СНУ IMem Володимира Даля, 2001. — 108 с.
- Бритюк A.A. Некоторые результаты анализа утилизации ямных и катакомбных бронзовых ножей // Древние культуры Восточной Украины. Луганск: Изд-во Восточноукраинского гос. ун-та, 1996. — с. 170−177.
- Бунятян К.П. Хроноолопя та перюдизащя поховань середьодшпровськоТ культури ПравобережноТ Укра’ши // Археолопя. -2005. № 4.-с. 26−36.
- Бунятян К.П. Захщш М1гранти в Середнш Наддншрянщиш бл1зько середини 3 тис. Cal ВС // http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/Mtdza /2007.7/buniatian l.pdf.
- Васильев И.Б., Кузнецов П. Ф. Памятники вольско-лбищенского типа // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. -Самара, 2000. с. 65−84.
- Власкин Н.М. Сравнительная характеристика катакомбных культур манычского типа эпохи средней бронзы: дис.. канд. ист. наук. СПб., 2010.
- Гаджиев М.Г. Из истории Дагестана в эпоху средней бронзы (могильник Гинчи). Махачкала, 1969.
- Гак Е. И. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северного Донца: автореф. дис.. канд. ист. наук. -М., 2005. 28 с.
- Гак Е. И. Общее и особенное в металлопроизводстве катакомбных культур Подонцовья, Нижнего По донья и Предкавказья // Материал и та дослщження з археолога Схщно!' УкраТни. Выпуск 7. Луганск: Вид-во СНУ iM. В. Даля, 2007. — с. 93−103.
- Гак Е.И., Мимоход P.A. Металлокомплекс памятников посткатакомбного горизонта Предкавказья // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2007.
- Гей А.Н. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы // Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. -М., 1999.
- Гей А.Н. К интерпретации одной из разновидностей катакомбных могил эпохи бронзы // Пятая Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2009. — с. 68−71.
- Городцов В.А. Материалы археологических исследований на берегах р. Донца Изюмского уезда Харьковской губернии // Труды XII АС. М., 1905.-Т. 1,-с. 226−340.
- Дворниченко В.В., Малиновская Н. В., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки курганов в урочище Кривая Лука в 1973 г. // Древности Астраханского края. М., 1977.
- Дремов И.И. Грунтовые могильники эпохи средней бронзы у с. Белогорское // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 г. Саратов: Дирекция охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры, 1996. -с. 98−119.
- Дьяченко А.Н. Раннекатакомбные памятники правобережья Медведицы // Древности Волго-Донских степей. Выпуск 2. Волгоград. — с. 79−90.
- Дьяченко А.Н. Памятники катакомбной культуры на Медведице // Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье. Выпуск 2. Волгоград, 1997. — с. 4−59.
- Евдокимов Г. Л. Погребения ранней и средней бронзы Астаховского могильника // Катакомбные культуры Северного Причерноморья. Источники. Проблемы. Исследования. Киев: НПО «Археолог», 1991. -с. 187−214.
- Егоров В.Г. Классификация курильниц катакомбной культуры // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 1970. — с. 156−179.
- Ивашов М.В., Мельников E.H. Материалы эпохи средней-поздней бронзы Балахнинского поселения на Верхнем Дону // Археологические памятники бассейна Дона. Воронеж, 2004.
- Иессен A.A. К хронологии «Больших кубанских курганов» // CA 1950- Вып. XII.
- Ильюков JI.C. Каменные навершия булав эпохи средней бронзы из Нижнего По донья // Чтения, посвященные 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ. Часть 1.-М., 2003.-с. 112−113.
- Карагодин М.И. Новые находки бронзового века в Шелаево // CA 1977- № 2. с. 229−232.
- Качалова Н.К. О локальных различиях полтавкинской культурно-историческои общности // АСГЭ 1983 — № 2.
- Качалова Н.К. Ильменские курганы // АСГЭ 1970 — № 12. — С. 7−34.
- Кияшко A.B. Ранний этап катакомбной культуры на Нижнем Дону: автореф. дис.. канд. ист. наук-Л., 1990.
- Кияшко A.B. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья.- Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1999.- 182 с.
- Кияшко. A.B. О восточных пределах распространения раннекатакомбного обряда на территории Волго-Донского междуречья // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Выпуск 1. -Волгоград, 2001.-с. 93−109.
- Кияшко A.B. Культурогенез на востоке катакомбного мира. -Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2002. 268 с.
- Кияшко A.B. О восточных культурных элементах в катакомбное время на Нижнем Дону // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2001 г. Выпуск 18. Азов: Изд-во Азовского музея заповедника, 2002. — с. 242−261.
- Кияшко A.B. Погребения пришлых культур развитой и финальной средней бронзы в курганах Волго-Донского междуречья // HAB. Выпуск 6. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — с. 26−37.
- Кияшко A.B., Мамонтов В.И. Погребение катакомбной культуры
- Березовского курганного могильника // СА 1982 — № 4.
- Клейн Л.С. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры // Вестник Ленинградского университета 1962 — № 2. — с. 74−87.
- Клейн Л.С. Катакомбные памятники эпохи бронзы и проблемы выделения археологических культур // СА 1962а — № 2. — с. 26−38.
- Клейн Л.С. Происхождение донецкой катакомбной культуры: автореф. дис.. канд. ист. наук. Л., 1968.
- Клименко В.Ф. Курганные древности Северского Донца. Енакиево: АПП, 1997.-320 с.
- Клочко В.1., Ричков М. О. Нов1 поховання катакомбноГ культури в Середьому Подншров’Т // Археолопя. 1989. — № 3. — с. 60−65.
- Кореневский С.Н. О металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур // С, А 1978 — № 2. — с. 33−48.
- Кореневский С.Н. Новые данные по металлообработке докобанского периода в Кабардино-Балкарии // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972−79 гг. Т.1. Нальчик: Эльбрус, 1984.
- Котельников В.Л. Южная полоса Европейской части СССР. М., 1963.
- Крайнов Д.А. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. М., 1976.
- Кузьмина О.В. Металлические изделия и вопросы относительной хронологии абашевской культуры // Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). СПб., 2000. — с. 65−134.
- Лапшин A.C. К вопросу о городищах средней бронзы Нижнего Поволжья // HAB. Выпуск 6. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — с. 254 263.
- Лапушина Балка // Освещая прошлое. Ростов-н.-Д.: НП «Южархеология», 2009. — С. 66−67.
- Либеров П.Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы. М., 1964.
- Либеров П.Д. Древняя история населения Подонья: автореф. дис.. докт. ист. наук. М., 1971.
- Литвиненко P.A. О появлении КМК в бассейне Нижнего Дона // Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии. Саратов, 2000.
- Литвиненко P.A. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и проблемы бронзового века бассейна Дона // АПВЕ. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2002. — с. 76−85.
- Лопатин А.П. Успенский клад эпохи средней бронзы // Первые чтения по археологии Средней Кубани. Армавир, 1993. — С. 9−12.
- Лопатин В.А., Якубовский Г. Л. Погребения эпохи средней бронзы из курганов у села Усть-Курдюм // Археологические вести. Выпуск 1. -Саратов, 1993. с. 137−158.
- Магомедов Р.Г. Гинчинская культура. Горы Дагестана и Чечни в эпоху средней бронзы. Махачкала, 1998.
- Малов Н.М., Филипченко В. В. Памятники катакомбной культуры Нижнего Поволжья // Археологические вести. Выпуск 4. С.-Пб.: Штабс-Капитанъ, 1995. — С.52−62.
- Мамонтов В.И. Погребения эпохи бронзы Глазуновского курганного могильника// СА- 1981 № 1. — С. 279−281.
- Мамонтов В.И. Материалы курганного могильника у озера Подгорное // Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье. Выпуск 3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1999. — С. 46−90.
- Мамонтов В.И. Древнее население Левобережья Дона (по материалам курганного могильника Первомайский VII). Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2000. — 194 с.
- Мамонтов В.И. Курганный могильник Первомайский VIII // НАВ. Выпуск 4. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2001. — С. 179−196.
- Мамонтов В.И. Курганный могильник Красновский II // АВЕЛ. Выпуск 19. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. -С. 160−169.
- Марковин В.И. Северо-Восточный Кавказ в эпоху бронзы // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М.: Наука, 1994.-с. 287−333.
- Маслихова Л.И. Состав и соотношение ритуальной керамики погребений среднедонской катакомбной культуры // АВЕЛ. Выпуск 19. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. — С. 103 108.
- Маслихова Л.И. Керамика погребений среднедонской катакомбной культуры как исторический источник: автореф. дис.. канд. ист. наук. -М., 2006.-20 с.
- Матвеев Ю. Г1. Позднекатакомбные погребения в кургане у пос. Ольховатка // АВЕЛ. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1979. — С. 98−103.
- Матвеев Ю.П. История населения среднедонской катакомбной культуры: автореф. дис.. канд. ист. наук. М., 1982. — 24 с.
- Матвеев Ю.П. О происхождении среднедонской катакомбной культуры // Археологические памятники эпохи бронзы восточноевропейской лесостепи. Воронеж, 1986.
- Матвеев Ю.П. К проблеме взаимосвязи донецкой и среднедонской катакомбной культур // Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона. Материалы украинско-российского археологического семинара. -Луганск, 1995.
- Матвеев Ю.П. Катакомбно-абашевское взаимодействие и формирование срубной общности // Доно-Донецкий регион в эпоху средней и поздней бронзы. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1998.1. С. 8−22.
- Матвеев Ю.П. Среднедонская катакомбная культура в свите культур среднебронзового века // ABEJ1. Вып. 19. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. — С. 94−102.
- Матвеев Ю.П., Синюк А. Т. Новые материалы к изучению бронзового века на Нижнем Дону // CA 1977. — № 1. — С. 139−148.
- Матвеев Ю.П., Медведев А. П. Курганы у с. Караяшник на территории Воронежской области // ABEJT. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1979.-С. 124−144.
- Ш. Матвеев Ю. П., Маслихова Л. И. Курганная группа «Таганка» // Археологические памятники бассейна Дона. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2004. — С. 83−97.
- Матвеев Ю.П., Тихонов Б. Г. Исследование могильника у с. Караяшник // Эпоха бронзы Восточноевропейской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1984. — С. 75−93.
- Матвеев Ю.П., Цыбин М. В. Археологические памятники Донского бассейна. Вып. 6. Таганский грунтовой могильник. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. — 78 с.
- Матюхин А.Д. Исследования курганов у с. Большая Дмитриевка // Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1992. — С. 49−52.
- Мельник В.И. Степное Поволжье в эпоху средней бронзы: автореф. дис.. канд. ист. наук. -М., 1985. -20 с.
- Мельник В.И. Восточная периферия катакомбной общности // Археология Восточно-Европейской степи. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. — С. 131−132.
- Мельник В.И. Особые виды погребений катакомбной общности. М.: Наука, 1991.- 136 с.
- Мимоход P.A. Блок посткатакомбных культурных образований (к постановке проблемы) // Материали та дослщження з археологй' СхщноТ
- Укра’ши. Т. З. Луганск: Вид-во СНУ, 2005. — С. 70−74.
- Мимоход P.A. Лолинская культура финала средней бронзы Северозападного Прикаспия // РА 2007. — № 4. — С. 143−154.
- Мимоход P.A. Курганы эпохи бронзы раннего железного века в Саратовском Поволжье. Материалы охранных археологических исследований. Т. 10. — М.: Таус, 2009. — 292 с.
- Монахов С.Ю. Погребение культуры многоваликовой керамики близ Саратова // CA 1984. — № 1. — С. 241−244.
- Мыськов Е.П., Кияшко A.B., Лапшин A.C. Исследование курганов в бассейне р. Медведицы // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2006. — С. 81−105.
- Нечитайло А.Л. Об одном из горно-металлургических центров катакомбной культурно-исторической общности // АВЕЛ. Вып. 19. -Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. С. 74−94.
- Назаров A.A. Археологические исследования кургана Майоровский-98 в Суровикинском районе // HAB. Вып. 5. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2002. — С. 359−372.
- Николаев Г. А. Классификация катакомбных могил эпохи бронзы Северного Кавказа и Предкавказья // Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе: Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 1981. — С. 26−34.
- Парусимов И.Н. Труды Новочеркасской археологической экспедиции. -Ростов-на-Дону: Парусимов И. Н., 2002. 105 с.
- Парусимов И.Н. Раскопки курганов могильника Поляков // Археологические записки. Вып. 4. Ростов-на-Дону: Донское археологическое общество, 2004. — С. 185−210.
- Петренко E.H. Исследования курганов энеолита-бронзы в бассейнер. Оскол // Археологические исследования в Центральном Черноземье в 12 пятилетке (ТД). Белгород, 1990.
- Погорелов В.И. Раскопки курганов на юге Воронежской области // Археологические памятники на Европейской территории СССР. -Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1985. С. 75−93.
- Погорелов В.И. Ширяевский могильник бронзового века на Среднем Дону// СА 1985. -№ 1. -С. 151−158.
- Погорелов В.И. Погребения катакомбного типа II Павловского могильника // Исследование памятников археологии Восточной Европы.- Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1988. С. 88−97.
- Погорелов В.И. Ямно-катакомбные погребения Среднего Дона //СА -1989. № 2-С. 108−126.
- Погорелов В.И. Петропавловский грунтовый могильник эпохи бронзы на р. Толучеевке // Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. Воронеж: Воронежский государственный педагогический институт, 1989. — С. 97−107.
- Погорелов В.И. Стояновский курганный могильник эпохи бронзы // РА- 1996. -№ 1, — С. 145−158.
- Полидович Ю.Б. Новые погребальные памятники эпохи бронзы с территории Донецкой области // Археологический альманах. -Донецк, 1993. № 2. — С. 35−99.
- Прокофьев Р.В. Раскопки двух курганов эпохи бронзы в Чертковском районе Ростовской области // Археологические записки. Вып. 2. -Ростов-на-Дону: Донское археологическое общество, 2002. С. 109−133.
- Пряхин А.Д. История населения Верхнего и Среднего Дона во II -начале I тыс. до н.э.: дис.. канд. ист. наук. Воронеж, 1967.
- Пряхин А. Д. Поселения катакомбного времени в лесостепном Подонье.- Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982. 159 с.
- Пряхин А. Д., Матвеев Ю. П., Беседин В. И. Среднедонская катакомбная культура: происхождение, этапы развития. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1991. — 19 с.
- Пряхин А.Д., Матвеев Ю. П. Курганы эпохи бронзы Побитюжья. -Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1988. 209 с.
- Пряхин А. Д., Синюк А. Т. Курган эпохи бронзы у пос. Хохольский // С, А -1983. -№ 3. С. 197−202.
- Рогудеев В.В. Исследование могильника Маленький I в Тарасовском районе // Труды Археологического научно-исследовательского бюро. Том III. Ростов-на-Дону: Археологическое научно-исследовательское бюро, 2008.-С. 130−181.
- Рогудеев В.В. Исследования курганов в Боковском и Сальском районах Ростовской области // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2008—2009 гг. Вып. 24. Азов: Изд-во Азовского музея заповедника, 2010. — С. 79−84.
- Рысин М.Б. Связи Кавказа с Волго-Уральским регионом в эпоху бронзы (проблемы периодизации и хронологии) // Археологические вести. Вып. 14.-СПб., 2007.-С. 184−220.
- Санжаров С.Н. Погребения донецкой катакомбной культуры с игральными костями // С, А 1988. — № 1. — С. 140−158.
- Санжаров С.Н. Катакомбные культуры Северо-Восточного Приазовья. -Луганск: Вид-во СНУ, 2001.- 172 с.
- Санжаров С.Н. К вопросу о генезисе круглых пряжек эпохи бронзы // Материали та дослщження з археолопТ СхщноТ Укра’ши. Вып. 1.
- Луганск: Вид-во СНУ им. В. Даля, 2003. С. 238−246.
- Санжаров С.Н. Кайдагцинский комплекс поселений рубежа средней-поздней бронзы в системе древностей Северского Донца. Луганск: Вид-во СНУ им. В. Даля, 2004. — 143 с.
- Санжаров С.Н. Финальнокатакомбная керамика Проказинского поселения // Проблеми дослщження пам’яток археологи Схщно!' Украши. Луганск: Вид-во СНУ им. В. Даля, 2005. — С. 68−70.
- Санжаров С.Н. Схщна Украша на рубеж1 середньо1 шзнюй бронзи: автореф. дис.. докт. ист. наук. — Киев, 2007. — 33 с.
- Санжаров С.Н. Стрелочные наборы инструментов и сырья из катакомбных погребений Украины. Луганск: Вид-во СНУ им. В. Даля, 2008. — 88 с.
- Санжаров С.Н., Черных Е. Л. Кременские курганы на р. Красная в Подонцовье // Материали та дослщження з археологи Сх1дно'1 Украши. Выпуск 4. Луганск: Вид-во СНУ им. В. Даля, 2005. — С. 170−198.
- Сафронов В.А. Катакомбные памятники предгорной зоны Северной Осетии // Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе: Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 1981.-С. 51−77.
- Свешников И.К. Культура шаровидных амфор. М.: Наука, 1983. — 86 с.
- Сергацков И.В. Погребения эпохи бронзы могильника Барановка I в Нижнем Поволжье // Материалы по эпохе бронзы и раннего железного века Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Уфа: ИИЯЛ БНЦ АН СССР, 1989.
- Сергацков И.В. Погребения эпохи бронзы могильника Барановка I (раскопки 1987−88 гг.) // Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. -Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1992.-С. 97−105.
- Сергацков И.В. Памятники эпохи средней бронзы на р. Иловле (раскопки 1989−1992 гг.) // Историко-археологические исследования в
- Нижнем Поволжье. Выпуск 3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1999. — С. 5−31.
- Сергацков И.В., Скрипкин A.C., Клепиков В. М., Дьяченко А. Н. Курганы у поселка Линево // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Выпуск 3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2006. — С. 37−81.
- Сергацков И.В., Скрипкин A.C., Коробкова Е. А., Яворская Л. В. Курганный могильник Ольховка I // Материалы по археологии ВолгоДонских степей. Выпуск 3. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2006. — С. 223−258.
- Синицын И.В., Эрдниев У. Э. Археологические раскопки в Калмыцкой АССР в 1961 г. // Труды КРКМ. Вып. 1. Элиста: Калмгосиздат, 1963.-60 с.
- Синицын И.В., Эрдниев У. Э. Новые археологические памятники на территории Калмыцкой АССР (по раскопкам 1962−63 гг.) // Труды КНИИЯЛИ и КРКМ. Выпуск 2. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1966.- 183 с.
- Синицын И.В. Древние курганы Восточного Маныча. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978. — 132 с.
- Синюк А.Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона (Павловский могильник). Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1983. — 192 с.
- Синюк А.Т. Погребения ямной и катакомбной культур Первого Власовского могильника // Проблемы археологического изучения доно-волжской степи. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 1989. — С. 27−69.
- Синюк А.Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Изд-во Воронежского педуниверситета, 1996. — 350 с.
- Синюк А.Т. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону // Проблемы археологии бассейна Дона. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 1999. — С. 56−72.
- Синюк А.Т. Погребения эпохи бронзы Новохарьковского могильника // Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды. Воронеж: Изд-во ВГУ-МИОН, 2002а. — С. 182−189.
- Синюк А.Т., Березуцкий В. Д. Погребения эпохи бронзы Второго и Третьего Власовских могильников // Археологические исследования высшей педагогической школы. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 1996. -С. 89−107.
- Синюк А.Т., Матвеев Ю. П. Курганные комплексы среднедонской катакомбной культуры. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2007. — 221 с.
- Синюк А.Т., Погорелов В. И., 1985. Пасековский курганный могильник эпохи бронзы на Среднем Дону // СА 1985. — № 3. — С. 124−135.
- Смирнов A.M. Катакомбные культуры в бассейне Северского Донца: автореф. дис.. канд. ист. наук. JL, 1985.
- Смирнов A.M. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М.: Изд-во РАН, 1996. — 181 с.
- Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // МИА 1959. — № 60. — С. 206−323.
- Сухорукова Е.П. Полтавкинская и волго-донская культуры эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья (по материалам погребальных памятников): автореф. дис.. канд. ист. наук.-СПб., 2008.-27 с.
- Сухорукова Е.П. Полтавкинская и волго-донская культуры эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья (по материалам погребальных памятников): дис.. канд. ист. наук. -Волгоград, 2008а.-271 с.
- Техов Б.В. Археология южной части Осетии. Владикавказ: Ир, 2006. -639 с.
- Федосов М.Ю. Памятники среднедонской катакомбной культуры в бассейне р. Иловля // Тезисы Межвузовской археологической конференции студентов и аспирантов Юга России Ростов-на-Дону: НОЦ «Археология», 2005. — С. 23−26.
- Федосов М.Ю. Погребения эпохи средней бронзы с раструбошейной керамикой в районе пос. Первомайский // Тезисы II Межвузовской археологической конференции студентов и аспирантов Юга России -Ростов-на-Дону: НОЦ «Археология», 2006. С. 8−10.
- Федосов М.Ю. К проблеме соотношения среднедонской катакомбной культуры и криволукской группы // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Междунар. Нижневолж. археол. конф., 12−15 нояб. 2007 г.: тез. докл. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. — С. 28−32.
- Федосов М.Ю. О так называемом павловском этапе среднедонской катакомбной культуры // Вопросы краеведения. Вып. 11: материалы XVIII-XIX краевед, чтений. — Волгоград, 2008. — С. 128−131.
- Федосов М.Ю. О новой культурной группе памятников эпохи средней бронзы Доно-Донецких степей // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки.- Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного ун-та, 2008. Вып. 11 (67). — С. 287−300.
- Фисенко В.А. Памятники катакомбной культуры у станции Петров Вал //CA 1964. — № 4-С. 181−185.
- Фисенко В.А. О происхождении и хронологии катакомбной культуры. Учебное пособие по курсу истории СССР. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1966.-41 с.
- Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. М.: Наука, 1976.-302 с.
- Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА 1978. — № 4.
- Чшиев Х.Т. Памятники кобанской культуры на территории Северной Осетии // Археология Северной Осетии. Часть 1. Владикавказ: Ир, 2007. — С. 178−293.
- Шишлина Н.И. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н.э.). Труды ГИМ. Вып. 165. М.: Государственный исторический музей, 2007. — 398 с.
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. — 471 с.
- Юдин А.И. Катакомбные поселения эпохи средней бронзы в степном Заволжье // НАВ Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2003. — Вып. 6. — С. 126−141.
- Jones-Bley Karlene. Early and Middle Bronze Age Pottery from the Volga-Don Steppe. Oxford: 1999.