Коммуникативная организация простого предложения
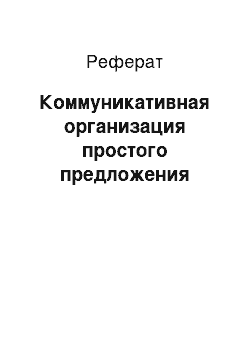
Возьмем другой пример: Мир праху всех, кто почил, — мы-то живы! Давай тост за то, что мы живы! Что мы ЕЩЕ живы. — За то, что Я еще жив, стоит выпить, дорогой Резо! — спровоцировал я (В. Барковский). Выделение автором в этих репликах слов, несущих на себе фразовое ударение (ЕЩЕ, Я), как и интонационные конструкции в целом, могут быть поняты, если только исходить из широкого контекста. Именно… Читать ещё >
Коммуникативная организация простого предложения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Коммуникативная организация простого предложения рассматривается прежде всего в аспекте актуального членения предложения, т. е. его смыслового членения, имеющего существенное значение для данных контекста или ситуации, для передачи важной в данный момент информации.
Актуальное членение предложения представляет собой бинарную композицию, в которую входят тема и рема. Тема представляет собой отправную точку высказывания, то, что дано как его отправной пункт. Поэтому тема называется еще данное, которое содержит уже известное, знакомое, и является исходной частью для передачи нового в предложении: Писем от них никогда не дождешься. Рема противопоставляется теме, это то, что говорится об исходной части высказывания: Писем от них никогда не дождешься. Поэтому рема в информационном плане более значима для высказывания независимо от того, предшествует она теме или располагается за ней. Сравним приведенное предложение и высказывание с другим порядком слов: Никогда не дождешься писем от них. Рема обязательно должна присутствовать в предложении, в то время как тема может отсутствовать. Например, она может быть известна из контекста, что наблюдается в неполных предложениях: Тот мерзавец, которого тогда приняли за меня, он ушел от Вилъмы. То есть просто пропал, неизвестно куда (К. Федин).
Актуальное членение предложения не соотносится с грамматическим, ибо оно всегда бинарно, в то время как грамматически предложение может состоять не только из двух, но из многих членов. Тема и рема в нераспространенных предложениях одночленны (Пустыня наступает), в распространенных бывают комплексными, т. е. состоящими из нескольких членов (Великая африканская пустыня Сахара наступает на плодородные земли). В данных случаях тема и рема совпадают с составом соответственно подлежащего и сказуемого. В других случаях такого прямого совпадения нет:
А вечером, после спектакля, на улице, на прежнем месте, я увидел вчерашнюю знакомую — одну, без подружки — ту, с веселыми бровями и грудным смехом (К. Федин). В этом предложении состав подлежащего представлен только местоименным подлежащим я, а состав сказуемого — остальными членами предложения. В то же время темой являются выделенные жирным шрифтом члены предложения, а ремой — представленные обычным курсивом. На материале данного предложения можно показать и многоступенчатость актуального членения. Так, на первом, наиболее важном по значимости этапе членения предложения тема и рема выглядят так, как они выделены выше. Но на втором уровне смыслового членения предложения в теме можно выделить в качестве наиболее важных частей, А вечером… наулице и как менее важные после спектакля… на прежнем месте. То же самое и в пределах ремы: наиболее существенным в смысловом плане представляется распространенное словосочетание я увидел вчерашнюю знакомую, менее существенными — такие члены предложения, как одну, без подружки, ту, с веселыми бровями и грудным смехом.
Таким образом, в качестве темы и ремы могут выступать различные члены предложения, причем по отдельности и в сочетаниях: Буря / мглою небо кроет (А. Пушкин); Контролировать себя / я контролировал (В. Барковский); На гимнастерке / не хватало двух пуговиц (В. Кунин); Бедствует / скотина (К. Ванин); Ему / было горько (В. Шукшин). Как видим, подлежащее может быть темой (Буря) и ремой (скотина), сказуемое тоже может выполнять функцию темы (Бедствует) и ремы (было горько). И все же в роли темы чаще выступает подлежащее, а в роли ремы — сказуемое.
Для выражения актуального членения предложения используются прежде всего порядок слов и интонация (а точнее говоря — фразовое ударение), действующие одновременно. В литературном языке фразовое ударение переносится обычно на последнюю синтагму, поэтому предложение строится чаще всего по схеме тема — рема, получая при этом нейтральную экспрессивно-стилистическую окраску: Революции / нужен был хлеб (К. Федин).
В разговорной речи фразовое ударение, как правило, перемещается в начало предложения, поэтому и рема располагается в начале высказывания: Это нам легко объяснит /учитель физики; Мне тоже / интересно стало; Не будет / колесо вращаться (В. Шукшин).
Как дополнительное средство выражения актуального членения выступают частицы: постпозитивные же в роли сопоставительного союза, то, отрицательная не: Ты же даже не узнал принцип его работы; Надо же понимать /хоть такие-то вещи; Я же к тебе / не за справкой пришел (В. Шукшин).
Существуют и специальные синтаксические конструкции, которые выражают актуальное членение предложения. К ним относятся, например, что касается… то, кто (когда, если)… так это: Что касается Павлика, / то с ним пришлось повозиться (В. Катаев); Кто никогда не опаздывал, / так это инспектор Луговой; Чего здесь не хватало, / так это солнечных дней; Если что и мешало нашей работе в поле, / так это дожди.
Итак, при анализе простого предложения со стороны структурной лингвистики большее внимание уделяется его формальной организации, так как эта организация считается самодостаточной, в наименьшей степени зависимой от других аспектов синтаксического описания. Например, предложение Звонок прозвенел образовано по схеме И.п. + спрягаемая форма глагола, и каждый из его главных членов может быть распространен: Последний звонок прозвенел для старшеклассников. Для анализа его структуры нет необходимости прибегать к соседним предложениям или более широкому контексту.
Возьмем другой пример: Мир праху всех, кто почил, — мы-то живы! Давай тост за то, что мы живы! Что мы ЕЩЕ живы. — За то, что Я еще жив, стоит выпить, дорогой Резо! — спровоцировал я (В. Барковский). Выделение автором в этих репликах слов, несущих на себе фразовое ударение (ЕЩЕ, Я), как и интонационные конструкции в целом, могут быть поняты, если только исходить из широкого контекста. Именно из него явствует, что диалог происходит между врачами, замышляющими убить пациента, и пациентом, подозревающим что-то недоброе в их словах и действиях. Врачи делают упор на мы ЕЩЕ живы, облекая в обобщенную философскую оболочку свой преступный замысел, но подразумевая под этим мы скорый уход из жизни, причем насильственный, одного определенного лица из присутствующих. Пациент же акцентирует внимание на Я, предчувствуя возможный собственный скорый уход из жизни из-за «стараний» врачей. Следовательно, коммуникативная организация предложений здесь определяется речевым контекстом и обстановкой речи, а не их формальной организацией. Последняя в свою очередь не зависит от своего речевого окружения, однако влияет на смысловую организацию предложения. Приводимые выше примеры формальной организации предложений Поезд тронулся и Наш поезд медленно тронулся и стал набирать скорость являются также примерами влияния (несмотря на разную степень распространенности этих предложений) на смысловую организацию. Действительно, приведенные предложения выражают обобщенное значение по схеме: субъекту действия в форме И.п. приписывается определенное действие, обозначаемое спрягаемой формой глагола действительного залога. Но нельзя сказать, что и смысловая сторона приведенных предложений не оказывает влияния на их формальную организацию. Именно прямое соотношение между субъектом и его действием или состоянием находит выражение в структурной схеме N1Vf.
Говоря в целом о попытках выделения и раздельного рассмотрения в структурной лингвистике формальной, смысловой и коммуникативной сторон предложения, можно допустить, что такой подход оправдывает себя в исследовательском плане, позволяя сконцентрировать внимание на каждой из этих сторон. Но в то же время такой подход затушевывает очевидную связь формальной, смысловой и коммуникативной организации предложения, отодвигает на задний план изучение этой связи, всех аспектов ее проявления, даже самого факта ее наличия в том или ином конкретном случае. Не раскрыты прагматические цели подобного описания синтаксических конструкций на уровне простых предложений, ощущается дискомфортность при практической его реализации в учебных пособиях.
Во-первых, не выявлены и не расклассифицированы с достаточной полнотой даже основные случаи, относящиеся к коммуникативной организации предложения, отграничению этого явления от традиционно описываемых структур неполного предложения, также зависимых от речевого контекста и от ситуации общения, что затрудняет сам структурный анализ.
Во-вторых, неясно, насколько теоретически оправдан отрыв формальной организации предложения от смысловой, вообще формального анализа от семантического, формы от содержания. Не то же ли это самое, что рассматривать состав и структуру слова в отрыве от его значения или значения составляющих его компонентов?
В-третьих, семантическое разнообразие слов, выступающих в роли тех или иных членов предложения, столь многообразно, что свести их в какие-то смысловые «общности», характерные для разных структурных типов предложений, представляется задачей весьма трудной, к тому же если и выполнимой, то со значительной степенью субъективизма. Возможно, это будет описание синонимических синтаксических средств на уровне предложений или что-то другое.
В-четвертых, нельзя сказать, что представленные схемы простых предложений отражают все разнообразие соответствующих синтаксических конструкций, имеющихся даже в литературном русском языке, не считая народных говоров, всю вариантность этих конструкций, все компоненты, образующие их. В структурные схемы не вошли, например, осложнения, свойственные простому предложению (однородные члены, обособления и т. д.), фразеологизмы различных типов. Это еще раз свидетельствует о том, что живая языковая практика богаче структурных схем и не может быть сведена к ним, хотя попытки их построения, предпринимавшиеся в лингвистике, внесли определенный вклад в русистику.
Представляется, что и классический, и структурный подходы к анализу и описанию синтаксических явлений, рассматриваемые не как учения, сменившие одно (устаревшее) другим (современным), а как параллельно существующие, содержательно интересные и достойные внимания изучающих русский язык. Каждое из этих учений имеет свои плюсы и минусы, свои нерешенные проблемы и задачи, свои сферы практического приложения и адресат и должны развиваться, взаимно обогащая друг друга.