Развитие информационной сферы в период расцвета Афин
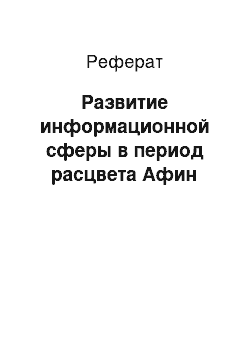
Как известно, Сократ не писал научных трудов. Он вел беседы на улицах и в других местах и сравнивал себя с повивальной бабкой, потому что умел хорошо поставленными вопросами или «добыть» у собеседника желательный ему самому вывод, или раскрыть неосознаваемые этим собеседником убеждения. Это впоследствии было названо сократическим методом. Например, нынешние историки находят «сократическую тему… Читать ещё >
Развитие информационной сферы в период расцвета Афин (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Согласно И. Д. Рожанскому, который посвятил основательную монографию Анаксагору из Клазомен, этот философ «был первым, кто приобщил бурно развивавшуюся общественную жизнь Афин к ионийской учености и таким образом явился основоположником афинской философской школы» [47, с. 5].
Согласимся с этим с той оговоркой, что Афины периода расцвета дали не одну, а несколько заметно различающихся философских школ. Некоторые из них, под названием длительных философских традиций, перечислил сам Рожанский — это атомистика, платонизм и перипатетическая (аристотелевская) школа.
Но вот учение самого Анаксагора оказалось слишком своеобразным, чтобы привести к появлению такой же «длительной философской традиции». Похоже, что даже ближайшие ученики этого философа не смогли продвинуться дальше по его пути, а только отступили от этого пути.
Полтора века, составляющие период расцвета Афин, вместили в себя деятельность многих людей науки. Среди них — только что упомянутый Анаксагор, родоначальники атомистической теории Левкипп и Демокрит, затем величайшие философы античного мира Сократ, Платон и Аристотель; к этому же периоду относится математическое творчество Архита, Теэтета, Евдокса. Научное наследие всех этих деятелей весьма велико, и о нем придется говорить отрывочно, по возможности выбирая то, что представляется относящимся к информационной сфере.
В работе [47, с. 20] видим указание на то, что Эмпедокл, Анаксагор и Левкипп, будучи современниками — даже близкими по возрасту, выдвинули, в противоположность элеатам (а также и первым ионийцам), «основной тезис», состоявший в том, что бытие нужно рассматривать не как единое, а как многое. Этот переход к многому имеет прямое отношение к информационной тематике: ведь согласно одной из концепций информации, развиваемой в нашей стране А. Д. Урсулом (см. [52] и более поздние работы того же автора), она представляет собой отраженное разнообразие.
При некоторой общности основных идей трех названных философов конкретное их содержание у каждого из них свое. У Эмпедокла многое — это четыре элемента («стихии»), которые, как уже было сказано, соединяются в разных сочетаниях Любовью и разделяются Распрей, порождая все сущее.
Левкипп предположил существование множества вечных, неизменных и неделимых атомов, движущихся в пустоте — в том самом «небытии», которое решительно отрицал Парменид (а впоследствии также Платон и Аристотель). Таким образом, — запомним это! — уже в V веке до нашей эры существовали резкие разногласия по вопросу о существовании пустоты.
Что касается Анаксагора, то, например, Аристотель не один раз противопоставлял его Эмпедоклу — например, в следующей выдержке из трактата «О возникновении и уничтожении»:
«Совершенно очевидно, что последователи Анаксагора и Эмпедокла говорят противоположные вещи. Эмпедокл утверждает, что огонь, вода, воздух, земля — это четыре элемента, и притом более простые, чем плоть, кость и сходные с ними подобочастные. Последователи же Анаксагора считают простыми [телами] и элементами эти [подобочастные], землю же, огонь, воду и воздух признают составными, поскольку они представляют собой смесь всевозможных семян этих [подобочастных]» [53, с. 382].
Еще раз почти теми же словами Аристотель противопоставляет Анаксагора Эмпедоклу в третьей главе третьей книги трактата «О небе».
Откуда здесь взялись плоть (мясо) и кость — «подобочастные», т. е. делимые на части, имеющие те же свойства, что и целое? Ответ можно найти, например, в следующем фрагменте Симпликия:
«…Он [Анаксагор] видел, что… от принятия одной и той же пищи, например хлеба, возникает много непохожих: мясо, кости, жилы, мускулы, волосы, ногти, а при случае перья и рога, увеличивается же подобное за счет подобного» [47, с. 263].
Конечно, в хлебе должен присутствовать материал, из которого организм человека или животного строит свои ткани, — уже в ту эпоху люди догадывались о сохранении вещества. Но разве отсюда следует, что именно мясо и все перечисленное (включая, видимо, перья и рога) для Анаксагора были простыми элементами?
Считалось, что Анаксагор видел в каждой вещи присутствие всех других вещей, не воспринимаемых нами по причине их раздробленности на малые части — «все заключено во всем»! Поэтому и Аристотель говорит о смеси всевозможных семян (в другом переводе здесь стоит термин панспермия).
Но по современным представлениям и эта трактовка слишком груба. С более тонким анализом сохранившихся (благодаря Симпликию!) фрагментов Анаксагора можно ознакомиться, обратившись к монографии [47]. Здесь нет возможности, да нет и необходимости, излагать этот непростой подход.
Однако несколько других положений Анаксагора обсудить нужно. Важнейшее из них — его космогоническая гипотеза. Описание процесса возникновения нашего мира Анаксагор начинает со слов: «Вместе все вещи были, беспредельные и по множеству, и по малости».
В эту смесь, в которой «ничто не было различимо из-за малости», было каким-то образом привнесено движение. Причину этого движения Анаксагор обозначает словом нус, которое обычно переводят как ум (И. Д. Рожанский предпочел оставить нус без перевода, чтобы избежать языковых ассоциаций).
Возникший вихрь постепенно разрастался (и продолжает разрастаться!), и в результате вращения «плотное, влажное, холодное и темное собралось там, где теперь земля; редкое же, теплое и сухое ушло в дали эфира» [Там же, с. 81 ].
Обращает на себя внимание сходство этой картины с концепциями ряда ученых Нового времени, тоже говоривших о вихрях или начале движения.
Первыми по порядку изобретения можно считать эфирные вихри Декарта, которыми этот философ объяснял тяготение. Действительно, если привести во вращение, например, чай в стакане, чаинки соберутся в центре как бы вследствие взаимного притяжения — а греки ведь были уже знакомы с этим явлением, наблюдая его в водоворотах.
Второй, более поздней является теория образования Солнечной системы путем сгущения Солнца и планет из туманности, известная как гипотеза Канта—Лапласа. В этой гипотезе вращение туманности (причина которого была неясной) тоже играло существенную роль.
Наконец, в качестве третьей можно назвать современную идею Большого взрыва и расширяющейся Вселенной — ведь согласно этой идее перед началом расширения поистине «вместе все вещи были»!
Об этом пишет и И. Д. Рожанский:
«…Учение Анаксагора, согласно которому в некоторой точке пространства [неточность? Ведь Анаксагор нигде не говорил об исходном наличии точек пространства] зародился мощнейший космический вихрь, приведший к разделению первичной смеси и к образованию непрерывно расширяющейся сферической Вселенной, невольно вызывает ассоциации с новейшими космологическими концепциями» [47, с. 216].
Правда, несколько выпадает из общей картины утверждение Анаксагора о плоской форме Земли — казалось бы, очевидно, что космический вихрь должен был сделать Землю шарообразной. Но Анаксагору нужно было объяснить неподвижность Земли: оказывается, ее подпирает снизу сжатый воздух.
Нужно еще несколько задержаться на космогонической гипотезе Анаксагора в связи с понятием нуса, которое в какой-то степени близко гераклитовскому логосу, но, конечно, не совпадает с ним.
Детальный анализ этого понятия не входит в нашу задачу — ему посвящено много страниц книги [47]. Но интересен процесс переосмысления некоторых однокоренных с ним слов, который И. Д. Рожанский излагает, ссылаясь на серию работ К. фон Фритца [Там же, с. 78].
Оказывается, глагол voeiv вначале имел значение, соответствующее нашему чуять — сперва в прямом смысле (как собака чует след), затем в переносном (например, «чуют правду»). Дальнейшее развитие привело к тому, что этот глагол, по словам Рожанского, «стал приобретать значение осознания истинного, хотя непосредственно не очевидного смысла ситуации (вещи, процесса)… Кроме того… у глагола voeiv появляется еще оттенок замысла, планирования (в связи с осознанием ситуации)». Выходит, например, что однокоренная с этим глаголом ноосфера нашего В. И. Вернадского происходит в конечном итоге от собачьего чутья!
Другое (наряду с космогонической гипотезой) важное положение Анаксагора — его учение о бесконечной делимости, резко противоречащее атомистической теории:
«И у малого ведь нет наименьшего, но всегда еще меньшее. Но и у большого всегда есть большее. И оно равно малому по количеству. Сама же по себе каждая вещь и велика и мала» [47, с. 180].
Как видно, Анаксагор не просто провозглашает бесконечную делимость вещей, а великолепно излагает диалектику большого и малого — большое равно малому по количеству, каждая вещь одновременно велика и мала. Эти замечательные идеи мы не будем комментировать.
Заметим только следующее: в 1901 году немецкий ученый О. Хёльдер опубликовал статью, в которой, как считается, впервые дал систему «аксиом величины». Одна из этих аксиом почти дословно совпадает с положением Анаксагора о том, что «у малого нет наименьшего, но всегда еще меньшее».
Наряду с концепциями общего характера у Анаксагора можно найти интересные высказывания на конкретные темы. Например, он говорил, что растения имеют дыхание, в какой-то степени объяснил такие явления, как радуга и град. Но вот, пожалуй, самая удивительная его мысль — человек разумен потому, что имеет руки. Ведь и сейчас, наверное, не все соглашаются с работой Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», в которой развивается по существу та же идея.
И. Д. Рожанский, обсуждая эту мысль Анаксагора (и, конечно, вспомнив Ф. Энгельса), привел возражения двух авторитетных ученых древности — Аристотеля и Галена (выдающегося врача II в.). Первый по своему обыкновению попытался найти логический довод: «…руки суть орудие, природа же, подобно рассудительному человеку, распределяет каждому то, чем он способен пользоваться» [Там же, с. 290]. Высказывание второго — голословное отрицание: «…человек… не потому самое разумное животное, что имеет руки, как говорит Анаксагор, но он имеет руки, потому, что он наиболее разумен».
Перейдем теперь к Демокриту (около 460—370 гг. до н. э.), который, как утверждают, был молодым, когда Анаксагор уже состарился. Это — второй после Левкиппа (о котором почти ничего не известно) великий античный атомист. Следующей крупной фигурой этого направления был Эпикур (341—270 гг. до н. э.), а цитируют современные историки науки чаще всего римлянина Лукреция Кара, который примерно через два века после Эпикура изложил его учение прекрасными стихами.
Демокрит занимался всеми аспектами атомистики — ее физической стороной, включающей космологию, математической стороной (противостоящей концепции континуума), физиологической стороной, объясняющей происхождение ощущений.
С физической точки зрения атомы античности представляют собой частички вещества, обладающие определенной величиной и формой и не допускающие разделения на части. Слово атом собственно и означает неделимый — либо по причине твердости и непроницаемости, либо в связи с тем, что при делении изменилась бы наиболее существенная характеристики атома, его форма [51, с. 14—15]. Однако мысленно можно выделить в атоме более мелкие части (даже «крючки»!).
Разновидностей атомов много — может быть, даже бесконечно много. Эти атомы носятся в пустоте и сцепляются друг с другом, главным образом по известному в древности принципу «подобное стремится к подобному», образуя вещи — и вообще все, что есть в мире, даже человеческий ум.
Действительно, Аристотель во второй главе первой книги трактата «О душе» свидетельствует:
«…По его [Демокрита] мнению, душа — то же самое, что и ум, а ум состоит из первичных и неделимых тел и способен к движению благодаря мелкости и фигуре своих частиц. Из всех фигур, говорит он, наиболее подвижна шаровидная, а таковы и ум, и огонь» [32, с. 377].
Иногда говорят, что греческому слову атом соответствует латинское индивидуум, но это неточно: индивидуум значит не неделимый, а неразделенный.
Математической стороне древнегреческого и средневекового атомизма в книге В. П. Зубова [51] посвящена большая глава II. В ней подвергается сомнению распространенное представление о том, что Демокрит вычислял площади геометрических фигур и объемы тел путем подсчета «неделимых», составляющих эти фигуры и тела. Известно, что такой подсчет приводит к формулам, содержащим лишние члены по сравнению с точными формулами «непрерывной геометрии», причем влияние этих членов тем меньше, чем большее число «неделимых» участвовало в подсчете.
Но, не соглашаясь с мнением о том, что Демокрит развивал «дискретную геометрию», В. П. Зубов все-таки цитирует вопрос, приписываемый Демокриту и звучащий примерно так: если конус рассечь плоскостью параллельно основанию, что следует думать о поверхностях по обе стороны разреза? Ведь если они равны, конус не будет отличаться от цилиндра?
Между прочим, Зубов не обратил внимания на то, что этот вопрос родствен зеноновской апории «Стрела»: мы берем одну точку на образующей конуса и не можем обнаружить в ней скос образующей относительно оси конуса в точности так же, как Зенон не мог обнаружить движение стрелы в одном моменте времени. Но Демокриту, пожалуй, проще было ответить, что поверхности не равны.
С позиций истории информационной сферы, по-видимому, предстаатяет наибольший интерес учение атомистов об ощущениях. Зрительные ощущения они объясняли тем, что от видимых предметов отделяются как бы тонкие слои, доносящие до глаз цвет и форму предметов. Цвет определялся формой и расположением частиц, образующих поверхность тела. Наиболее наглядно и подробно атомистическая теория объясняла вкусовые качества. Так, Демокрит считал, что соленое состоит из крупных шероховатых частиц, сладкое — из круглых и гладких, кислое — из крупных частиц, имеющих много углов, горькое — из мелких, гладких, с изогнутой поверхностью и т. д. [51, с. 35—36]. Вряд ли эти фантастические объяснения можно считать шагом вперед в развитии теории сенсорных систем.
Наконец, напомним сказанное в методологическом прерывании 2.7: Демокрит объявлял все ощущения условными, потому что «в действительности существуют только атомы и пустота». Повидимому, диалектика сущности и явления была ему чужда.
Новую эпоху в развитии философии (которая все еще была синтетической наукой, охватывающей все стороны жизни) открыли современники Демокрита — родившийся несколько раньше его Сократ (470/469—399 гг. до н. э.) и один из величайших учеников Сократа, более молодой Платон (427—347 гг. до н. э.).
Поместить этих великих мыслителей в контекст истории информационной сферы довольно трудно как из-за масштаба их личностей, так и из-за характера их деятельности. Интересующимся читателям придется обратиться к обширной литературе, посвященной этим философам. Например, о Сократе хорошо, хотя и довольно сжато, рассказал в популярной книге [54] Генрих Волков. Нам же достаточно будет выделить лишь некоторые характерные черты Сократа и Платона.
Как известно, Сократ не писал научных трудов. Он вел беседы на улицах и в других местах и сравнивал себя с повивальной бабкой, потому что умел хорошо поставленными вопросами или «добыть» у собеседника желательный ему самому вывод, или раскрыть неосознаваемые этим собеседником убеждения. Это впоследствии было названо сократическим методом. Например, нынешние историки находят «сократическую тему» в произведениях Г. Галилея, написанных в диалоговой форме. Там, в ходе беседы трех персонажей, придерживающихся различных взглядов, читатель тоже незаметно подводится к нужным выводам, которые становятся как бы его собственными.
Конечно, умение вести дискуссию спокойно, не навязывая своей точки зрения, полезно любому научному работнику. Но здесь хочется отметить другое: способность Сократа приводить собеседника к выводам, которые сам этот собеседник не смог бы четко формулировать, — разве она не родственна тому, что сейчас принято относить к инженерии знаний, а именно диалоговой технологии извлечения скрытых знаний из специалиста, который сам не смог бы четко изложить эти знания? Если согласиться с этим, то придется считать Сократа первым в истории экспертом в области инженерии знаний — а ведь она является существенной частью информационной сферы!
Ученики Сократа стали родоначальниками нескольких философских сократических школ. Упомянем среди них мегарскую школу, основанную учеником Сократа Евклидом из Мегары (около 450−380 гг. до н. э.), который до знакомства с Сократом был приверженцем идей элеатов [55, с. 22—23]. Мегарики внесли заметный вклад в историю логики, которую они понимали как искусство спора.
Среди мегарских логиков вьщеляется Эвбулид из Милета, которому приписывается открытие ряда логических парадоксов. Среди них наиболее известны «Лжец» и «Куча».
Парадокс «Лжец» в передаче Аристотеля формулируется так: «Лжет ли тот, кто говорит, что он лжет?» Считают, что первоначальная, не вполне корректная формулировка этого парадокса принадлежала критскому философу VII или VI века до нашей эры Эпимениду Кносскому. Обсуждению парадокса «Лжец» посвящен ряд работ современных нам авторов.