Эгофутуристы («Ego», «Интуитивная ассоциация эго-футуризм», «Аббатство гаэров», «Кольцо поэтов имени К. М. Фофанова»)
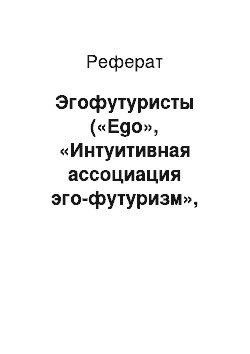
Персонажное™ авторского слова может быть неосознаваемой (как, возможно, у Олимпова), может намеренно не осознаваться и быть специально используемым приемом (например, у обэриутов). Ведь и Лебядкин у Достоевского догадывается о собственной комичности и пародийности, однако же, не перестает создавать великолепную серию мнимых шедевров. В эгофутуризме впервые в истории авангардного искусства… Читать ещё >
Эгофутуристы («Ego», «Интуитивная ассоциация эго-футуризм», «Аббатство гаэров», «Кольцо поэтов имени К. М. Фофанова») (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Среди конкурирующих друг с другом литературных групп авангардистов в 1910;е годы наиболее значимым соперником кубофутуристов было объединение эгофутуристов. Эгофутуризм возник в качестве индивидуально-авторского литературного проекта поэта Игоря Северянина (творческий псевдоним Игоря Васильевича Лотарева) и во многом был также обусловлен литературной модой на футуризм итало-французский. Однако эгофутуризм в России был еще в большей степени удаленным подобием своего прообраза, чем заявлявший о своей самобытности русский кубофутуризм. В листовке «Интуитивная школа „Вселенский эгофутуризм“ (Грядущее осознание жизни и искусства)» (сентябрь 1912) Северянин писал: «Эгофутурист не имеет ничего общего с футуризмом Итало-французским: 1) Иностранные футуристы осмертили местоимение „я“, 2) Они не знают всеоправдания» (9, с. 630).
Стремление оградить себя от отождествления с Маринетти и его группой характерно для многих отечественных футуристических объединений. Надо отметить, что эстетическая программа Игоря Северянина к этому отождествлению давала меньше всего поводов. Более того, ничего общего с установками итальянского футуризма, кроме заимствованного и преобразованного названия движения, северянинская группа не имела.
Объединение эгофутуристов изменялось по составу участников, модифицировались программные установки группы, но в принципе эгофутуризм всегда был известен как весьма умеренное направление русского литературного авангарда (за исключением творчества таких авторов, как Василиск Гнедов и Иван Игнатьев, эстетически близких кубофутуристам).
Стихотворный манифест Игоря Северянина «Пролог. „Эгофутуризм“» (1911) самой поэтической формой свидетельствовал, что его автора в меньшей степени интересуют проблемы теоретизирования и в большей — творческое самоутверждение.
Создание новой поэтической школы Игорь-Северянин обосновывал идеей эгоцентрической личности художника, уподобляемой вселенной. Автор самоутверждал свое «эго» и пропагандировал «вселенский» характер собственной поэзии.
«В отличие от школы Маринетти, — отмечал Игорь Северянин, — я прибавил к этому слову (футуризм. — Д. Ш.) приставку «эго» и в скобках: «вселенский». Лозунгами моего эгофутуризма были: 1. Душа — единственная истина.
2. Самоутвержденье личности. 3. Поиски нового без отверганья старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со «стереотипами» и «заставками». 7. Разнообразие метров" (12, с. 36).
Литературный кружок «Ego» возник по инициативе ИгоряСеверянина в октябре 1911 г. и первоначально включал поэтов Ивана Игнатьева (И. В. Казанский), Василиска Гнедова, Павла Широкова, Дмитрия Крючкова, Константина Олимпова (К. К. Фофанов), Грааль-Арельского (С. С. Петров), Георгия Иванова.
В январе 1912 г. был создан «ректорат» Академии Эгопоэзии и опубликованы «Скрижали Академии эгопоэзии».
Однако сам организатор эгофутуристического объединения Игорь-Северянин формально принадлежал к группе меньше года, так как еще в ноябре 1912 г. в журнале «Гиперборей» он официально объявил о своем выходе из кружка «Ego». Известно, что главными причинами этого шага были не столько эстетические разногласия, сколько напряженные отношения в споре за лидерство с К. Олимповым.
Мы уже отметили, что творческая программа основателя движения была вполне умеренной. Игорь Северянин не отрицал культурной преемственности в литературе, напротив, его поэтическая практика была тесным образом связана с поэзией символизма и предшествующей поэтической традицией в лице Мирры Лохвицкой и Константина Фофанова.
Культ этих обожаемых Игорем Северяниным поэтов наследуют и прочие эгофутуристы, в числе которых, как известно, был сын К. М. Фофанова поэт Константин Олимпов (Константин Константинович Фофанов). А в начале 1920;х гг. возникнет постэгофутуристическое объединение «Аббатство гаэров», преобразованное затем в «Кольцо поэтов имени К. М. Фофанова». В объединении наряду с официальным сыном К. М. Фофанова К. К. Олимповым примут участие его внебрачные сыновья — братья Владимир и Борис Смиренские, а также в числе прочих — юный К. К. Вагинов. Главной программной задачей «Кольца» будет утверждено «увековеченье имени» К. М. Фофанова (A. Anemone, I. Martynov; 13).
Исследователи эгофутуристической поэзии справедливо недоумевают по поводу возникновения этого поэтического культа. Действительно, поэзия Лохвицкой и Фофанова имела достаточную популярность в самых широких читательских кругах в 1890-е гг., но была вполне заурядным явлением и с точки зрения наследуемой поэтической традиции (мещански вульгаризированный неоромантизм Надсона) и тем более — с поэтологических позиций. Однако отметим в качестве наиболее для нас значимой черты этой поэзии — стихийно-жизнетворческое формирование литературного образа автора, отождествляемого с лирическим героем. Подчеркнем спонтанный характер этого отождествления, в результате которого появляется литературный миф о поэте. Позднее и символисты, и авторыавангардисты (не только эгофутуристы) научатся сознательно конструировать такие мифы, используя в качестве жизнетворческой основы комплекс культурологических идей Ницше или, например, Соловьева.
Литературные мифы поэтов старшего поколения, которому принадлежали и Лохвицкая, и Фофанов, были в большей степени безыскусны и в минимальной степени осознаваемы самими авторами, т. е. можно утверждать, что эти поэты жили отражениями собственной поэтической легенды, были поглощены неоромантической аурой своего творчества. Поэтому в качестве основной типологической особенности художественного слова этой поэтической традиции следует назвать его стилистический эгоцентризм — в литературном плане и жизненном контексте, которые, впрочем, сливаются воедино. В принятом нами терминологическом определении нет попытки психологизировать поэтическую систему (вопрос о психотипических особенностях литературной личности правомерен и может быть поставлен, но отнюдь не является нашей темой). Мы подразумеваем здесь неоромантический опыт литературной мифологизации лирического «Я» героя, который выражается в эгоцентрической ориентации поэтического слова и соответственно особой концентрации художественного текста. В этом смысле именно Фофанов и Лохвицкая, действительно, прямые предшественники эгофутуризма. Личное знакомство молодого Игоря-Северянина с уходящим и благословляющим Фофановым, северянинское куртуазное почитание литературного сюзерена и пажеская преданность поэтической принцессе в образе поэтессы Лохвицкой только акцентировали жизненный и литературно-художественный антураж очевидной литературной преемственности:
Прах Мирры Лохвицкой осклепен, Крест изменен на мавзолей, —.
Но до сих пор великолепен Ее экстазный станс аллей.
Весной, когда, себя ломая, Пел хрипло Фофанов больной, К нему пришла принцесса мая, Его окутав пеленой… (Северянин; 11, с. 96).
Культ гения и гениальности — характерная топологическая черта романтической философии, общемировоззренческий мотив романтизма. В северянинском исполнении этот мотив трансформируется в культивирование своего (не чужого!) поэтического дара, который признается как дар безусловный, так как единственным критерием гениальности объявляется «ego» поэта — его внутреннее поэтическое самоощущение. Этот своеобразный эстетический солипсизм рождает поэтическое слово, преисполненное упоением поэтической славой собственного имени:
Я, гений Игорь Северянин, Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден! (11, с. 101).
Критерием поэтичности является печать «ego», оставленная творческой личностью в художественном произведении. Эго-поэзия может иметь бесчисленное множество тем и мотивов, но все они концентрируются вокруг гипертрофированно экранированного в тексте «я», становящегося центром поэтического мировоззрения эгофутуристов. Неслучайно с самого начала возникновения объединения «Ego» внутригрупповая конкуренция в эгофутуристической среде была не менее, а подчас и более напряженной, чем в общефутуристическом движении. Каждый из поэтов «эгистов» претендовал как минимум на поэтическое бессмертие — во вселенских масштабах. Поэтика самопосвящений — беспрецедентное в истории русской литературы явление. Вслед за «Литературным Мессией» Игорем-Северяниным появились и другие образцы эстетического мессианизма. «Третье Рождество Великого Мирового Поэта», «Проэмний Родителя Мироздания» — названия поэтических книг Олимпова, творчески претенциозный псевдоним которого стал основой создания еще одного авторского проекта — движения «вселенского олимпизма».
Несмотря на очевидную карнавальность и даже пародийность всех этих воплотившихся, как бы мы сейчас сказали, индивидуально-авторских «брендов», интенция их породившая отнюдь не пародийна. Эгофутуристическая гипертрофированная претенциозность имеет не столько психологическое (или психопатологическое), сколько стилистическое происхождение. Концентрация и акцентуация авторского «я» является средством усиления референциальных возможностей текста. В условиях очевидного дискурсивного кризиса литературы таким средством становится самореклама. Ср., например, в стихотворении «Да здравствует реклама!» Павла Широкова:
На улице сквозь ленту рокота Пронизывается крик, как свет:
— Покупайте поэзы Широкова!
Широков — величайший поэт! —.
Да здравствует Реклама! Да здравствует Реклама!
Реклама — двигатель жизни, это знает каждый клерк.
И на земном шаре нет ни дворца, ни храма, Который бы ее отверг.
Она проникает всюду: попадает в спальни, Пролезает в карманы, провожает даже гроб, Нахально оглушая всякого. Будьте же все нахальней, От нее не отстать чтоб!
Вечером в облаках строкою широкою Буквы из электрического света:
— Покупайте поэзы Широкова, Великого поэта! (9, с. 374).
Это средство может не осознаваться как прием. Однако гипертрофированная субъективизация повествования, безусловно, предшествует появлению в литературе русского авангарда так называемой «пародической авторской личности» (например, в произведениях обэриутов).
Профанический образ автора-персонажа был известен русской литературе XIX века: Козьма Прутков, капитан Лебядкин. Однако эти персонажи не обладали самостоятельным типологическим значением, за ними всегда обнаруживается интенция их создателей. С приходом в литературу эгофутуристов авторская персонажность усиливается. Лирический персонаж произведений отождествляется с автором-создателем, экранируя эгоцентрическую установку текста. Неслучайно А. Блоку принадлежал замысел статьи «Игорь Северянин и капитан Лебядкин». (Свидетельства современников сохранили показательное высказывание Блока: «Ведь стихи капитана Лебядкина очень хорошие» (цит. по: В. Гиппиус; 2, с. 20).
С другой стороны, в ситуации субъект-объектной рассогласованности литературного дискурса эгоцентрическая организация текста по своим стилистическим стратегиям, безусловно, оказывалась близка бессубъектному языковому «фокусничанью» кубофутуристов.
Творческое единство внутри эгофутуризма ограничивалось признанием права поэтов на взаимное почитание — отсюда обилие поэтических посвящений друг другу и, одновременно, масса взаимных творческих претензий. Граничащий с крайним эгоцентризмом мировоззренческий индивидуализм, конечно, не был изобретением какого-либо одного из поэтов. Предельно эгоцентричные дискурсивные практики не только характерны для Игоря Северянина, но свойственны и Олимпову, и Игнатьеву, и прочим участникам движения. Философия индивидуализма наиболее ярко воплотилась в учении Ницше, имевшем самую широкую популярность в культуре Серебряного века и, безусловно, отразившемся в эгофутуристическом мироощущении. Однако ницшеанская концепция преодоления человеческого «я» и достижения сверхличностного состояния — в онтологическом измерении — намного глубже поверхностного индивидуализма эгофутуристов. Эгофутуризм утверждал творческую автономность личности, а значит, ее предельный имманентизм. Правда, эта ограниченная нарциссическим самолюбованием творчески изолированная поэтическая личность претендовала на вселенский характер, но в этом и проявилась ее скрытая, часто неосознаваемая пародийность.
После официального отмежевания Игоря Северянина, группа вынужденно выступила с новым названием «Интуитивная Ассоциация ЭГО-ФУТУРИЗМ» и обновленной программной декларацией «Грамота» (январь 1913), которую подписали Игнатьев, Широков, Гнедов, Крючков. Как и прочие эгофутуристические декларации, эта программа не представляет научно-исследовательского интереса, так как здесь не выражен лингвистически или художественно сформулированный тип отношения к слову. А единственным и явно «притянутым за уши» способом обосновать в названии присутствие термина «футуризм» было заявленное в первом пункте программы «непрестанное устремление каждого Эгоиста к достижению возможностей Будущего в Настоящем» (9, с. 630). Вторым пунктом программы провозглашался уже известный нам «эгоизм», определяемый как «индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление „Я“» (9, с. 630).
Возможно, что явное сужение северянинского понимания «эго» в этой декларации обусловлено состоявшимся разрывом с основателем движения. Так или иначе, утверждаемое Игорем Северяниным вселенское измерение «Я» поэта, его трансцендентное начало сменилось теперь определением трансцендентного через имманентное: «Божество — Тень Человека в Зеркале Вселенной» (9, с. 630). В качестве теоретика и пропагандиста эгофутуризма на этом этапе выступил юный Иван Игнатьев. Поэт заявляет об окончательном разрыве с ИгоремСеверяниным («Эгофутуризм как эгофутуризм возникает лишь на „могиле“ Северянина-эгофутуриста») и пытается по-новому обосновать «интуитивную» составляющую творчества: «Интуиция — недостающее звено, утешающее нас сегодня, в конечности спаяет круг иного мира, иного предела, — от коего человек ушел и к коему вновь возвращается. Это, по-видимому, бесконечный путь естества. Вечный круг, вечный бег — вот самоцель эгофутуриста» (И. Игнатьев; 5, с. 12).
В этом тексте отчетливо проявилась замкнутость эстетических координат движения, имманентным пределом которых объявлена «интуиция».
Если жизнетворческая установка «эго» у Игоря Северянина явно корреспондировала с популярной в эту эпоху теорией.
3. Фрейда о структуре человеческой личности, то интуитивное начало, провозглашаемое новейшими «эдициями» эгофутуризма, безусловно, соотносимо с не менее известной философией интуитивизма А. Бергсона. Однако рецепция фрейдизма и бергсонианства в эгофутуризме была лишь отражением поверхностной моды на экстравагантные и революционные философские учения. Это был своеобразный знак увлечения модным интеллектуализмом, ставший составной частью семиотики конструируемого ультрасовременного стиля.
Несмотря на молодость, именно Игнатьев в период до своей трагической кончины (суицид) выступает в качестве основного теоретика, критика, автора и издателя эгофутуристических произведений (он возглавлял издательство «Петербургский Глашатай»), Эгофутуристические коллективные альманахи и авторские поэтические книги, издаваемые возглавляемым им издательством, явно уступали в оформительском плане художественно изощренным кубофутуристическим изданиям. Однако и в них развивалась оригинальная авангардистская теория слова и экспериментальная поэтическая практика. Сам Игнатьев кроме декларативных статей в альманахах выпустил поэтический сборник «Эшафот: Эго-футуры» (СПб., 1913, на обложке — 1914) и теоретическую брошюру «Эго-Футуризм» (СПб., 1913). Сближаясь в своих воззрениях с радикальными теориями кубофутуристов, в частности с идеями Крученых, Игнатьев развивал буквенно-идеографическую концепцию: каждая буква в экспериментальном тексте не только имеет звуковой, цветовой, вкусовой комплекс значений, но и обладает категориями пространственности и веса. Экспериментальное слово, таким образом, выступает в качестве категориального синтеза буквенных означающих, выражающих комплексную семиосферу индивидуальных чувствований, интуитивных восприятий, эмоций и переживаний. Невербализуемое содержание индивидуального сознания находит нестандартное визуальное выражение в тексте, например, посредством использования в графической структуре экспериментального произведения математических знаков или нотного письма. Таким образом, традиция визуальной поэзии восходит в истории русского литературного авангарда, в том числе и к опытам Игнатьева. (Обычно в качестве источников этой традиции указывают «железобетонные поэмы» В. Каменского, эксперименты А. Крученых, визуальную заумь И. Зданевича и поэтов группы «41°».).
Опыты невербальной эстетической коммуникации, выраженные буквенно-графически, обретут и другое средство реализации — художественный жест. Автором этого авангардистского приема был еще один поэт-радикал в составе группы эгофутуристов — Василиск Гнедов. Знаменитая «Поэма Конца», заключающая цикл из пятнадцати экспериментальных поэм «Смерть искусству», представляла собой чистый лист и исполнялась при помощи оригинальной авторской жестикуляции. Сохранились воспоминания современников об исполнении автором принципиально невербализуемого текста. Игнатьев в предисловии к этой книге Гнедова, делая иронический выпад в сторону кубофутуристов, писал: «Нарочито ускоряя будущие возможности, некоторые передунчики нашей литературы торопились свести предложения к словам, слогам и, даже, буквам. — Дальше нас идти нельзя! — говорили Они. А оказалось льзя. В последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что. Ему доводилось оголасивать неоднократно свои поэмы. Последнюю же он читал ритмодвижением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус результат нуль). „Поэма Конца“ и есть „Поэма Ничего“, нуль, как изображается графически» (В. Гнедов; 4, с. 2).
Парадоксальным образом антипроизведение Гнедова предвосхитило не только актуальные формы концептуального искусства в авангарде первой половины XX в., но и традиции постмодернистского перфоманса. (Вспомним постмодернистскую акцию Ива Кляйна, представившего обозрению зрителей пустой экспозиционный зал). Поэт концептуализировал проблему невыразимого в художественном слове, прибегнув для актуализации этой неизрекаемой стихии к языку жестов. Ненаписанный текст Гнедова прообразует художественное повествование о возможности и/или невозможности поэтического текста в современном ему литературном дискурсе и репрезентирует чистую потенциальность творческого акта, с которой начинается всякое искусство, но которой оно, с точки зрения авангардиста, увы, и завершается («Смерть искусству»). «Поэма Конца» Гнедова — один из первых примеров концептуального текста в авангардном искусстве XX в., так как пространство несостоявшегося поэтического произведения наделено концептуальной идеей «смерти искусства» — его предельной исчерпанности и принципиальной невозможности в условиях современной культуры. С другой стороны, «Поэма Конца» впервые представляет идею новейшего акционального искусства — искусства возможного только в качестве программного жизнестроительного жеста.
Гнедову принадлежит немало новаторских открытий и авангардных идей, некоторые из которых нашли применение в позднейшей авангардистской практике. Радикализм разрабатываемой Гнедовым экспериментальной поэтики сближает его с кубофутуристами: «…среди эгофутуристов он был белой вороной, — вспоминал Лившиц, — и неоднократно выражал желание перейти в наш лагерь» (7, с. 461). «Работа над словом», представленная в декларациях и программных статьях Игнатьева и Гнедова, действительно, была пунктом пересечения эгофутуризма с кубофутуризмом. Так, например, кубофутуристическая поэтика авангардного текста в значительной степени расширялась разработками в области экспериментальной рифмы, предложенными и Игнатьевым, и, главным образом, Г недовым.
Игнатьев предлагал недостаточно оригинальные, в силу очевидной абсурдности, «гласные рифмы» (глаза — ее — огни — Mimi…), «согласные рифмы» (рак — брег — их) и «дифтонги» (рай — дорогой — струй). Гнедов объявляет об открытии «рифмы понятий», которая не менее абсурдна с точки зрения даже самой новаторской поэтической техники. Однако в контексте упразднения традиционной рифмы это явление вписывалось в дискурсивные практики разрушения привычного литературного дискурса. В трактате Гнедова «Глас о согласе и злогласе», опубликованном впервые в коллективном сборнике «Грамоты и декларации русских футуристов» (СПб., 1914), «рифма понятий» обосновывается совпадениями семантических признаков слов, а музыкально-фонетическая рифма категорически отрицается: «До сих пор плыли на звуках. Стихи и рифмы были звукоколышащимися (музыкальны). Тысячелетия накренились. Стихи уже изменены; но главным приемом для достижения гармонии остается (музыкальная) рифма. Настоящее заявление заполняет этот пробел и дает новую дорогу в поэзии на тысячи лет. Рифма — звуковой консонанс, кроме нее возможен предлагаемый мною консонанс понятий — рифма понятий» (3, с. 325).
Небывалые рифмологические конструкции и рекомендации этого трактата, конечно, есть явление своеобразной перформативной игры автора. Однако с позиции сегодняшних дней трудно определить, сочетаются ли здесь новаторские установки с элементами мистификаторства.
Новейший «рифмологион» Гнедова включает, например, вкусовые рифмы (хрен — горчица — молочай: горькие рифмы), обонятельные (мышьяк — чеснок, шафран — йодоформ), осязательные (рифмы шерохотоватости, гладкости и т. д.: сталь — стекло), зрительные (вода — зеркало — перламутр), цветные рифмы и т. п. Автор трактата мог со всей серьезностью рассуждать о такого рода «понятийном» рифмовании слов, имея в виду полемичность авангарда в отношении к традиционной поэтике. В этом случае теоретизирование трактата воспринимается в качестве непредосудительной наивности и элементарного дилетантизма. Но конструирование новаторской поэтики могло быть осознано как неизбежность новой дискурсивное™, и в этом случае автор мог предпринять попытку обыграть дискурс на его же «территории» посредством мистификаторской практики. И тогда мы имеем дело с внутренне провокативной моделью дискурса, что свидетельствует о нетривиальности его замысла.
Повторяем, трудно установить, насколько изначально была осознана самим автором игровая специфика этого псевдонаучного трактата. Впрочем, мы склоняемся к мысли о перформативном характере всей декларативной программы Гнедова, памятуя о его изначальном стремлении вывести текст за пределы литературы — в область невербальной коммуникации. С полной уверенностью можно утверждать, что парадоксальное расширение границ искусства в авангардной практике XX в. началось в том числе и с игровых экспериментов Гнедова.
Теоретизирование над определением существа эгопоэзии было обречено на бесконечное повторение. Каждый из эгофутуристов заявлял о праве индивидуального понимания концепции движения. Впрочем, все авторы сходились в утверждении эгоцентрической личности художника. А. Грааль-Арельский с ницшеанским свободомыслием отмечал: «Во Вселенной нет нравственного и безнравственного, есть Красота — мировая гармония и противоположная ей сила диссонанс. Поэзия в своих исканиях должна руководиться этими двумя силами. Цель Эгопоэзии — восславление эгоизма как единственной правдивой и жизненной интуиции» (А. Грааль-Арельский; 1, с. 370).
Была предпринята попытка собственной интерпретации проекта «вселенского языка». Правда, эгофутуристические представления на этот счет во многом обусловлены стремлением увязать программу движения с ведущей проективной теорией кубофутуристов. Поэтому декларируемое в эгофутуризме преодоление коммуникативных функций языка и даже прогнозируемое исчезновение языка как такового — в будущем — является не более чем оригинальничанием (но весьма показательно): «Пока мы коллективны, общежители, — утверждал Игнатьев, — слово нам необходимо, когда же каждая особь преобразится в объединиченное „эго“, — Я, — слова отбросятся сами собой» (10, с. 29).
Самозамкнутый мир автономного эгоцентрического сознания, не требующий ответного слова в силу своей иллюзорной «вселенскости», есть идеал позднего эгофутуризма — в интерпретации его основного представителя Константина Олимпова. В поэтическом слове, возведенном Олимповым в ранг иератического жеста, пророчества и мессианского откровения, настолько самонадеянно утверждалась авторская гениальность, что поэт вынужден был пройти процедуру медикопсихиатрического освидетельствования. Листовка «Анафема Родителя Мироздания. (Проститутам и проституткам)» в сентябре 1922 г. была разослана автором не только в редакции газет и журналов, но и влиятельным членам советского правительства, в частности Луначарскому и Зиновьеву. Скандальный текст сопровождался весьма оригинально сформулированной просьбой прислать отзыв на послание: «Ваше молчание сочту за слабость мысли перед моим величием» (6, с. 233). Понятно, что очень скоро последовала вполне адекватная реакция официальных властей: Олимпов был увезен в диагностический институт для прохождения врачебной экспертизы. Поскольку с некоторыми оговорками медицинская экспертиза признала поэта вменяемым, он был осужден за нелегальное издание листовки.
А. В. Крусанов в выдающемся энциклопедическом исследовании по истории русского авангарда цитирует мнение самого Олимпова, считавшего, что первоначальная идея «вселенского эгофутуризма» была «извращена и приняла направление эгопшютизма и будуарности» (К. Олимпов; 8, с. 204).
Персонажное™ авторского слова может быть неосознаваемой (как, возможно, у Олимпова), может намеренно не осознаваться и быть специально используемым приемом (например, у обэриутов). Ведь и Лебядкин у Достоевского догадывается о собственной комичности и пародийности, однако же, не перестает создавать великолепную серию мнимых шедевров. В эгофутуризме впервые в истории авангардного искусства возникает вопрос о критериях подлинности и границах искусства. Поведенческий стиль эгоартиста и его речевое поведение в поэтическом тексте моделируют пространство жизнестроительных жестов, в котором обнаруживается дискурсивная замкнутость. Автор-эгофутурист оказывается замкнут в сконструированном им самим дискурсе, как типе художественной речи, и каждая попытка выйти из-под его власти будет завершаться неудачей, так как любое несоответствие между образом автора и «первичным автором» (М. М. Бахтин) обрекает текстовую практику на неизбежный провал избранной персонажной роли. «Маска» эгофутуризма — продолжим рассуждение в бахтинских категориях — теперь должна полностью совпадать с лицом автора. Одной из немногих возможностей ускользания (отнюдь не избавления) от власти сконструированного эгофутуристического дискурса является бесконечная смена персонажных масок — самоироничная игра автора, обреченного на самопародирование. Такую возможность блестяще продемонстрировали обэриуты, творчество которых в этом срезе уже изучалось современными литературоведами, но в связи с эгофутуристической традицией поведения авторского «я» практически неисследовано.
В эгофутуристических декларациях и программных статьях в меньшей степени отражены теоретические представления о сущности нового экспериментального слова. Если же такие представления и встречаются, то это, как правило, переработанные положения кубофутуристов, и они менее всего творчески интересны. Эгофутуризм проповедует непосредственную художественную практику как откровение «Я» поэтической личности. Модернистский комплекс культуры, основанный на «вселенских» интуициях индивидуального «Я» поэта-эгофутуриста, реализуется в поэтических текстах, которые не всегда можно назвать экспериментальными. (Радикализм таких авторов, как Игнатьев и Гнедов, был направлен, в конечном итоге, на преодоление в искусстве вербального дискурса как такового и активизацию невербальных аспектов коммуникации — запаха, цвета, вкуса, звука.) Типологические особенности художественного слова эгофутуризма определяются предельной концентрацией вокруг основного эстетического критерия — «Я» поэта-авангардиста. Самоутверждение творческой личности, описание ее становления и мироощущения становится почти единственным предметом эгофутуристической поэзии. Это не исключает многообразия тем и мотивов, однако все они представлены, тем не менее, сквозь призму «эго». «Самоутверждение через самоутверждение» становится тавтологическим итогом развития эгофутуристической логики творчества. Так как дискурсивные возможности индивидуального.
«Я» ограничены «персонажной» экспликацией романтической идеи гениальной личности, автор превращается в собственного персонажа (что на другом материале блестяще показано М. М. Бахтиным). Появление «персонажного слова» в эгофутуризме мы считаем главной стилевой доминантой этого направления. Постепенное слияние авторского и персонажного начал в дискурсе экспериментального текста стало преддверием новых повествовательных стартегий в поэтике позднего авангарда.
- 1. Г (рааль)-А (рельский). Эгопоэзия в поэзии / Г (рааль) — А (рельский) // Шруба, М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов: Словарь. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 448 с. — С. 369—370.
- 2. Гиппиус, В. Встречи с Блоком / В. Гиппиус // Ленинград. 1941. № 3.
- 3. Гнедов, В. И. Глас о согласе и злогласе / В. И. Гнедов // Шруба, М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890—1917 годов: Словарь. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 448 с. — С. 325—326.
- 4. Гнедов, В. И. Смерть искусству. Пятнадцать (15) поэм /
B. Гнедов; предисл. И. В. Игнатьева. — СПб.: Петерб. глашатай И. В. Игнатьева, 1913. — 7 с.
- 5. Игнатьев, И. В. Эгофутуризм / И. В. Игнатьев // Засахаре кры. СПб., 1913.
- 6. Из истории эгофутуризма: материалы к литературной биографии Константина Олимпова / публ. А. Л. Дмитренко // Минувшее. Исторический альманах № 22. — СПб., 1997. — 653 с. — С. 206—247.
- 7. Лившиц, Б. К. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания / Б. К. Лившиц; вступ. ст. А. А. Урбана, с. 5—36; примеч. П. М. Нерлера и др.; худож. Л. Яченко). —Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1989. — 718 с.
- 8. Олимпов, К. Возникновение эгопоэзии вселенского футуризма / публ. А. В. Крусанова и А. М. Мирзаева // Минувшее. Исторический альманах № 22. — СПб., 1997. — 653 с. —
C. 186—205.
- 9. Поэзия русского футуризма / вступ. ст. В. Н. Альфонсова, сост. и подгот. текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого, персональные справки-портреты и примем. С. Р. Красицкого. — СПб.: Академический проект, 2001. — 752 с.
- 10. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / сост.: В. Н. Терехина, А. П. Зименков; РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наследие, 2000. — 480 с.
- 11. Северянин, И. Громкокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / И. Северянин; издание подготовили В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. — М.: Наука, 2004. — 870 с.
- 12. Северянин, И. Собр. соч.: В 5 т. / И. Северянин; сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. В. А. Кошелева и В. А. Сапогова. — Т. 5. — СПб.: Logos, 1996.
- 13. Anemone, A. Towards the History of Leningrad Avantgarde: The «Ring of poets» / A. Anemone, I. Martynov // Wiener Slawistisher Almanach. Bd. 17. 1986. P. 131—148.