Врачебная мораль после Гиппократа
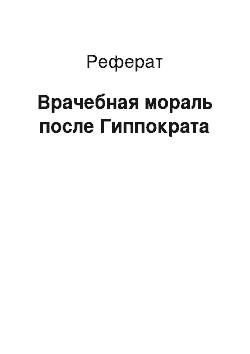
Особо следует отметить роль в развитии европейской, а также американской профессиональной медицинской этики английского врача и общественного деятеля Томаса Персиваля (1740—1804) и его работы «Медицинская этика, или Свод установленных правил применительно к профессиональному поведению врачей и хирургов» (1803). В целом автор опирается на идеи Гиппократа, которые излагает современным языком. Врач… Читать ещё >
Врачебная мораль после Гиппократа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В средневековой медицине развитие профессиональной этики и деонтологии оказалось подчиненным религиозной идеологии и морали. Для средневековой культуры и особенно учености характерны приверженность традициям и преклонение перед авторитетами священных книг и канонизированных авторов. Традиции, а не опыт, утверждались источником всякого знания, порождая схоластическое мышление с присущим ему догматизмом. Развитие медицины приобрело противоречивый, неоднозначный характер. Это же нужно сказать и о развитии, говоря современным языком, биомедицинской этики. С одной стороны, Церковь подавляла новаторство ученых и врачей, запрещала исследования по анатомии и физиологии человека; жгла на кострах народных целителей, обвиняя их в колдовстве; объявляла душевнобольных одержимыми бесами. С другой стороны, христианская идеология содержала гуманистическую тенденцию, направленную на любовь к ближнему, помощь бедным, больным, калекам, старикам.
Напомним, что в дохристианской культуре — античной и германокельтской — царил культ силы, здоровья, красоты, молодости, а бедность и болезнь воспринимались как несовершенство человека, его неполноценность. В эпоху Средневековья ситуация коренным образом меняется: поощряется помощь нуждающимся, прежде всего инвалидам. Посещать больных и умирающих стало обязанностью священников. Для заботы о бедных и больных был создан институт дьяконата. Первые госпитали на латинском Западе появились при епископских кафедральных соборах на рубеже V—VI вв. Два столетия спустя их стали устраивать при монастырях и лишь в Высокое Средневековье — в городах. Специальной установки лечить больных у христианской Церкви поначалу не было, но жизнь заставила госпитальный персонал приобретать медицинские навыки. Врачом назначали кого-либо из монахов, знавших правила ухода за больными и проявляющих интерес к медицинским знаниям. Естественно, что в лечении больных использовали как медицинские, так и церковные методы (молитвы, лечение реликвиями, святой водой). Лишь в конце позднего Средневековья госпитали стали переходить на светский образ деятельности, осуществляемой профессиональными врачами, лекарями и цирюльниками.
Другой важнейший биоэтический мотив, утвердившийся в Средневековье, основывался на христианской заповеди «не убий». Она распространялась и на находящийся в чреве матери плод, и на убийство, и на самоубийство. К слову, последнее, по мнению итальянского философа и теолога Фомы Аквинского (1225—1274), является самым тяжким грехом, совершаемым христианином, поскольку самоубийца не сможет даже покаяться за этот проступок и замолить свой грех. Христианская Церковь отказывалась отпевать и хоронить самоубийц. Восточные религии (буддизм, ислам) также распространили в Средние века принцип «не убий» на человеческий плод и самоубийство. Говоря современным медицинским языком, искусственный аборт и эвтаназия были строжайше запрещены как с точки зрения господствующей морали, так и законом.
В Западной Европе в период Средневековья разработкой вопросов врачебной этики занимались представители Салернской медицинской школы, именуемой «Гиппократовой общиной». Школа образовалась в IX в. на юге Италии и в течение нескольких веков была центром медицинского просвещения в Европе. В отличие от других медицинских школ, Салернская школа отказалась от астрологических суеверий, схоластической учености, стремилась опираться на опытные знания и носила светский характер; финансировалась из казны города и платы за обучение. За особые заслуги император Фридрих II разрешил профессорам школы вскрывать для демонстрации один труп в пять лет, а позднее было разрешено вскрытие трупов в судебно-медицинских целях. На преподавателей и учащихся школы не распространялся целибат, введенный в те времена в отношении всех дипломированных врачей, студентов и профессоров, отмененный лишь в 1452 г. В Салерно учились и даже преподавали женщины, что в ту эпоху воспринималось как великая вольница.
Знаменитый Салернский кодекс здоровья переиздавался более 300 раз и отражал лучшие традиции античной медицины, в том числе и деонтологические требования к врачу: быть честным и доброжелательным по отношению к больному, а также придерживаться скромного и достойного поведения в повседневной жизни. Но в отношении гонорара за лечение давались иные рекомендации, нежели в школе самого Гиппократа: пока болезнь еще в силе, необходимо позаботиться о получении гонорара — в противном случае выздоровевший пациент может не заплатить. Большинству врачей средневековой Европы не было свойственно бескорыстие.
Другое существенное отличие от Античности — законодательное оформление ответственности за результаты лечения и сохранение врачебной тайны. Наказания за неудачное лечение зависели от статуса пациента и степени нанесенного ему ущерба: врач мог потерять гонорар, быть оштрафованным или лишиться имущества и даже головы. Профессия врача, лекаря в те времена не была престижной, а хирургов вообще по статусу приравнивали к цирюльникам. Нравы, господствовавшие во врачебном сословии, также оставляли желать лучшего: жадность, завистливость, нелюбовь к коллегам и злословие в их адрес — все это было чрезвычайно распространено. Естественно, что лучшие представители профессии, помнившие и чтившие этику Гиппократа, болезненно воспринимали падение нравов и разрабатывали врачебные кодексы и обещания для выпускников медицинских факультетов, чтобы хоть как-то поднять моральный уровень врачей.
Регионом расцвета культуры в Средние века явился Арабский халифат, особенно в период IX—X вв. Это было замечательное время для развития медицины, несмотря на определенные идеологические ограничения (запрет на анатомические исследования, а также изучение природы психических заболеваний, возможность для правоверного мусульманина видеть обнаженное женское тело). Великие врачи и ученые этого периода Абу Бакр Рази (865—925), Ибн-Аббас (619—686), Ибн-Рушд (1126—1198) не только развивали научные знания, но и поддерживали высокий уровень профессиональной этики в лучших традициях Гиппократа и Галена, которых считали своими учителями. Они призывали коллег бороться за жизнь и здоровье больного, невзирая на астрологические прогнозы; выбирать наиболее щадящие для его организма средства лечения; быть терпеливым и ласковым с пациентами, нести каждому луч надежды, строго соблюдать врачебную тайну.
Отметим также два высоконравственных поступка арабских врачей той эпохи, вошедших в анналы истории медицины. Абу Бакр Рази, известный своими научными энциклопедическими работами, написал специально для бедного населения популярный медицинский труд «Для тех, у кого нет врача». Другой известный врач, Хунейн Ибн-Исхак (809—873) проявил профессиональное мужество, отказавшись приготовить смертельный яд по приказу халифа; он заявил, что это противоречит долгу врача. Попавший в немилость врач закончил жизнь в тюрьме, где, по иронии судьбы, вероятно, был отравлен.
Однако самая замечательная страница в историю медицины арабского Востока (и мировой медицины того времени) была вписана великим врачом, ученым и философом Ибн-Синой (Авиценна) (980—1037). В этой гениальной личности удивительно гармонично сочетались талант ученогоисследователя, искусность врача и мудрость мыслителя. И вся эта гармония была пронизана стержневой идеей человеколюбия. Слова Гиппократа о враче-мудреце, подобном Богу, следует в первую очередь отнести к Авиценне. Великий врач ратовал за гуманное отношение к каждому больному, особенно к тяжелобольным и нетрудоспособным, заботу о которых должно взять на себя общество. Собственной клинической практикой он показывал образцы индивидуального творческого подхода, мужественной и самоотверженной борьбы за жизнь и здоровье пациента и в то же время — чуткого и сострадательного отношения к нему. Представление Авиценны об идеале врача прежде всего относится к нему самому: «Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва».
Авиценна тщательно исследовал проблему страха как болезнетворного фактора и пришел к важному деонтологическому выводу: страх можно преодолеть умелым индивидуальным подходом врача к пациенту и его проблемам. Другая важнейшая деонтологическая идея великого врача заключалась в необходимости направить усилия врача и пациента на предупреждение болезни — т. е. уже в те далекие годы Авиценна разрабатывал профилактический подход в медицине. Также опережая время, он рассматривал взаимоотношения врача и больного в аспекте их взаимопонимания и сотрудничества. Позднее эту идею эффектно оформит Абу-ль-Фарадж (1226—1286) в виде обращения врача к больному: «Нас трое — ты, болезнь и я; если ты будешь с болезнью, вас будет двое, я останусь один — вы меня одолеете; если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна — мы ее одолеем».
Перспективная идея
Подход Авиценны, направленный на взаимопонимание и терапевтическое сотрудничество врача и пациента, стал сегодня важнейшим атрибутом врачевания.
Подлинным украшением профессиональной морали врача, настоящим художественным шедевром стала «Молитва врача», созданная еврейским философом и врачом Маймонидом (1135—1204). Обращение Маймонидаврача к Богу наполнено глубочайшим профессионально-нравственным смыслом: «Воодушеви меня любовью к искусству и к твоим созданиям. Не допусти, чтобы жажда к наживе, погоня за славой и почестями примешивались к моему призванию Укрепи силу сердца моего, чтобы оно всегда было одинаково готово служить бедному и богатому, другу и врагу, доброму и злому Внуши моим больным доверие ко мне и моему искусству. Отгони от одра их всех шарлатанов и полчища подающих советы родственников и изобличи небрежных сиделок Даруй мне, о Боже, кротость и терпение с капризными и своенравными больными; даруй мне умеренность во всем — но только не в знании; в нем же дай мне быть ненасытным, и да пребудет далеко от меня мысль, что я все знаю, все могу!».
К сожалению, именно со времени создания этой клятвы начинается закат арабской культуры, усиливается влияние богословия, схоластической книжности, падает уровень светской образованности врачей. Но в масштабах мирового развития в XIV — XI вв. постепенно созревают условия для нового (уже европейского) культурного подъема.
Эпоха Возрождения привнесла качественные изменения в жизнь общества, исключительно важные для развития медицины и биоэтических воззрений. Прежде всего, на смену средневековому мировоззренческому теоцентризму пришел антропоцентризм, в связи с чем резко вырос интерес к реальному человеку, его телесной организации и медицинским проблемам. В кружках гуманистов исследовалось строение человеческого тела в норме и при патологии, обсуждались вопросы продолжительности жизни, борьбы с болезнями. Болезнь уже не рассматривалась благом для души, как это было в Средние века; в глазах общества резко возросла ценность здоровья и красоты, и, следовательно, стал возрастать социальный статус медицины и врача.
Отважные исследователи новой эпохи подвергались гонениям, как анатом Андреас Везалий (1514—1564), шли за свои убеждения на костер, как Джордано Бруно (1548—1600), демонстрируя героическую нравственность ученого, — но эти люди продвигали научное познание вперед. Медицина, получив новые импульсы для развития, прежде всего благодаря возможности проводить анатомические исследования, стала искать новые методы лечения, как призывал французский врач-гуманист Жан Франсуа Фернель (1497—1558), вдохновленный новыми географическими открытиями. Параллельно этому процессу шла критика деятельности врачей-схоластов. По меткому замечанию великого поэта той эпохи Франческо Петрарки (1304—1374), подобное врачевание «здоровых ввергает в болезнь, а больных — в смерть». Не случайно сегодня Петрарку называют основоположником доказательной медицины за его прозорливое предположение, что если взять 100 больных одинаковой тяжести и 50 из них отдать на лечение схоластам, а 50 не лечить вообще, то во второй группе результат будет лучше.
Перспективная идея
Безусловно, идея сравнения эффективности лечения, предложенная Франческо Петраркой, лежит в основе современной доказательной медицины.
Наиболее радикальным реформатором медицины того времени стал великий врач и мыслитель Парацельс (1493—1541). Вся его содержательная реформаторская деятельность была пронизана пафосом гуманизма и высокой профессиональной нравственностью. Он критиковал догматизм, книжную ученость врачей-схоластов, боролся против стяжательства аптекарей и связанных с ними врачей и чиновников, указывал на бесполезность многих распространенных тогда методов лечения и зловредность обильных кровопусканий и слабительных, которые изнуряют больного.
В своей позитивной деятельности он ратовал за опытное знание, которое должно лежать в основе медицины, и, как новатор, ввел в арсенал терапии ятрохимию[1]. Именно с Парацельса началась переориентировка химии на нужды медицины. Тонкий психолог, он указал, с одной стороны, на великое значение веры больного в выздоровление, а с другой стороны — на негативную роль болезненного воображения мнительного пациента. Его вклад в медицинскую этику был настолько весом, что сегодня специально выделяют «модель Парацельса» как форму врачевания, в которой ведущее место занимает принцип «делай благо», и все силы врача должны быть направлены на это. Создав образ добродетельного врача (и талантливо воплотив его в жизнь), Парацельс строго обозначил категорические противопоказания к занятию медицинской профессией: «Врач не смеет быть ни мучителем, ни палачом, ни слугой палача».
С приходом в Европу эпохи Нового времени продолжился переход медицины на научную основу, что было связано с успехами естествознания. Статус врачебной профессии продолжал укрепляться и расти. Родоначальник английской науки Нового времени Фрэнсис Бэкон (1561 — 1626) сравнил врача и его деятельность со вторым солнцем и, чтобы это солнце светило ярче, призывал медиков к научным наблюдениям, экспериментам, новым открытиям, которые помогут выявить причины болезней и найти эффективные средства лечения. Ученый, которого справедливо называли философом медицины, расширил понимание ее задач, заключающихся не только в лечении болезней, но и в укреплении здоровья и продлении жизни человека. Сегодня этот подход воспринимается как само собой разумеющийся, но тогда был принципиально новым. Точно так же инновационно и гуманно прозвучала идея Ф. Бэкона о необходимости врачебного ухода за умирающим больным. Напомним, что со времен Античности господствовало мнение, высказанное врачом Цельсом (25—50), что медицина не протягивает руку умирающему. Сегодня, когда в развитых странах значительная часть больных завершает жизнь в медицинских учреждениях, становится очевидной прозорливость мыслителя. Развивая идею помощи умирающему больному, Бэкон вводит в медицину термин «эвтаназия» — легкая, благая смерть. Он вкладывает в это понятие гуманный смысл о необходимости медикаментозной и психологической помощи умирающему.
По мере прогресса в медицине возрастает ее гуманистический потенциал: начинается разработанное английским врачом Эдвардом Дженнером (1749—1823) оспопрививание, использование наркоза для болезненных операций и процедур. Отметим, что ингаляционный наркоз закисью азота предложил английский химик Гемфри Дэви (1778—1829), предварительно испытав его на себе. Кстати, учитель Дженнера, английский хирург и анатом Джон Гунтер (1728—1793), также провел эксперимент на себе. Подобные поступки ученых стали традицией, возвышающей моральный статус медицины.
Конец XVIII в. вошел в историю биоэтики как гуманистический прорыв в организации психиатрической помощи. Благодаря инициативе главного врача приюта для престарелых и душевнобольных, французского психиатра Филиппа Пинеля (1745—1826), в отношении больных были отменены принятые в те времена методы насилия (оковы, побои, воздействие голодом и холодом) и введены лечебные процедуры, трудотерапия. Так начиналась эпоха гуманизации отношения к психически больным.
Внутри самой медицины наконец-то нивелируется историческая несправедливость профессиональной дискриминации: статус полноценных врачебных специальностей приобретают акушеры и хирурги. Гордое восклицание мудрого Парацельса, что он является доктором обеих медицин (терапии и хирургии), становится правильно понятым и общепризнанным. Не менее важным событием представляется развитие социальной медицины, исследующей вопросы заболеваемости, здоровья, продолжительности жизни в различных регионах и социальных группах, что было чрезвычайно важно для аргументированного утверждения главных гуманистичсских ценностей (здоровья и жизни людей) в обществе и его мобилизации на борьбу за эти ценности.
В дальнейшем в русле социальной медицины особую роль сыграют социал-гигиенисты, поставившие своей задачей оздоровление труда и быта населения. В частности, социал-гигиенисты Англии добились принятия парламентского акта (1842), нормирующего продолжительность трудового дня рабочих и запрещающего ночную работу подростков и детей, а также устанавливающего государственный контроль над процессом труда. По инициативе английских санитарных врачей возникают общества оздоровления городов и улучшения жилищных условий рабочего класса. В этот же период создаются работы социалистов-утопистов Сен-Симона, Роберта Оуэна, Шарля Фурье, которые мечтали о социальном строе, отличающемся «гигиенической мудростью», гармоничным развитием граждан, высоким авторитетом и правами медицины в деле поддержания здоровья всего населения.
Перспективная идея
Продолжая традиции социал-гигиенистов Англии и мечты социалистов-утопистов, развитые страны Европы через полтора века выдвинут великий, но своему намерению лозунг «Равное здоровье всем европейцам к 2000 году».
Процессы повышения роли медицины в обществе, углубления и дифференциации медицинских знаний привели к существенным изменениям в медицинском сообществе. Возникают профессиональные общественные организации, издаются специальные журналы (в Англии с 1823 г. выходит еженедельный общемедицинский журнал «Ланцет» (The Lancet)). В 1852 г. состоялось первое международное собрание врачей — съезд гигиенистов. С 1867 г. стали проводиться регулярные международные конгрессы врачей. В повестки дня национальных и международных собраний вносились вопросы этического характера, велись дискуссии и вырабатывались рекомендации. Так, на Международном медицинском съезде в Лондоне (1881) развернулась бурная дискуссия вокруг доклада Р. Вирхова о применении вивисекции в медицине: защитники животных требовали запретить опыты, ученые отстаивали право на эксперимент во имя знаний, необходимых для развития науки. Английский социал-гигиенист Джон Саймон (1816—1904) обратил внимание публики на бедствия и страдания людей, ужасающее положение трудящихся масс и призвал подумать в первую очередь о них.
Для поддержания должного уровня профессиональной этики врачебные объединения разрабатывали и утверждали присяги, клятвы, обещания для вступающих в профессию коллег. Все они базировались в основном на клятве Гиппократа. По аналогии с врачебной клятвой в начале XX в. была создана сестринская клятва Флоренс Найтингейл, названная так в честь основательницы первой школы сестринского дела в Англии (1861).
Особо следует отметить роль в развитии европейской, а также американской профессиональной медицинской этики английского врача и общественного деятеля Томаса Персиваля (1740—1804) и его работы «Медицинская этика, или Свод установленных правил применительно к профессиональному поведению врачей и хирургов» (1803). В целом автор опирается на идеи Гиппократа, которые излагает современным языком. Врач у Т. Персиваля — это филантроп, несущий пациентам благо и завоевывающий их признательность гуманным отношением и соответствующей деятельностью. Он должен вести себя с пациентами деликатно (а с женщинами — скрупулезно деликатно), уравновешенно, снисходительно, но авторитетно. Принципиально новыми следует назвать два положения: 1) расширение этики врачебной до этики медицинской за счет распространения нравственных норм поведения на всех профессионалов, работающих в медицине; 2) обозначение нового этико-деонтологического отношения «врач — общество». Персиваль был одним из первых, кто признал обязательства врача по отношению не только к пациентам, но и к обществу. Особое место в этике Т. Персиваля занимают вопросы взаимоотношений между врачами как коллегами и конкурентами, что было особенно злободневно в условиях обострившейся конкуренции па рынке медицинских услуг. Тут было бы уместно вспомнить слова известного европейского врача и ученого XIX в. Вильгельма Буша: «Коллега — это тот человек, которого ты терпеть не можешь».
Томас Персиваль призывает коллег к честным джентльменским отношениям. Он проводит мысль, что все медики являются хранителями чести друг друга. Не следует рассказывать о происшествиях в больнице, если эго может нанести коллегам вред. Не нужно без просьбы вмешиваться в лечение больного, находящегося на попечении другого врача. И, конечно же, врач поступает крайне эгоистично, стараясь осознанно подорвать доверие пациента к другому врачу.
«Медицинская этика» Т. Персиваля была взята за основу этических кодексов национальных медицинских ассоциаций Англии, США и других стран. Отличительной чертой подобных кодексов была детальная проработка вопросов взаимодействия врачей друг с другом, а также рекламирования своей деятельности. Например, в случае совместной работы врачей разных специальностей или приглашения врача для консультации скрупулезно расписывался этикет процедуры: кто входит первым, кто сообщает итоговое заключение пациенту, кто выходит последним и, конечно же, как распределяется гонорар. Особо строгое внимание в этических кодексах уделялось вопросам конфиденциальности, и это было не только моральным требованием к медикам, но во многих странах подкреплялось и законодательно. За разглашение врачебной тайны могли налагаться и уголовные санкции — от штрафа и лишения права заниматься врачебной деятельностью вплоть до лишения свободы. Врачебные ассоциации и объединения также следили за нравственным поведением врачей и этикой их взаимоотношений. С этой целью формировались суды профессиональной чести, которые могли наказывать провинившихся порицанием, предостережением и даже денежным штрафом.
Таким образом, медицина (прежде всего в развитых странах) подошла к XX в. не только обладая постоянно растущими диагностическими и терапевтическими возможностями, но и будучи оформленной во врачебные сообщества, регламентирующие деятельность профессионалов в соответствии с этическими кодексами. В основе этих кодексов лежали принципы и нормы, выработанные еще в школе Гиппократа. И даже Женевская декларация (международная клятва врачей) сохраняла традиционную преданность установкам великого древнегреческого врача и мыслителя.
- [1] Ятрохимия — рациональное направление алхимии XVI—XVII столетий, стремившеесяпоставить химию на службу медицине в приготовлении лекарственных средств.