Европейское время и китайский сезон в горизонте современного варианта феноменологии
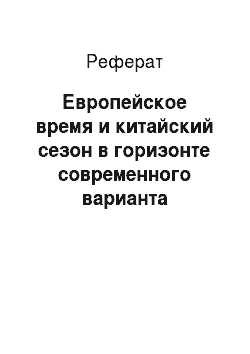
Но не пропускает ли здесь Жюльен самое главное? Ведь можно рассуждать следующим образом. Когда-то жизнь навязала свой ритм геосфере, создав биосферу, циклы которой (их обживание, освоение) китайцы, возможно, и называют сезонами. Но, по Вернадскому, теперь человек навязывает свои ритмы биосфере, создавая ноосферу. В существенной мере вторая позиция для Вернадского послужила истоком конструирования… Читать ещё >
Европейское время и китайский сезон в горизонте современного варианта феноменологии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Я давно уже заметил, что равнодушен к проблеме времени. Не раз спрашивал себя почему? Может быть, потому, что методологическая, семиотическая и культурологическая установки, которых я придерживаюсь и развиваю, автоматически блокируют темпоральную реальность как проблему? Во всяком случае, когда возникла возможность поразмышлять над вопросом времени, я решил ее не упускать. Тем более только что появилась замечательная книга Франсуа Жюльена «О „времени“. Элементы философии „жить“» (М., 2005). Эта книга буквально поразила меня и глубиной, и свежестью постановки вопроса. Искусно соединив феноменологический и культурологический подходы, сравнивая европейское понимание времени и китайское понимание сезона, в определенном смысле противоположное западному темпоощущению, Ф. Жюльен сумел по-новому увидеть и продумать проблематику времени, как европейскую, так и китайскую.
При этом автор «О „времени“» вполне пристрастен в своих предпочтениях: ему нравятся китайское понимание-отправление жизни и сезона, а также представления Мартина Хайдеггера о «здесь-бытии» и времени («Смысл Dasein есть временность»), напротив, он пускает немало стрел в западное понимание времени как блокирующее естественные формы жизни. Сравним (курсив мой. —В. Р).
«Таким образом, сезон представляет собой общую рубрику, под которой пересекаются по принципу аналогии и в соответствии с надлежащим качеством самые разные линии эволюции, звезды и животные, ноты и тональности, имена и числа, места и боги — и так далее вплоть до жестов и привычек. То есть сезон является упорядочивающим принципом мира, или, скорее, он каждый раз создает свой мир в соответствии с определенной экологией.
Сезон «воздействует», а человек, проницаемый для всякого влияния, реагирует в унисон, никакая его внутренняя структура не препятствует этому, а проходящее через него влияние сезона не изолируется в чем-то, что можно было бы определить как «ощущение» в отличие от рационального представления.
Вот так я возвращаюсь к китайской мысли, к ней, которая, не мысля «время», сразу выводит нас из-под влияния концепции времени, стеснявшей нас в нашем отношении к «жить «и к процессам.
Выбор китайской мысли в этом отношении является прямо противоположным: она отправляется не от субъекта, а от ситуации, которая ввиду своей постоянной эволюции является моментом-ситуацией… именно окружающий мир и его «сезон», как мы видели, вызывают прилив чувств и побуждают поэта реагировать и выражать эти чувства в песне.
«[Обрести] покой [в] моменте (ань ши)…» Успокаивающей и умиротворяющей самодостаточности момента, переданной в китайском выражении, противопоставляется недостаток, присущий времени и его терзающий.
Это невыразимое китайским языком есть «смысл жизни». Но если я думаю о процессе жизни («жить») в соответствии с моментом и как о постоянном переходе, входе которого один момент вызывает другой и все эти моменты, вместе взятые, объясняются с помощью единственного факта их изменчивости, когда они друг друга оттеняют и усиливают, то исчезает угол зрения, отрывающий нас от «времени», откуда, собственно, и эманировал вопрос о смысле жизни, да и сам этот вопрос как-то рассасывается. Для него больше нет «места», как и для экзистенциального напряжения — и прекрасной драмы! — которую он разыгрывает"[1].
«По правде говоря, мы в нашем так называемом современном мире более уже не чувствуем его, разве что только безотчетно. Возможно, что частично именно отсутствие этого ощущения и делает наш мир «современным». В действительности уже давно решетки, воздвигнутые нашим разумом, накрыли и скрыли такую возможность для нашего сознания.
Хотя «жить» не перестает обрисовывать некие «до» и «после», а эти «до» и «после» способны в любой момент погрузиться в мою память или в мои проекты, они не устанавливают границ и не выделяют никакого определенного горизонта. «Жить» не имеет дна ни с какой стороны… «жить» не поддается пониманию в рамках концепции времени; ведь в этом случае, допуская растяжение, образующее промежуток, время даже в своем настоящем осталось бы чем-то неотвратимо нависающим над жизнью"[2].
Но почему, спрашивается, время нужно поверять жизнью, а также чем уж так плоха наша с вами европейская жизнь. Ну, да, мы все отчасти, как писал Хайдеггер, стали «поставом» и живем в быстротекущем времени, которое, однако, вовсе «не нависает над жизнью», а разумно организует ее. Заметим, на этом стоит вся техногенная цивилизация, делающая нас свободными и могущественными. И разве свободен традиционный китаец, отдающийся на произвол судьбы ситуации и моменту? Может быть, он и не задается сакраментальным вопросом о смысле жизни и, как отмечает Франсуа Жюльен, не боится смерти, но зачем нам такая жизнь и стоит ли подчинять жизнь единственной задаче преодоления страха перед смертью?
«Смерть, — пишет Ф. Жульен, — есть для нас то, к чему направлено сущностно-экзистенциальное; лишь в смерти как в своем последнем „еще нет“ и обретает свою „целостность“ это „экзистирующее“, чья темпоральная структура и есть забота, проявляющаяся как воля к бытию. Ну как же не увидеть в этом „феноменологическом описании“ „бытияк-смерти“, управляемом темпоральностью, вершины присущей Западу способности драматизировать. Сила древнего даосизма в этом отношении состоит в развитии некой альтернативы данной концепции. Чтобы смерть не представляла собой изначальной угрозы, открываемой предвосхищением конечного предела „экзистенции“ как ее наивысшей возможности, а вписывалась в жизнь или, как нам это объясняет текст „Чжуан-цзы“, в то непрерывное преобразование, которое и есть „жизнь“. Чтобы на смерть больше не смотрели как на событие или даже Событие par excellence, а воспринимали так же, как и любой момент, приходящий на смену другому моменту, чтобы к ней относились как к чему-то „простому“, доступному, оставляя в стороне все сложности; короче говоря, чтобы смерть переживалась как нечто естественное»[3].
Уже Платон выступал против «драматизации смерти», говоря в «Апологии Сократа», что «не следует ожидать ничего дурного от смерти», что «с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти»[4]. Платон стремился объяснить афинским гражданам, что «смерть есть благо», если человек живет правильно и разумно, и — зло и страдание, если он живет неправильно. Для Платона важно понять, как жить, чтобы встречать смерть спокойно, без страха. «Такой человек, — писал он в „Послезаконии“, имея в виду человека, идущего по пути „философского спасения“, — даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном одре не будет, как теперь, иметь множества ощущений, но достигнет единого удела, из множественности станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе блажен»[5]. Однако мы знаем, что мало кому удавалось спокойно встречать «эту даму с провалившимся носом и косой», в частности, потому, что окончание жизни в европейской культурной традиции обычно понималось и переживалось как прекращение всего, как пустая вечность, не заполненная ничем.
Можно ли смотреть на смерть спокойно, если с ее наступлением ставится предел проецированию себя в будущее и реализации, без чего невозможно существование личности? Когда Сократ говорил, что «от смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее — уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть»[6], он намекал, что реализация себя, своих жизненных принципов и задает целостность и полноту жизни, смерть же всего лишь момент жизни. Но большинство пошло не за Платоном, а за Аристотелем, писавшим, что «более важным и более полным представляется все-таки благо государства», чем благо одного человека[7]. Если государство вечно, то отдельный человек, напротив, смертен и меру его жизни определяет быстротекущее время.
Следующая проблема, встающая при чтении Франсуа Жюльена, примыкающая к заданным вопросам, — о каком времени, точнее, понятии идет речь в книге. С одной стороны, автор старается показать, что разные европейские мыслители понимали под временем разное и поэтому не стоит подверстывать все понятия времени под одно универсальное. С другой — Франсуа Жульен говорит именно о таком универсальном понятии: времени как связанном с движением, его измерением (по Аристотелю, «время — число движения», но также прошлое, настоящее, будущее), однородном, противопоставленном вечности, концептуализируемом относительно природы или Бога, принципиально событийном, за которым стоят европейский субъект и познание. С третьей стороны, в книге просматривается, правда, не очень отчетливо еще одно понимание: время — это не одна реальность, а разные, концептуальные, напоминающие то образы движения и их условия (Аристотель), то языковую и сакральную проекции-процессы (Августин), то китайский сезон и момент (Монтень), то формы бытия и жизни (Хайдеггер). Проиллюстрирую второе из указанных здесь пониманий.
«Благодаря времени и через сходство с ним, — читаем у Ф. Жюльена, — движение позволило показать однородный характер делимой и протяженной величины; опять-таки благодаря времени, но через контраст с ним, вечность открывает связанные друг с другом аспекты бесконечного следования и чередования. Движение — с одной стороны, вечность — с другой: таковы две опоры или, скорее, две парные наружные арки (соответственно физики и метафизики), которые поддерживают вопрос о «времени» начиная с Древней Греции. Либо мысль о времени вносится в рубрику мыслей о природе, либо она приписывается мысли о Боге.
В отличие от длительности «время» было, возможно, не чем иным, как конструкцией ума, скопированной с пространственных представлений и способной самостоятельно держаться на ногах только благодаря эффекту спаривания с пространством.
Вопрос тем более ключевой, что понятие события внутренне связано с идеей времени и что мы не умеем понимать «время» без «событий», в нем происходящих, — природа времени, если у него вообще есть природа, связана с этой возможностью. Вот почему я спрашиваю себя: можно ли на этом основании определить всю европейскую культуру как культуру события?
Но, если инициатива не приходит именно от «субъекта», что тогда выражает готовность (отдаться событию сезона, жизни как таковой. — В. Р.)? Если, как мы видели, Монтеню и удается избежать этого недостатка, и это делает его уникальным мыслителем, то лишь потому, что у него (до Декарта) фигура Я-субъекта или, скорее, его внутренняя организация находится еще в стадии становления, еще не воздвигнута, не одеревенела в форме «познающего» и волеизъявляющего «субъекта», который в этом качестве правит миром". (Сравни с высказываниями М. Хайдеггера: «Человеческий субъективизм достигает в планетарном империализме технически организованного человека своего высшего пика, с которого он опускается в плоскость организованного однообразия и обустраивается там. Это однообразие есть самый надежный инструмент полной, т. е. технической, власти над Землей»[8]. — В. Р.) «Она (китайская традиция. — В. Р) не пыталась специально выделить из этого своего мира „точку зрения“ сознания, чтобы возвести изолированный „субъект“. Вот это-то и позволяет лучше оценить, и уже не в единственном модусе недостатка, отказ китайцев выделить абстрактный план познания и умозрения»[9].
Но совместимо ли с таким универсальным европейским понятием времени, например, то, которое мы встречаем у Августина, а именно языковое и сакральное? «Августин, — пишет Франсуа Жюльен, — исследует возможности своего языка, чтобы мыслить время, и его мысль о времени принимает форму латыни. Он конструирует свое понятие времени, используя латинский синтаксис. Один падеж все же остается вне от этого синтаксического набора: место, где нечто есть, — здесь (лат. иЫ). Устойчивое место, через которое ничто не движется, но в котором можно пребывать. Августин один раз использует его: „Здесь услышу я глас хвалы и буду созерцать блаженство Твое, которое не появляется и не исчезает“»[10]. Или хайдеггеровское понимание времени как бытия и временности? Думаю, нет. Эти понятия времени предполагают другие концептуализации.
Анализируя китайские представления о темпоральности, Франсуа Жюльен отмечает, что в Китае были более совершенные, чем в Европе, часы, календари и историография[11]. Но годы китайцы считали «по династиям и царствам, у них не было идеи единой эры, каковая присутствует в олимпийской датировке Древней Греции, в которую внес свой вклад и Аристотель, или идеи христианской эры, закрепленной у нас в начале VI в., — идеи начальной точки истории, фиксирующей нечто, „отправляясь от чего“, осуществляют все последующие расчеты: последняя интересовала их так же мало, как идея творения мира. Но это нисколько не мешало им, как напоминает нам Нидэм, разработать строгую линейную теорию династической легитимности, основанную на линейной последовательности и примиряющую разночтения в разных календарях, охватить огромные временные периоды, заполненные непрерывным историческим развитием»[12]. Другими словами, получается, что в Китае были по меньшей мере три системы темпоральных мер — сезоны, меры измерения длительности природных процессов и меры измерения исторических событий; на их основе регламентировалась жизнь социума и отдельного человека. В Европе, однако, понятие «время» каким-то образом соединяло и измерение природных процессов, и социальных, и психических (историческое время, психологическое, событийное и пр.). Не создает ли такой синтез большинство проблем со временем?
Выше, говоря о методологии автора, я сказал, что он искусно связал феноменологию с культурологией. Но вряд ли бы сам Франсуа Жульен согласился с такой констатацией. Для него это просто современный вариант феноменологии. Изюминка этого варианта — «обходный путь» через Китай. «Если, — объясняет Ф. Жюльен, — я склоняюсь над этими китайскими формулами и собираю их настолько осторожно, насколько это для меня возможно… то делаю я это для того, чтобы через эти формулировки и как бы мимоходом начать освобождать наш собственный дискурс. Тем самым я признаю, что за этим „компаративным“ интересом я вижу другой интерес — для меня он, возможно, еще более важен, поскольку он помогает выявить основные координаты вопросам времени, способного — с помощью монтажа и окольных путей через китайскую мысль — вновь подвести к вопросу о „жить“ в философии»[13].
Возможно, Франсуа Жюльен, подобно некоторым нашим философам, не признает за культурологией научного статуса. Тем не менее в российской гуманитарной науке сравнительные анализы представлений и понятий, принадлежащих разным культурам, безусловно, относятся к ведению культурологии (здесь достаточно кивнуть хотя бы на классика российской культурологии А. Я. Гуревича, который, кстати, осуществил сопоставительный культурологический анализ европейского времени). Но что Франсуа Жюльен имеет в виду под феноменологией? Я давно подозревал, что феноменологи неадекватно осознают свои методы, что они реально работают не по Гуссерлю, хотя концептуально стараются ему следовать. Чтение работы Франсуа Жульена меня в этом окончательно убедило. Действительно, в реальной работе автора «О „времени“» можно выделить три разных момента.
Во-первых, он осуществляет критику привычных европейских представлений о времени. Во-вторых, выясняет условия мыслимое™ времени в европейской культуре и в Китае («Как же философии, — спрашивает Ф. Жюльен, — взяться за свое дело, — мыслить о времени»[14]). В методологическом плане это есть анализ обусловленности мысли и особый тип распредмечивания понятий; с точки же зрения методологии постмодернизма — деконструкция европейского понятия времени. В-третьих, Франсуа Жюльен осуществляет «конструктивизацию», т. е., по сути, создает новое понятие времени (приписывает времени такие характеристики, которые призваны разрешить многочисленные проблемы и противоречия, связанные с привычным представлением о времени). И что существенно, при этом Франсуа Жюльен, с одной стороны, сопоставляет (сталкивает) европейские представления о времени с китайскими представлениями, с другой — использует в качестве средств различные понятия, например, жизни, складки, языка, субъекта, «Я» и др., а также целые схемы, скажем, «происхождение и развитие понятия» или схему, намеченную Хайдеггером в статьях «Вопрос о технике» и «Время картины мира». Начнем с последней.
Франсуа Жюльен замечает, что наше сопротивление мысли о сезонном бытии, идеологическое по природе, «возникает из предохранительной меры, которая поддерживается Разумом», стоящим на страже постиндустриального мира, где удалось достигнуть «господство над природой». «Отныне мы занимаемся одними и теми же формами деятельности и совершаем путешествия „в любой сезон“»; мы едим клубнику зимой и загораем под специальными лампами, короче говоря, мы все больше и больше ведем одинаковый образ жизни в любой сезон…
Техника, изобретенная с целью укрепления нашей независимости и автономии по отношению к окружающей среде, увеличения нашей инициативы как Я-субъектов, оказалась одновременно ответственной за сглаживание различий, все больше и больше считающихся второстепенными, и за обустройства процесса существования, который был бы всегда одинаковым; ясно, что из-за этого она, в свою очередь, все больше и больше требовала однородной, абстрактной и чисто количественной концепции процесса своего разворачивания, который мы и называем «временем»[15]. Данные размышления прямо навеяны двумя статьями Хайдеггера[16].
Но не пропускает ли здесь Жюльен самое главное? Ведь можно рассуждать следующим образом. Когда-то жизнь навязала свой ритм геосфере, создав биосферу, циклы которой (их обживание, освоение) китайцы, возможно, и называют сезонами. Но, по Вернадскому, теперь человек навязывает свои ритмы биосфере, создавая ноосферу. В существенной мере вторая позиция для Вернадского послужила истоком конструирования первой. И возникновение ноосферы не есть для него некоторый артефакт на теле биосферы, а закономерный этап эволюции планеты. Причем в силу первого геохимического принципа (ускорение круговоротов веществ) с момента возникновения жизни планета было обречена на тепловую смерть, поскольку жизнь не может выйти за пределы того отношения, которым является она сама. А человек, хотя он пока только приближает этот конец, в принципе, способен изменить направление развития планеты. В свете такого взгляда желание китайцев остаться в материнской утробе биосферы (экологичность, биологичность их культуры) оборачивается парадоксом. Они понимают свободу человека не как свободу в природе (таково понимание как раз европейского человека — по Вернадскому, да уже и у Канта), а как свободу от (вне) природы — в некотором сверхчувственном мире, — ведь они хотят жить так, как будто в природе живет не человек, а некоторое биологическое существо, подчиняющееся природным ритмам, человеческое же в нем определяется «неучастием» (по типу «умеющий ходить не оставляет следов»). Но тогда дело не просто в «идеологии» или «европейских удобствах», а в том, применима ли вообще к нашей истории китайская концептуализация действительности. Ведь вопрос о свободе для европейцев коренной! Если нет свободы, то «зачем нам такая жизнь»? Если она есть, то, может быть, пусть европейское время «неотвратимо нависает над жизнью», возможно, это плата за личностное, свободное бытие?
Весьма интересно у Франсуа Жюльена понятие «жизнь». За ним много чего стоит. Это и оппозиция привычному понятию времени, и необходимость мирно развести эти два представления (жизни и времени), и попытка преодолеть техногенное понимание жизни как «постава» и, напротив, культивировать восточное отношение к жизни мудреца, где преодолевается страх перед смертью и многие другие проблемы, мучающие западного человека. «И подкладкой этого вопроса о времени, — поясняет Ф. Жульен, — фактически является вопрос о том, что значит «жить»: на него я и пытаюсь пролить свет, открыть новый подход к нему. Ибо «жить» (а не «жизнь», когда о ней говорят с внешней позиции как о чей-то конкретной жизни) — это не то, что происходит между началом и концом; «жить» как таковое не похоже на переход, перемещение движущегося тела. В своих «Опытах» Монтень предлагает формулу замещения: жить не в «настоящем», а «кстати».
Ведь «жить» — это то, в отношении чего мы обладаем наименьшей рефлексивной силой, и даже то, в отношении чего дистанция, требуемая актом рефлексии, равна нулю.
В конце концов, «жить» более уже не должно приспосабливаться ко времени: нет больше точек на линии, нет больше линии времени. Но в конечном итоге «жить» все же могло бы пониматься на основе совершенно другого способа его разворачивания: посредством совпадения с каждым отдельным моментом, каким бы тот ни был, в непрерывном переходе от одного момента к другому. «Когда я танцую, я танцую; когда я сплю, я сплю…» — провозгласил Монтень в формулировке, которая наилучшим образом передает полноту этого совпадения, воплощающего мудрость и бесконечно обновляющегося"[17].
Конечно, концептуализируя работу Франсуа Жюльена в духе Гуссерля, можно сказать, что он осуществляет феноменологическую редукцию сознания, сознающего время, проходит к структурам чистого сознания времени, но, на мой взгляд, более правильным будет охарактеризовать его творчество как современную философскую мысль, включающую методологические построения, сравнительное культурологическое исследование, распредмечивание привычных понятий времени, построение новых реальностей и понятий на основе средств и схем современной философии, методологии и гуманитарных наук. Вся эта работа ведется для решения по меньшей мере трех задач: дать анализ проблем и затруднений, возникших в области мышления о времени, наметить альтернативные представления, преодолевающие кризис темпорального сознания, создать одну из предпосылок выводящих культуру в новые горизонты (ради жизни).
По сути, я бы принял все эти задачи и для себя, но попытался решать их именно в рамках методологии и культурологии. В этом случае нужно будет сделать ряд уточнений. Франсуа Жюльен сопоставляет понятие европейского времени с китайскими представлениями и делает это прекрасно. Но почему бы тогда (при последовательном проведении культурологического подхода) не сравнить представления о времени в разных культурах европейской линии. Тем более сам Ф. Жюльен понимает, насколько различными были понимания времени в разных культурах (античной, средневековой, ренессансной, Нового времени) и насколько разные задачи при этом решались. Концепция времени, показывает Франсуа Жюльен, переустанавливается каждой новой философией.
В одном случае время «представляют по образу пространства и параллельно ему (от Аристотеля до Канта); то независимо от него (Августин) и в отличие от него (Бергсон); то для того, чтобы мыслить движение (Аристотель); а то для того, чтобы мыслить противоположное ему — Единое, Умопостигаемое, Бога (Плотин, Августин). Кант рассуждает о времени, чтобы установить возможность априорных синтетических суждений. Гуссерль мыслит время, чтобы через единство интенции получить доступ к „интенциональности“, составляющей время, а вследствие этого — к абсолютной объективности сознания… само „время“ вместо того, чтобы сделаться объектом в полном смысле этого слова, являлось скорее тем, что каждый раз делает возможной новую инициативу философии, предоставляя ей полную свободу. Это и делает понятие времени до такой степени ключевым и в то же время — от философии к философии — способствует тому, что оно оказывается не столько обогащенным или преображенным, сколько радикально переориентируется — или, точнее, перенастраивается»[18].
Я бы как культуролог сказал иначе: концепция времени переустанавливается в каждой культуре и каждой крупной культурной личностью, новые же философии есть следствие этих двух обстоятельств. Теперь вопрос — на самом ли деле понятие времени является ключевым для становления новой философии? Как этот тезис согласовать с другим, по которому европейское время «неотвратимо нависает над жизнью«? И здесь стоит обратиться к становлению этого понятия.
Платон и Аристотель, создавая понятие времени, решали две разные задачи: во-первых, им нужно было так охарактеризовать движение и изменения, чтобы их можно было мыслить непротиворечиво, во-вторых, они искали источник (причину) движений и изменений. При этом если Платон разводит представления о движении и изменении, то Аристотель скорее их сближает, рассматривая движение как вид изменения. Франсуа Жюльен очень верно отмечает, что представление о времени, встав на место богов, и выступило в качестве источника движения и изменения, причем не простого, а могущественного.
«Поскольку боги, — пишет он, анализируя происхождение понятия времени, — по крайней мере в их первоначальном виде отступают на задний план, „время“ некоторым образом замещает их в чисто объяснительном, абстрактном плане. Этот высший, абсолютизированный образ времени, как мы видим, вновь появляется у Аристотеля после того, как он определяет время физически как число движения, и я поражаюсь тому, что комментаторы не уделяют ему большего внимания…» «Вот почему, — отмечает Аристотель, — мы продолжаем говорить, что время поглощает… все вещи испытывают его воздействие, оно „само по себе есть причина разрушения“»[19].
Заметим теперь, что для того, чтобы непротиворечиво охарактеризовать движения и изменения, нужно было установиться самому мыслящему, нащупать определенные принципы, с точки зрения которых движения и изменения могли быть описаны единообразно и сопоставлены. Дело в том, что мышление, как я показываю в своих исследованиях, — это не только новый (сравнительно с архаическими временами) способ получения знаний в рассуждениях и доказательствах, но и способ установления в мире античной личности[20]. Личность — это человек, переходящий к самостоятельному поведению, самостоятельно выстраивающий свою жизнь и представления о действительности; все это предполагает нащупывание принципов жизни самой личности («Не на то надо смотреть, — писал Апулей, — где человек родился, а каковы его нравы, не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь»[21]).
Так вот один из принципов нового подхода, позволяющего мыслящей личности непротиворечиво охарактеризовать движения и изменения, был принцип объяснения движений и изменений с помощью времени как их сакральной причины. Второй принцип, ясно установленный еще Платоном, — это связь времени и вечности. Этот принцип всецело опирался на платоновскую идею как самотождественную сущность («Не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, — писал Платон в „Пармениде“, — человек не найдет куда направить мысль и тем самым уничтожит саму возможность рассуждений»[22]). «Вслед за Платоном, — пишет П. П. Гайденко в Новой философской энциклопедии, — Плотин считает необходимым определение времени через вечность: „Только если познано то, что является образцом, можно уяснить и сущность образа. Вечность же — это умопостигаемое бытие, неизменное и неподвижное, самотождественное. О ней нельзя сказать, что она „была“ или „будет“, но только „есть“. Она покоится в едином („Эннеады“, III, 7, 1, 5)“. Если действительность проецировалась на мир идей (истолковывалась через уподобление идеям), то она характеризовалась Платоном как вечность, если же — на мир вещей, то как-то, „что существует временно (возникает и погибает)“»[23].
Третий и четвертый принципы сформулировал Аристотель: время измеряется движением и структурируется через различение (душой; «ибо по природе ничто не способно считать, кроме души и разума души»[24]) прошлого, настоящего и будущего. Почему движение, а не изменение было выбрано Аристотелем в качестве меры и принципа? Вероятно, потому, что изменения казались все разными (какая, например, связь между рождением, строительством, смертью или движением планет?); движения же выглядели более однородными, чем изменения, кроме того, их худо-бедно уже учились измерять (равномерное движение, неравномерное). Но было и еще одно обстоятельство.
Платон и Аристотель искали объяснение (причину) для всех движений и изменений (и земных, и небесных) и видели их в фигурах Демиурга (Платон) и Разума (Аристотель). Визуально же Разум представал в движениях планет и неба. Собирая все вместе, Аристотель строит следующую схему: Разум как божество и небо движет своей мыслью (мысля) планеты и все на земле («Есть нечто, что движет, не находясь в движении, нечто вечное и являющее собой сущность. Но движет так предмет желания и предмет мысли: они движут, не находясь в движении. При этом разум, в силу причастности своей к предмету мысли, мыслит самого себя. И жизнь, без сомнения, присуща ему, ибо деятельность разума есть жизнь, а он именно деятельность: и деятельность его, как она есть сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь»[25]) — Движет Разум и физически, и в форме изменения вещей, т. е. Аристотель невольно обобщает, начинает истолковывать изменения как вид движения, обусловленного Разумом. Последствия этого не замедлили сказаться: изменения были редуцированы до механического движения, а время истолковано через движение.
Почему, наконец, конструкция «прошлое, настоящее, будущее»? Во-первых, потому, утверждает Франсуа Жюльен, что таков греческий язык. «Чтобы доказать существование времени, — замечает он, — достаточно единственного факта наличия спряжения (мы говорим „было“ или „будет“). Бог, говорит Плотин, не может „ошибаться“, выражаясь так»[26]. В то же время китайский язык не имеет спряжений, он «не предназначен для того, чтобы производить различение между временами», и как факт в Китае нет понятия времени[27]. Когда же в конце XIX в. китайцы «познакомились с европейской мыслью, они передали — вынуждены были передать — термин „время“ через неологизм, построенный на заимствовании из японского. „Время“ было переведено на китайский как „между-моментами“, а пространство „параллельно“ как „между-пустотами“»[28]. Во-вторых, возможно, определенную роль здесь сыграло новое мироощущение, складывающееся под влиянием Сократа, Парменида, Платона, Аристотеля и ряда других философов. Для них мир обновлялся, причем именно за счет их усилий; мифология вытеснялась на второй план, а на первый выходили новые рациональные представления — представления о сущности, атомах, идеях, движении и изменении и др. Это обновление действительности и схватывалось не только в понятиях становления (Платон) и изменения (Аристотель), но и в конструкции «прошлое, настоящее, будущее».
И по мнению О. Румянцева, греческий тип тематизации времени связан с греческим языком, точнее, с их фонетическим письмом. С. Б. Долгопольскиий, пишет Румянцев, обращает внимание, что если до греков был известен только показ (делай, как данный герой) в качестве способа передачи знания, то греки, разработав фонетическое, или алфавитное (а не иероглифическое), письмо, нашли новый метод трансляции знаний (и распоряжений) — теперь можно прочесть данную книгу (и закон), до этого ни разу не видев и не слышав, как ее читают. И поэтому у них возникла проблема: если мысль можно отделить от ее носителя посредством письма, то как относится выражение мысли к самой мысли? Выражение может циркулировать отдельно от мысли, может подражать мысли, миметировать мысль. Сложилось положение, когда можно делать (в том числе и думать), не понимая. Греческая культура выработала принцип «Один разумно движет, оставаясь неподвижным, остальные разумно движутся, оставаясь неразумными» (этой формулировкой мы обязаны М. К. Петрову). Такая внемирная позиция того, кто разумно движет, оставаясь неподвижным, — одно из важнейших условий возможности открытия (тематизации) греками Логоса, который есть и мысль, и закон, и слово, что созвучно тематизации индивидуального самосознания. Поскольку Логос понят как такой закон изменчивого мира, который изменяется вместе с миром, считает Румянцев, то открывается возможность понимания времени как подвижного образа вечности.
Истолкование времени через движение и языковую конструкцию «прошлое, настоящее, будущее» имело глубокие последствия. Связанная с изменениями событийность вытесняется везде, где используется понятие «время» (вытесняется в искусство и обычный язык), кроме того, мыслить «время» не удается без противоречий; они анализируются от Аристотеля до Франсуа Жульена. Таковы основные итоги (и положительные, и негативные) античного становления понятия «время». Но это понятия кардинально переустраивается в Средние века.
Устанавливаясь в мире заново, личность в средневековой культуре нащупывает и новые принципы, в частности, для понимания времени. «В тебе, душа моя, — пишет Августин в „Исповеди“, — измеряю я время. Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего еще нет? Но в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать, что прошлого уже нет? Но и до сих пор есть в душе память о прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено длительности: оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в небытие то, что появится»[29].
«Христианство с его догматом о боговоплощении, — разъясняет П. Гайденко, — позволяет по-новому взглянуть и на память, и на историю. Не в уме только, а в человеческой душе, неразрывно связанной с плотью, теперь заключена онтологически значимая реальность, и не случайно время как форма бытия души, как единство воспоминания, восприятия и ожидания становится предметом внимания у Василия Великого, Григория Нисского, Августина и др.»[30].
Действительно, в Средние века человек (и «простец», и «высоколобый») отождествляет себя прежде всего с Творцом, поскольку считает себя созданным «по образу и подобию» последнего. Но ведь и мир создан Богом. В результате, как пишет П. Гайденко, человек «вырван из космической, природной жизни и поставлен вне ее; по замыслу Бога, он выше космоса, должен быть его господином. Августин вслед за апостолом Павлом открывает „внутреннего человека“, которому ничего в космосе не может соответствовать и который целиком обращен к надкосмическому Творцу»[31].
Как творец Бог является личным для каждого средневекового человека. Личный же Бог, по мнению П. Гайденко, «предполагает и личное к себе отношение; отсюда изменившееся значение внутренней жизни человека: она становится теперь предметом глубокого внимания, приобретает первостепенную религиозную ценность»[32].
Но разве античный человек ничего не знал о своей внутренней, душевной жизни? Анализ античных произведений показывает, что почти ничего, он ее как бы не замечал. И главным образом потому, что не имел образца и устремлений, относительного которых внутреннюю жизнь можно было увидеть и описать. С появлением Творца, особенно в лице Сына, средневековый человек, стремящийся уподобиться Богу, вдруг обнаруживает, что он не такой, каким должен быть «во Христе», что в нем действуют силы и стихии, противоположные Творцу. Как признается апостол Павел, «ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
«Между тем я, — пишет Августин в „Исповеди“, — служивший поприщем борьбы, был один и тот же. По своей же воле я дошел до того, что делал то, чего не хотелось мне делать. У меня не было никаких извинений. Я не мог сказать, что потому именно доселе не отрешился от мира и не последовал Тебе, что не знаю истины; нет, истину я познал, но, привязанный к земле, отказывался воинствовать для Тебя. Я одобрял одно, а следовал другому. Но да исчезнут от лица Твоего, Боже, те, которые, видя две воли в борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два духовных начала противоположного естества, одно доброе, а другое злое» (курсив. — П. Г.)[33].
Обратим внимание на то, что Августин, сравнивая свое поведение с тем, которое предписывалось Священным Писанием, не только обнаруживает, как пишет Гайденко, «неподчинение души самой себе», т. е.
естественный ее план, но и в духе античного мышления пытается объяснить, почему он так себя ведет (поскольку был «привязан к земле»), а также собирает силы для правильной жизни, для делания себя человеком, приближающимся к человеку «внутреннему» (поэтому и отрицает манихеев, утверждавших существование в человеке двух начал — добра и зла). Конституирование и формирование внутренней жизни предполагало, таким образом, не только установку средневекового человека на переделку себя из человека «ветхого» в «нового» (внутреннего), отсюда, кстати, и средневековое значение воли, но и рациональное объяснение уклонений (грехопадений) на правильном пути, и мобилизацию сил, чтобы снова идти правильным путем.
Как же на таком фоне могло быть осмыслено время и что здесь подлежало «измерению»? Прежде всего, отношение к Богу, устремление к Нему или отход от Него. В центр становится настоящее и работа человека над собой («растяжение души», она и измеряет[34]). Но одновременно сохраняется и античное понимание. «Признаюсь Тебе, Господи, — пишет Августин, — я до сих пор не знаю, что такое время, но признаюсь, Господи, и в другом: я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю о времени и что это самое „долго“ есть не что иное, как некий промежуток времени»[27].
Спрашивается, может ли новая концепция времени, измеряемого душой, центрированного на настоящем («настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего») и включенного в обычное время (или, наоборот, обычное античное время входит в это новое средневековое), рассматриваться как развитие аристотелевской концепции? Думаю, нет. Концепция Августина представляет собой новообразование, хотя одна из ее составляющих заимствуется в Античности. Концепция времени Августина и концепция времени Аристотеля задают две разные темпоральные реальности. Будем в дальнейшем такие темпоральные реальности называть «концептуально-событийными». Термин «концепт» здесь призван указать на то, что формирование подобных реальностей предполагает концептуализацию, а «событие» — на то, что в этих реальностях задаются и проживаются определенные события. Европейское время начинает «нависать над жизнью» только тогда, когда разные концептуально-событийные реальности времени редуцируются к какой-нибудь одной: античного времени, или естественно-научного, или психологического.
Замечу, культурологический подход хорош тем, что дает материал для исследовательской работы, поскольку позволяет говорить о разных переживаниях времени в Античности, Средневековье и т. д. При этом он не освобождает от необходимости формулировать — переживания «чего» мы обсуждаем? Все же речь идет о разных концептуально-событийных реальностях времени. Предлагая понятие «концептуальнособытийные реальности времени», я хочу, с одной стороны, сказать, что у нас нет и не может быть концепта «времени вообще», а только — истории переживания конкретного времени греками, средневековыми мыслителями и т. д., с другой — напротив, подчеркнуть необходимость рассматривать ассимиляцию предыдущих представлений о времени в последующих культурах. Одновременно я считаю, что при такой ассимиляции всегда происходит переосмысление времени, или, в другом языке, мыслящий заново устанавливается в понятии времени. Говоря же вслед за Жюльеном, что европейское время начинает «нависать над жизнью», я имею в виду редукцию разных культурно-исторических способов концептуализации времен к какому-нибудь одному.
Можно показать, что под приведенное понятие подходят и многие другие темпоральные реальности: представление о времени Фомы Аквинского, Суареса, Декарта, Ньютона, Локка и Юма, Канта, Фихте, Бергсона, Дильтея, Брентано, Гуссерля, Хайдеггера, Гадамера[36], т. е. все они представляют собой темпоральные концептуально-событийные реальности. А китайский сезон? Это тоже концептуально-событийная реальность, но, как старается показать Франсуа Жульен, не темпоральная. Точнее, у такой реальности, назовем ее «квазитемпоральной», есть темпоральная составляющая, иначе бы сезон не мог размещаться во времени и использоваться как одна из мер времени.
Одну из первых квазитемпоральных реальностей мы находим в той же «Исповеди» Августина. Из какой позиции Августин описывает свою историю и биографию? С одной стороны, он вспоминает и пересказывает собственные переживания и мысли, которые его волновали в прошлом, когда он еще не был верующим. Эта позиция может быть названа условно «субъективной». С другой стороны, Августин все происходившие с ним события излагает как человек, уже уверовавший в Бога, хотя известно, что к христианству он приходит не сразу и не скоро. Совмещение этих двух позиций — субъективной и как бы объективной — порождает странную реальность: события детерминируются страстями и неверующей личностью, и одновременно здесь просматривается замысел Божий, Августин вроде бы действует сам, и вроде бы его ведет Бог. Если понимать все в рамках обычного времени, то получается, что у Августина есть возможность глядеть на себя прошлого из вечности. Вообще-то, взгляд из точки своего обращения-покаяния, которое есть событие во времени, но в свете вечного, вроде бы не отрицает видение себя еще как неверующего тоже во времени. Дело в другом, совмещение обоих точек зрения делает время труднопонимаемым.
Вот еще два интересных примера квазитемпоральной реальности. Вспомним проанализированное выше мое общение с А. С. Пушкиным, где я старался предоставить последнему полноценный голос. Опять же получается, что я, подобно Августину, преодолел время, хотя Александр Сергеевич давно умер, я смог встретиться и общаться с ним. Мне можно здесь возразить. Августин не преодолел время, иначе ему нет смысла нести епископское служение, он живет с вечностью, с Богом, но во времени, и это подчеркивается и жанром исповеди, которую он повествует «в добрые уши церкви», возможно, чтобы она не соблазнялась о нем, знала его историю и для назидания своей паствы, ее укрепления в вере, чтобы его пасомые не отпали. А преодоление времени в случае исследования Пушкина, мотивированного личностным интересом исследователя, обусловленным идентификацией с Пушкиным как жизненно значимым образцом (как у Чаадаева), происходит потому, что это время культуры, а не истории. Причем «преодоление времени» здесь возможно, потому что свершилось событие смерти Пушкина, которое определяет точку вненаходимости по отношению к его жизни и творчеству, делая невозможным живое общение с ним, во время которого он мог бы сказать или сделать нечто новое, неожиданное, радикально меняющее или развивающее смысл его биографии.
Из этой точки вненаходимости, обусловленной событием смерти героя, его биография может быть рассмотрена как целое, и неважно, что она как целое может быть даже радикально переосмыслена, когда откроются неизвестные ранее факты биографии, или она будет по-новому понята. Именно это и делает возможным общение с ним в пространстве и времени культуры как с субъектом завершенной биографии, носителем состоявшегося и завершенного голоса. В этом пространстве и времени культуры происходит поэтому квазиобщение с такими субъектами. Квази — поскольку из точки их вненаходимости, как с субъектами завершенных образов культуры, как с культурными героями.
Реальность же общения с ними есть реальность незавершенной жизни исследователей, которая наполнена и чревата событиями и встречами, оценками и переоценками, спорами и открытиями. И этот тип общения в пространстве культуры и своеобразное преодоление времени в нем делает понятным и условия культурологической компаративистики вообще, тот своеобразный способ объективирующей диа (поли)логичности, который использует культурология. Возможность анализа и сравнения разных темпоральностей тоже предполагает, что эпоха завершилась, отжила, по крайней мере в том отношении, в котором она может теперь рассматриваться как завершенное целое. Неважно, что образ этого целого у исследователя сам не завершен, важно, что можно строить его как образ завершенного целого. Темпоральность эпохи можно концептуализировать, когда осуществимо отстранение от жизни этой эпохи. Например, для Августина уже циклическое время Античности может быть концептуализировано, т. к. он выходит за его рамки, размыкает цикл в линию и это различение сосредоточивает в душе, поскольку она обращается к Богу. Поэтому он вообще ставит вопрос о времени. Возможно, многие концептуализации времени в мыслительной традиции Европы представимы как обозначение выхода за рамки определенной эпохи.
Все эти соображения-возражения правильны, если только мы считаем культуру особой формой рефлексии, а ее персонажей — символическими образами. Тогда Сократ, или Августин, или Пушкин давно умерли и мы не можем с ними встретиться и общаться. Но если культура, как я показываю, является воспроизводящейся формой социальной жизни (воспроизводящейся в новых последующих культурах), а культурные герои — активные участники социальной жизни, то в этом случае понятие «время культуры» перестает работать.
Теперь второй пример. В 2001 г. вышла книга нашего известного историка, египтолога А. О. Большакова «Человек и его Двойник» (СПб., 2001). Сама идея двойника человека — «Ка», лежащая в основе египетского мироощущения как Старого царства, так и Среднего (3—2-е тыс. до н. э.), поразительна. Египтянин той эпохи был уверен, что его жизнь может продолжаться бесконечно на том свете, в царстве мертвых (такой человек и назывался Ка), однако при условии, что он, во-первых, запечатлевает себя и события своей жизни с помощью скульптуры и других изображений, во-вторых, запасается поддержкой со стороны живущих прежде всего в плане жертвоприношения и сакральных процедур. В этом отношении Ка лучше называть не двойником, а «человеком того мира», кратко «томиром». Представление о Ка, пишет Большаков, тесно связано не только с изображениями (статуями и настенными барельефами и рисунками), но и с именем человека. В семантическом отношении Ка — однокоренное слово с самыми разными словами: именем, светом, освещением, размножением, беременностью, работой, пищей, садовником, колдовством, мыслью[37].
Создав изображение, обычно самого заказчика, его семьи и хозяйства, скульптор (художник) передавал изображение жрецу. Дальше начиналась процедура оживления, или рождения, томира, так называемый ритуал «отверзания уст и очей». Он состоял в том, что «жрец касался глаз и рта статуи теслом» (резцом или жезлом), причем действие сопровождалось «диалогами жрецов, имеющими мифологический характер и восходящими к истории „воскресения“ бога смерти Осириса»[38]. Например, на одной стеле мы читаем: «Открыто лицо имярека, чтобы видел он красу бога во время процессии его доброй, когда он идет в мире в свой дворец радости. Открыто лицо имярека, чтобы видел он Осириса, когда тот делается правогласным в присутствии двух девяток богов, когда мирен он во дворце своем, довольно сердце его вечно… (в данном случае выражение „открывать лицо“ синонимично выражению „отверзать уста и очи“)»[39].
Судя по некоторым памятникам, обряд «отверзания уст и очей» совершался рано утром, при восходе солнца — главного бога Египта Ра. Но в часовнях и храмах, где настенные изображения и статуи пребывали в полной темноте, использовались факелы и светильники. Об этом свидетельствует, например, договор сиутского номарха со жрецами, в котором «специально оговаривается, где и когда перед его статуями должен возжигаться свет, а также особо упоминается обеспечение ламп фитилями». Большаков показывает, что свет, так же как и пища, выступали двумя основными условиями загробной жизни томира. Именно поэтому последнему необходимо было приносить жертвы (это главным образом пища) и обеспечивать освещение погребальных помещений. Тем самым жизнь и благополучие томира целиком зависели от живущих.
Важным результатом исследований Большакова является доказательство того, что мир, в котором живет томир, является улучшенной копией обычного мира, где акцентируются и актуализируются желаемые для человека события, например, его значение, власть, масштаб хозяйства. «Искажения касались, конечно, не только хозяйства вельможи, но и его собственного облика. Уже в самой природе Ка он в своей вечности всегда молод, силен, здоров, даже если смерть застала человека дряхлым стариком. Таким образом, хозяин мирадвойника не только наслаждается материальными благами, но и пребывает при этом в идеальном, наиболее желательном состоянии. Этот мирок, представляющий собой несколько улучшенную копию вельможного хозяйства, замкнутый сам на себя и ни в чем за своими пределами не нуждающийся… это не какая-то искони существующая преисподняя… не общее обиталище для многих, а закрытая для чужих территория, предназначенная только для своего владельца и его родни и челяди»[40].
Идея послесмертного, почти райского существования томира может быть названа первой в истории человечества идеей индивидуального «спасения». На нее выходят отдельные представители египетской элиты под влиянием следующих обстоятельств. Как показывает Большаков, это были люди хотя и полностью подчиненные фараону, но одновременно активные и властные, обладающие к тому же большими средствами. Их явно не устраивала загробная жизнь обычных людей. С точки зрения представлений египетской культуры души умерших (за исключением души фараона, который был не только человек, но и бог солнца) после смерти многие сотни лет проходят под землей в царстве мертвых Осириса цикл очищения-возрождения, но и при этом они лишены абсолютно всех благ жизни.
В то же время египетская мифология и мироощущение подсказывали выход. Действительно, как утверждают египетские сказания, боги создали человека из глины (праха), вдохнув в него жизнь. То есть человек состоит из двух составляющих — тела и души, отчасти совпадающей с именем. Когда человек умирает, его тело пожирают демоны, а душа вынуждена отправиться в царство мертвых. Но известно, что изображения богов и царей существуют практически вечно, не разрушаясь. Что если душу поместить в изображения, если в них вдохнуть жизнь? Нельзя ли попросить богов, конечно, за особые заслуги (в наличии последних знатные египтяне не сомневались), чтобы боги создали улучшенный дубликат человека, который бы в царстве мертвых продолжал пользоваться теми же благами, а возможно, и лучшими, что и при жизни?
Иначе говоря, в качестве изображения, в которое с помощью богов и жрецов входит Ка, человек может продолжать жить и после смерти. Правда, а что он будет делать на том свете без пищи, света, своих любимых слуг, жен, животных, вещей? Стоит ли тогда овчинка выделки? Да, но с помощью тех же сакрализованных изображений, в которые боги вдохнут жизнь, все это можно переправить в тот мир. Действительно, в гробницах изображались не только сами их владельцы, но и их семья, челядь, любимые животные и предметы. Отверзались не только уста и очи владельца гробницы, чтобы последний мог есть и видеть, но и оживлялись все другие изображенные люди, любимые животные, источники света, пищи и другие предметы.
Решение древнеегипетскими жрецами проблемы бессмертия интересно сравнить с тенденциями, складывающимися в наше время. Геннадий Ваганов в своих последних статьях показывает, что в настоящее время формируется практика прижизненного воплощения, правда, непонятно чего, в электронные формы. Техника оцифровывания, Интернет и другие современные технологии позволяют нам видеть и общаться с виртуальным субъектом, человеческий прототип которого к этому времени мог уже умереть. Опять оживилась мечта достижения бессмертия, но в данном случае в электронном виде.
А почему нет, чем, спрашивается, электронная форма и семиотика хуже художественных воплощений? И там и здесь присутствует вера в то, что видимое (неважно, что это — скульптура или образ на экране компьютера) — это наша душа, которой обеспечено вечное существование. В объяснении здесь, конечно, нуждается столь стойкая вера в бессмертие. Уже Аристотель считал такую веру наивной. Но, очевидно, эта вера является производной от неистребимого желания вечной жизни. И поскольку это желание возрождается вновь и вновь, возрождается и соответствующая вера в бессмертие нашей души. А уж в какой ладье, каменной или электронной, отправиться в вечность, не столь существенно. Главное отправиться и надеяться достигнуть берегов мира, где наша жизнь не подвержена тленью и исчезновению.
Задумаемся теперь над тем, что видит древний египтянин, разглядывая в гробнице свое изображение. Это для нас изображение, а для него — это он сам на границе этого и того мира. Недаром в гробнице изображались двери, ведущие в царство мертвых. Получается, что гробница — это своеобразный дисплей, где человек встречается со своим двойником. Назовем его «виртуальным субъектом» и попытаемся понять, что это такое. Виртуальный субъект похож на обычного человека не во всем. Он больше соответствует, с одной стороны, социальным требованиям и сценариям, с другой — желаниям (идеалам) самого заказчика. Действительно, реально заказчик (например, военачальник или управитель работ) может в данный момент находиться в опале и постареть, но заказ он делает, исходя из своих материальных возможностей, а также понимания того, кем он является и каким бы хотел выглядеть для других.
Родившись на свет, виртуальный субъект получает долгую жизнь. Но его жизнь, как показывает Большаков, реально не была бесконечной: кто-то разрушил гробницу, в результате войн или других обстоятельств томира перестают обслуживать живущие, иногда сам фараон издает указы по уничтожению изображения и имен тех людей, прегрешения которых неожиданно открылись. Другими словами, виртуальный субъект хотя и живет значительно дольше своего прототипа, но все же он смертен. И он именно живет: питается заботами и вниманием живущих, заболевает и хиреет, если последние отворачиваются от него, он оказывает существенное влияние на живущих, которые по образу виртуального субъекта устанавливаются (идентифицируются) как представители египетской культуры. Нельзя ли тогда предположить, что виртуальный субъект — это не только семиотическая конструкция и миф, но и полноценная форма культурной жизни, что кроме нас с вами в культуре живет также виртуальное человечество. И встречаемся мы с виртуальными субъектами в пространстве дисплея, только понимать его нужно расширительно. Дисплей — это и реальность картины, и реальность книги, и экран компьютера. Это любое место, где мы можем увидеть или услышать виртуального субъекта и даже общаться с ним.
Виртуальное человечество значительно многочисленнее актуального. Оно оказывает на нас огромное влияние, выступая в форме то культурных традиций, то социальных норм и идеалов. Кому-то может показаться, что я мистифицирую реальность, приписывая неживому и условному настоящую жизнь. Думаю, все наоборот. Это мыслители с естественно-научной ориентацией долго мистифицировали культурную реальность, приписывая ей условность и нежизненность, затрудняя тем самым нашу жизнь. Пришло время признать за культурой и нашим символическим творчеством их подлинное существование — быть настоящей жизнью. Жизнью биологической, социальной, индивидуальной.
Другими словами, если я как личность установлюсь по-новому, считая культуру полноценной формой социальной жизни, трактуя персонажей типа «мой Пушкин» или томир в качестве виртуальных субъектов, то я высвобождаю место, где время обладает странными характеристиками: с одной стороны, на заднем плане течет обычное время (я хорошо знаю, когда жили древние египтяне и Пушкин), с другой — все мы (и древние египтяне, и Пушкин, и я) живем в топосе (реальности), где время не обладает измерениями «прошлое, настоящее, будущее». Но оно течет и разрешается от бремени событиями, правда, если только я сумел осуществить эффективную концептуализацию. Например, смог реализовать гуманитарную стратегию исследования, удовлетворяющую установке М. Бахтина — предоставить полноценный голос изучаемой личности, или другую стратегию исследования, позволившую понять, как древний египтянин создавал условия для рождения томиров и почему он был уверен, что они живые. Что в этих концептуально-событийных реальностях течет, какие события сменяют друг друга? В первом случае меняются мои взаимоотношения с Пушкиным, во втором — создаются условия для рождения томира, он творится богами (рождается), складываются непростые отношения между живущими и томиром.
Итак, помимо европейского времени, противопоставленного другим культурным квазитемпоральным реальностям (например, китайскому сезону), стоит различать разные концептуально-событийные реальности времени как внутри европейской культуры, так и принадлежащие разным типам культур. Стоит заново обсудить и значение европейского времени как фактора, конституирующего нашу жизнь. В рамках техногенной цивилизации это значение огромно, поскольку время не только выступает важным фактором организации большинства жизненных процессов, но и вносит свой вклад в смысл социальности (идеи прогресса, развития). Но, если техногенная цивилизация, как утверждают многие, завершает свой путь, значение времени может существенно измениться. Спрашивается, в каком направлении и насколько реален этот прогноз?
Во всяком случае, в настоящее время мы уже не можем трактовать время как натуральный феномен и рассматривать как единственное основание исторической или социальной динамики. Распредмечивание представлений о социальной реальности и природе, новые техники истолкования событийности, новые способы жизни обусловливают становление новой реальности культуры (новой культуры), где измерение динамики и процессов изменения, возможно, будет происходить другими способами. Если, например, я могу встретиться и общаться с культурными героями или просто с давно умершим другом, то, хотя все это, как писал Августин, происходит во времени, разворачивающаяся событийность от этого обычного времени мало зависит, а описание и измерение ее протекания предполагают не столько темпоральные структуры, сколько конструктивные и символические.
- [1] Жюлъен Ф. О «времени». Элементы философии «жить». — М., 2005. — С. 62, 80,156, 182, 210, 215—216.
- [2] Там же. — С. 84, 153—154.
- [3] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 256—257.
- [4] Платон. Апология Сократа. — С. 95, 96.
- [5] Платон. Послезаконие // Собр. соч.: В 4 т. — М., 1994. — Т. 4. — С. 458.
- [6] Платон. Апология Сократа. — С. 93.
- [7] Аристотель. Никомахова этика // Собр, соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 55.
- [8] Хеше В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггераи современность. — М., 1991. — С. 144.
- [9] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 33—34, 71, 119, 120, 204—205, 218.
- [10] Там же. — С. 50—51.
- [11] См.: Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 72—73.
- [12] Там же. — С. 73—74.
- [13] Там же. — С. 84, 175.
- [14] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 28.
- [15] См.: Там же. — С. 85.
- [16] Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие: статьи и выступления. — М., 1993; Хесле В. Философия техники М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггераи современность. — М., 1991.
- [17] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 17, 153, 154—155.
- [18] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 97—98.
- [19] Там же. — С. 124—125.
- [20] Розин В. М. Предпосылки и особенности античной культуры. — М., 2004; Он же. Античная культура. Этюды исследования. — М.; Воронеж, 2005.
- [21] Апулей. Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинений в магии // Апология. Метаморфозы. Флориды. — М., 1960. — С. 28.
- [22] Платон. Парменид. — С. 375.
- [23] Гайденко П. П. Вреди // НФЭ. — Т. 1. — С. 452, 454.
- [24] Аристотель. Физика. — С. 86.
- [25] Аристотель. Метафизика. — С. 211.
- [26] Жюльен Ф. Указ. соч. — С. 46.
- [27] Там же.
- [28] Там же. — С. 74.
- [29] Августин А. Исповедь // Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. — М., 1992.— С. 173, 176.
- [30] Гайденко П. П. Время. — С. 452.
- [31] Гайденко П. П. Эволюция понятия наука. — С. 418—419.
- [32] Там же. — С. 409.
- [33] Цит. по: Гайденко П. П. Эволюция понятия наука. — С. 418—419.
- [34] См.: Августин А. Указ. соч. — С. 174.
- [35] Там же.
- [36] Гайденко П. П. Время // НФЭ: В 4 т. — М., 2000. — Т. 1.
- [37] См.: Большаков А. Человек и его Двойник. — СПб., 2001. — С. 70—79.
- [38] Там же. — С. 89—90.
- [39] Там же. — С. 91.
- [40] Большаков А. Указ. соч. — С. 214, 220—221.