Психотехника и психология деятельности
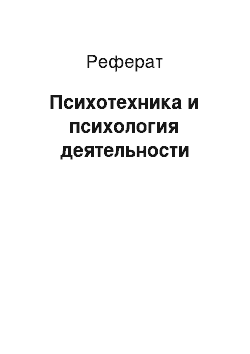
Таким образом, механизм активных действий, согласно Гальперину, в самых общих чертах оказывается тем же, что и механизм условных реакций, только со следующими существенными различиями: он ограничивается выделением объективной связи между объектами и психическим отражением наличной ситуации; он не получает подкрепления в своей физиологической основе, поскольку срабатывает один раз. Если же этот… Читать ещё >
Психотехника и психология деятельности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Потребность, деятельность и подкрепление
Перейдем к анализу собственно деятельностной психологии, оказавшей значительное влияние на советскую психологию. Эта психология тоже базируется на своей психотехнике. Значительным вкладом в развитие этой психологии является теория деятельности А. Н. Леонтьева. В теории и психотехнике деятельности есть несколько психотехнически значимых моментов. Попытаемся проанализировать их, реконструируя базовые психотехнические основания данной теории.
Психология и психотехника А. Н. Леонтьева. Леонтьев определяет деятельность как процесс удовлетворения потребности. Если, следуя Леонтьеву, понимать деятельность как нечто всецело определяющееся состоянием потребности, то саму деятельность в исходном ее варианте можно определить как процесс, инициированный интенцией потребления. В этом смысле вполне можно представить ситуацию, когда активность со стороны организма минимальна в процессе потребления. Ситуация является ситуацией потребления, но все же она минимально деятельностна. Аналогичное состояние можно наблюдать и у некоторых низших животных, которые по большей части всасывают пищу из среды или она непосредственно перетекает в организм по физическим законам. Другими словами, вполне возможно, по крайней мере — теоретически, представить себе ситуацию бездеятельностного потребления.
Потребление или интроекция пищи — это прежде всего процесс непосредственного всасывания, поглощения. Изнутри организма этот процесс ощущается сначала как состояние неудовлетворения, недостатка чего-то, а затем как процесс постепенного насыщения, ассимиляции, удовлетворения и успокоения. В некотором смысле так можно описать и процессы функционирования потребности младенца. Здесь в определенном отношении тоже наблюдаются процессы непосредственного потребления: в норме ребенка кормят и обслуживают, он же только непосредственно интроецирует.
Это, конечно, некоторое идеальное положение, крайность. В действительности процессы потребления обычно связаны с опредс;
ленного рода фрустрацией. Может быть, не случаен поэтому тот факт, что у многих высших животных, прежде всего у хищников, пищевой инстинкт сопровождается агрессией. Вероятно, именно препятствия на пути потребления порождают деятельность как специфическую активность в нужном направлении. Эта активность определяется фрустрацией, задержкой процессов автоматического потребления, столкновением этих процессов с внешними или с внутренними препятствиями. В таком случае можно сказать, что фрустрация непосредственного потребления порождает специфическую активность, или, по-другому, механизмом, рождающим деятельность, активность, является фрустрация процессов непосредственного удовлетворения потребности. Процесс потребления в своем исходном, простейшем варианте — реактивный, он запускается как реакция на внутреннее состояние, на потребность. Если эта реакция заканчивается непосредственным положительным эффектом, то никакая деятельность не развивается.
Выделение процессов интроекции как самостоятельных процессов не является просто теоретической (генетической, филогенетической) абстракцией. Если брать реальное воспитание и развитие ребенка, то здесь учет этих процессов имеет непосредственное значение. Младенец не действует для удовлетворения своих потребностей, но процесс его потребления организуется матерью. Младенец, да и вообще ребенок, является культурным потребителем. И его воспитание определяется тем, каким образом организуется его потребление. Именно из этого процесса впоследствии развивается деятельность. Но она развивается не как прямое продолжение процессов интроекции, а более сложным образом. В частности, за счет организации или простого включения в непосредственные процессы потребления их фрустрации. В этом смысле фрустрация (как вид подкрепления) является необходимым моментом воспитания.
В процессе удовлетворения потребность доопределяется извне объективными средствами, при помощи которых она удовлетворяется. Или, как говорил А. Н. Леонтьев, потребность опредмечивается. Вследствие этого потребность как состояние становится более определенной и целенаправленной. Одновременно с таким опредмечиванием потребности в самом потребностном состоянии свертывается и закрепляется также и весь путь ее удовлетворения. Поэтому можно сказать, что удовлетворение потребности является одновременно ее расширенным воспроизводством, воспроизводством самой предметной потребности вместе с тем процессом и способом поведения, посредством которых она была удовлетворена.
Другими словами, удовлетворение потребности посредством внешней среды есть также и ее закрепление, сохранение, некоторое обновление и даже усиление, в том смысле, что в процессе удовлетворения потребности происходит заново определение ее.
«интенциональной» деятельности как структуры (= предметной структуры). Можно сказать, что здесь происходит подкрепление потребности посредством потребления, но также и предмета потребности. Непредметная потребность, сталкиваясь с некоторым предметом, в процессе удовлетворения потребности подкрепляется этим предметом.
Но здесь процесс подкрепления потребности тождествен процессу ее опредмечивания, т. е. по сути дела процессу формирования новой потребности. В этом смысле подкрепление — это всегда формирование, это процесс производства чего-то нового. Предмет потребности, сталкиваясь с состоянием потребности, подкрепляет (и доопределяет, т. е. предметно подкрепляет) это состояние. Также можно сказать, что и состояние потребности как определенное энергетическое состояние подкрепляет данный предмет как предмет потребности, проецируя в него некоторую ее энергию и таким образом «привязывая» предмет к потребности. Этот процесс аналогичен тому, который 3. Фрейд называет катексисом или катектированием, т. е. фиксацией внутренней, свободной психической энергии на внешнем объекте. Согласно Фрейду, свободная энергия становится связанной предметом. Через такой перенос энергии потребности на предмет, через превращение отрицательной энергии потребности в положительную энергию, в притягательную силу предмета происходит и закрепление предмета потребности. Таким образом процессы подкрепления идут с двух сторон: от потребности к предмету и от предмета к потребности. Можно сказать еще точнее: так же, как циклично деятельность (процесс удовлетворения потребности), цикличен и процесс подкрепления. Точно так же, как потребность существует по определенным циклам, имеет определенную динамику, так же и подкрепление как процесс сопровождает это функционирование потребности и является имманентным структуре такого функционирования.
А.Н.Леонтьев говорит об эмоциях как о сигналах, сообщающих организму о том, как происходит деятельность с точки зрения удовлетворения потребности. Можно сказать, что процесс подкрепления идет параллельно и вслед за эмоциональными сигналами. В этом смысле подкрепление является процессом связывания некоторых психофизиологических состояний в ходе реализации базового психофизиологического процесса. Прежде всего эта связь формируется как связь внутреннего состояния, процесса, направленного вовне, и внешнего объекта, т. е. связь потребности, ее объекта и пути к нему. В конечном счете это связь внутреннего состояния и внешнего объекта (вместе с движением к нему) и ассимиляция всего этого в единое целое.
Когда организм начинает ощущать голод, он будет воспринимать это состояние как отсутствие пищи и будет проецировать некогда потребленный объект вовне. В этих условиях путь потребления как бы развертывается вовне и определяет траекторию потребления. В структуре этого процесса состояние (голод) является стимулом, производящим реакцию (проекцию траектории пути к предмету потребности), которая определяет последующее поведение. Благодаря такой проекции может быть развернут процесс подкрепления, идущий извне внутрь, от проекции внешнего предмета к поведению по его достижению.
В этом случае, чтобы нечто закрепилось, необходимо поставить его в связь с определенной потребностью. Причем, чем более прямой будет эта связь, тем легче должно происходить закрепление. С этой точки зрения закрепление нс обязательно должно быть положительным, оно может быть и отрицательным (т.е. может формироваться отношение избегания к определенному предмету) или иметь еще какое-то промежуточное значение. И это значение будет определяться значимостью данного предмета с точки зрения потребности или его местом в структуре процесса удовлетворения потребности. В принципе, таким образом, можно связать и две потребности, если определенным образом соединить удовлетворение обеих потребностей. Если эта связь будет эффективно реализована в деятельность, то в этой логике рассуждения она должна быть и закреплена.
Если следовать подобной логике мысли (логике А. Н. Леонтьева, а также Л. С. Выготского), то процесс подкрепления претерпевает ту же судьбу, что и деятельность, он интериоризируется и из внешнего процесса превращается во внутренний. Но здесь есть и еще один процесс трансформации функционирования подкрепления — сдвиг механизма подкрепления от конца к началу процесса. При развитии речи, оценочных процессов, вообще деятельности происходит сдвиг механизма действия результата от конца к началу, то же самое случается и с подкреплением. Благодаря сдвигу изначально внешнего подкрепления в начало процесса поведения оно начинает выполнять функцию мотива. Это по сути дела аналогично тому, что бихевиористы называют ориентацией на подкрепление, «ценностью подкрепления». Здесь подкрепление как механизм и как процесс продолжает работать, но уже во «внутреннем плане».
Одна из стратегий подкрепления в процессе обучения может поэтому состоять в том, чтобы вначале использовать внешний подкрепитель, а затем постепенно переместить его внутрь или связать с чем-то внутренним, например с самим подкрепляемым действием, т. е. замкнуть подкрепление на саму подкрепляющую активность.
Но в реальном процессе усвоения опыта, в реальном процессе обучения и воспитания с организацией подкрепления возникает ряд сложностей. Кажется, что следовало бы так организовать обучение или воспитание, чтобы на каждом шагу ребенок получал положительный эффект. Но такая задача очень сложна в связи со сложностью человеческого сознания. В этом сознании всегда существует иерархия потребностей, параллельные потребности, внутренние конфликты и ряд других сложностей для реализации такой задачи. У человека эмоции, проявляющиеся вовне, не тождественны внутренним психическим процессам, здесь трудно сказать однозначно, по поводу чего возникает данная эмоция, на что она является реакцией. Поэтому категорично сказать, что положительные эмоции ведут к закреплению некоторого опыта, нельзя. Нельзя утверждать также, что становится закрепленным все, что сопровождается положительными эмоциями или «чувством удовольствия».
Например, известный эффект незавершенного действия Б. В. Зейгарник (1987) противоречит по видимости закону эффекта Э.Торндайка. Согласно Зейгарник, в случае незавершенного действия оно запоминается лучше, чем завершенное, т. е. выполненное правильно. Но здесь в процессы запоминания вклинивается самосознание, самооценка и, соответственно, новая логика подкрепления и закрепления. Фрейд показывает другую закономерность: запоминается то, что связано с чувством удовольствия. Кажется, что это то же самое, что констатирует Торндайк в законе эффекта, хотя это не совсем так. Фрейд говорит о том, что некоторое содержание, вызывающее неудовольствие, обычно не вспоминается, но подвергается вытеснению. Но оно участвует все же в организации поведения, оно все же закреплено и закрепляется.
В связи с этим необходимо различать запоминание и закрепление. На примере психоанализа видно, что не все, что реально существует в сознании, не все, что закреплено, является фактом произвольной памяти. Отсюда вытекают многие сложности, связанные с проблемой подкрепления, и трудности с его практической реализацией. Для продуктивного решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо ориентироваться при организации подкрепления на конкретную структуру сознания. А это значит, что нужно ответить не только на вопросы о том, что подкрепляется в данном случае и при помощи чего, что является подкрепителем, но и на ряд других. В частности, нужно понять, какое место занимает подкрепляемое содержание, а также сам подкрепитель (его «ценность») в структуре сознания. На подкрепление реагирует целое сознания, личности. В этом смысле полностью реализовать психотехнику подкрепления можно, только ориентируясь на целое и его структуру.
Как мы уже говорили ранее, для правильной организации подкрепления необходимо критически проанализировать тезис, характерный для американского бихевиоризма (в особенности для Б. Скиннера), согласно которому только положительное подкрепление имеет серьезное значение для продуктивного усвоения опыта. В действительности это неверно. В процессе воспитания не меньшее значение имеют и другие формы подкрепления, а также их соотношение. В частности, для продуктивной организации воспитания имеет важное значение соотношение положительного подкрепления и фрустрации. И самое главное, для правильного понимания проблемы подкрепления в педагогической психологии необходимо учитывать существование разных форм и механизмов усвоения, присвоения или освоения опыта.
(Заметим, что мы говорили о процессах интроекции, механизмах и способах подкрепления этих процессов прежде всего в условиях воспитания. В процессах интериоризации деятельности дело обстоит несколько по-другому.).
Итак, каково же соотношение таких рядоположенных понятий, как потребность и подкрепление? Обратимся в этой связи еще раз к взглядам А. Н. Леонтьева, который занимался теорией мотивации непосредственно, только в несколько ином ракурсе, чем ранее, а именно в ракурсе культурного развития человека. С его точки зрения именно деятельность является конституирующим основанием психики, именно деятельность определяет ее становление и развитие. Другими словами, деятельность является для Леонтьева той онтологической конструкцией, которая определяет видение психики. В таком случае, чтобы нечто сказать о психике индивида, необходимо определить его деятельность.
В свою очередь, основание, причина деятельности определяется ее мотивом. Без мотива никакая деятельность невозможна. Сам мотив Леонтьев определяет как предмет потребности. Причем, согласно Леонтьеву, потребности могут быть предметные и непредметные. Непредметные потребности — это только некоторые психофизиологические состояния. Сами по себе они мало интересуют Леонтьева, они лишь инициируют ненаправленную активность организма. Потребность же в полном смысле слова или, как ее называет сам Леонтьев, предметная потребность — всегда направлена на определенный предмет. Здесь направленность потребности в принципе синонимична ее предметности.
Но что же означает, по Леонтьеву, человеческий предмет потребности? Это, конечно, не естественный объект, но продукт культурной деятельности человека, в этом смысле потребность и ее предмет органически связаны с деятельностью. В своей психологической теории Леонтьев следует теоретической схеме К. Маркса, которую последний использовал по отношению к политэкономии: «товар — деньги — товар» или «деятельность — потребность—деятельность». Таким образом, с этой точки зрения потребность не просто органически связана с деятельностью, но деятельность как раз и порождает потребность, так что можно сказать: какова твоя деятельность, таковы и потребности.
А. Н. Леонтьева не интересует естественно-биологическая структура потребностей. С его точки зрения человеческая форма пове;
дения принципиально отличается от биологических форм, причем отличается так, что на уровне поведения по типу человеческого все биологическое становится только материалом, на котором осуществляется поведение человека. Поэтому предмет потребности — это предмет, преобразованный человеческой деятельностью, предмет, в котором погасла деятельность человека. И именно потому, что в предмете в превращенной форме покоится деятельность, эта деятельность конституирует предмет как предмет потребности.
Совокупность таких предметов, предметов человеческой культуры, являющихся результатом реализации культурных парадигм, и представляет собой поле для развития человеческого индивида. Поскольку структура этих культурных предметов определяется погасшей в них деятельностью, то и усвоить такие предметы можно, только воспроизведя деятельность, которая в них свернута. Так, через деятельность объясняется, во-первых, предметность человеческой культуры, а во-вторых, ее усвоение, которое должно быть деятельностью, воспроизводящей человеческую активность, угасшую в предметах культуры.
Таким образом, по Леонтьеву, человеческое существование и развитие связано с вхождением в пространство культуры и усвоением ее предметов или их распредмечиванием. Поэтому уровень такого усвоения характеризуется кругом предметов, подлежащих усвоению. Коротко точку зрения Леонтьева можно охарактеризовать следующим образом: человек, родившись в человеческом мире, с его предметностью, в которой светится деятельность, не может выйти за его пределы, а жить по-человечески — это значит жить предметно и деятельно.
С этой точки зрения есть существенный изоморфизм внутреннего мира человека и внешнего мира культуры. Поскольку человек существует только внутри культурного пространства предметов, то предметность внешнего мира определяет и предметную наполненность отдельного человека, соответственно, и его мотивы. Структура этого внешнего мира определяется Леонтьевым, вопервых, его предметностью (т.е. и деятельностью), а во-вторых, тем, что предметы этого мира имеют значение. Эти два определения смыкаются вместе, если учесть, что всякий предмет, опосредованный деятельностью, всегда значим для того, кто совершает деятельность, что он всегда уже обозначен.
Поскольку предметность внешнего мира может быть описана, ибо она опосредована деятельностью, постольку, согласно Леонтьеву, и человеческая потребность есть нечто определенное, она всегда является предметной и о ней всегда можно сказать, что она из себя представляет. Правда, усвоение культуры не только происходит экстенсивно, но и существует некоторая иерархия предметов, их координация и субординация, поскольку культура имеет также свою иерархическую организацию и динамику.
Таким образом, чтобы точно говорить о потребностях, необходимо дифференцированное и подробное описание внешних деятельностей, а также описание реальностей культуры, которая сама по себе неоднородна. Например, существуют возрастные субкультуры (так же как и возрастные языки), субкультуры различных социальных групп и т. п.
Здесь возникает важный, особенно с практической точки зрения, вопрос о различии внешнего предмета потребности и внутреннего предмета потребности или некоторого его референта, заместителя, который и является мотивирующим фактором. Согласно А. Н. Леонтьеву, именно внутренний, «потребленный» предмет только и может стать таким мотивирующим фактором. Именно в этом смысле деятельность определяет потребность. Только предмет вместе с процессом его потребления могут считаться теми моментами, которые воспроизводят деятельность. Значит, в процессе потребления предмета образуется некое субъективное свойство, которое удерживает предмет в психике индивида. Это и означает утверждение о предметности потребности.
Что же это за новые свойства предмета? Это могут быть сначала вкусовые свойства предмета у младенца, затем, в ходе развития сенсорного аппарата, они начинают объективироваться в пространстве и других объективированных свойствах предметного мира — в форме, окраске и пр. Иначе говоря, предметность потребности в таком случае означает, что хотеть можно того, что уже было, что уже потреблялось. В ходе процесса воспитания ребенок окружен различными предметами, которые заданы извне взрослыми, культурой. И вот эта внешняя заданность предметов и характеризует существенную меру искуственности в формировании потребностей.
Конечно, у ребенка существует целый комплекс органических потребностей, но они с этой точки зрения только предпосылки, только, по сути дела, формальные условия развития потребностей. По Леонтьеву, для определения потребности в случае человеческого развития важен именно определенный социальный способ ее удовлетворения. А удовлетворение потребностей ребенка организуется благодаря целенаправленной деятельности по уходу за ним. Здесь важно то, что это не естественное, спонтанное удовлетворение потребностей (точнее говоря, этот компонент тоже присутствует, но не в нем заключается сущность развития), но удовлетворение, организованное извне. Вот эта внешняя культурная организованность и определяет или доопределяет потребность, создает для нее некоторое культурное русло.
Из всего этого следует, что человеческие потребности являются искусственными образованиями и представляют собой предмет формирования. Вначале они находятся вовне индивида, представленные в виде предметов внешней среды. В процессе воспитания ребенка извне специфически и целенаправленно организуетс я его потребление. А целенаправленно организованное потребление — то же самое, что мы называем подкреплением, в данном случае подкреплением потребностей, а вместе с этим и их формированием. В этом смысле потребность не есть то, что существует изначально, нечто сугубо внутреннее, но есть то, что существует сначала вовне как «подкрепитель» «неопределенных» психических состояний. Если следовать этой логике рассуждений, можно сказать, что вначале существует внешнее социальное подкрепление потребности (внутренних состояний) предметами потребности, а уже затем возникает собственно потребность. В этом смысле подкрепление производит потребность.
Почему, например, Б. Скиннер нс использует понятие «потребность»? Он как раз мыслит в такой логике. В своих экспериментах Скиннер сначала формирует через фрустрацию определенное состояние («потребности»), а затем уже на его основе организует подкрепление определенной реакции. Но «потребность» он создает сам, он может описать этот процесс операционально. Например, Скиннер определенное время не кормит подопытное животное. Этот процесс можно описать как определенного рода подкрепление, при помощи которого и создается «потребность». Поэтому Скиннер и отказывается от этого понятия, имеющего также и натуралистический смысл внутренней (врожденной) детерминанты поведения. Такая же тенденция наблюдается и в академической психологии мотивации.
И действительно, изучение подкрепления продуктивнее, поскольку оно ведет к пониманию механизмов (в том числе и социальных) мотивации. Такой подход более генетичен, в отличие от «срезового» подхода при непосредственном изучении мотивации. Но, несмотря на это, феноменологическое изучение мотивации, изучение изнутри ее функционирования также необходимо.
Потребность и подкрепление усложняются, если потребность не может быть удовлетворена непосредственно, на «прямом пути» к предмету. Тогда возникает необходимость в обходных путях, в прохождении определенных шагов на пути к предмету, тогда путь к предмету разбивается на отдельные действия и соответствующие им цели. Именно здесь появляется то, что можно назвать собственно «активностью» или же, как П. Я. Гальперин, «активностью субъекта».
Взгляд П. Я. Гальперина на проблему. Гальперин также считает, что механизм подкрепления в конечном счете связан с удовлетворением потребности, но инициируется тем, что потребность вводится в картину окружающего мира. (Здесь он поднимает и реализует забытые к 60—70-м гг. XX в. идеи Н. А. Бернштейна.) Последнее происходит благодаря тому, что среди объектов внешнего мира выделяется вещь, отвечающая определенным критериям этой потребности. Тогда ситуация приобретает некоторый определенный психологический смысл. Впоследствии, когда намечается путь к этой цели (цели-объекту), на этом пути выделяются определенные объекты и отрезки расстояний, получающие различные функциональные значения в зависимости от своего отношения к цели действия и положения на пути к этой цели.
В этом случае картина ситуации разделяется на то, что имеет основной смысл, и на то, что имеет функциональное значение. Эти различные значения элементов ситуации намечаются уже в процессе ориентировки, в ходе соотнесения цели с отрезком пути, отделяющим ее от субъекта, т. е. в порядке, обратном ходу реального действия, по так называемому градиенту цели. В этом контексте П. Я. Гальперин анализирует известный «парадокс»: чтобы достичь цели, нужно каждый раз пройти весь путь от начала до конца, а закрепляется он по отдельным отрезкам, начиная от конца к началу. Почему же начальные отрезки пути не закрепляются так же, как завершающие части пути, тем более что первые, как полагает Гальперин, и требуют большего «ориентировочного напряжения»? Отвечая на этот вопрос, он полагает, что частота делания не является здесь чем-то основным, в первую очередь важна ясность отношения частей пути к цели. Действительно, исследования процессов запоминания, особенно непроизвольного, показали, что люди по крайней мере ориентируются на каждом отрезке ситуации на отношение этого отрезка к ближайшей цели. А. Н. Леонтьев в своей теории деятельности некоторым образом обобщает этот факт. С этой точки зрения, следовало бы предположить, что структура и механизм подкрепления зависят от места подкрепителя и подкрепляемого в структуре деятельности.
В целенаправленном поведении основная цель является чем-то самым значимым среди прочих объектов поля, которые в свою очередь выделяются и запоминаются только по мере увязки с целью. Поэтому Гальперин считает, что подкрепление, в частности значимая цель — необходимое условие закрепления поведения и, соответственно, чем ближе элемент поведения к подкреплению, тем лучше он закрепляется. Даже у животных цепь промежуточных ориентиров и действий может быть очень длинной, но она должна заканчиваться основным подкреплением, «конечной целью», иначе промежуточные цели теряют свое вторичное, производное от нее значение. Этим Гальперин, ссылаясь на И. П. Павлова, объясняет тот факт, что образование условных рефлексов второго порядка без подкрепления реакций первого порядка, оказывается трудным и нестойким.
Поэтому подкрепление, с точки зрения Гальперина, должно быть значимым, а не условным, сам по себе условный раздражитель никаким устойчивым значением, даже ориентировочным, не обладает. Образование же условной связи на одном ориентировочном подкреплении требует поддерживать условные раздражители живыми (нужно все время обновлять их), т. е. безусловными, хотя и чисто ориентировочными. В принципе эту идею чисто ориентировочного подкрепления вполне можно развивать технически и использовать в повседневных процессах обучения и воспитания.
Индифферентные предметы на пути к цели становятся ориентировочными раздражителями. Если данное действие протекает однократно, то ориентировочное значение этих объектов скоро угасает после выполнения действия. Если же, полагает Гальперин, в этом контексте объекты выступают повторно, то они превращаются в условные раздражители и по мере их закрепления процесс автоматизируется.
В этом процессе главным является выделение связи между тем, что уже имеет значение, и тем, что ему предшествует. Эта объективная связь, согласно Гальперину, выделяется благодаря ориентировочной деятельности. Вначале она сохраняется только в процессе ориентировочной деятельности и является опорой для процессов соотнесения в плане образа, только потом эта деятельность автоматизируется. А необходимым условием автоматизации этой деятельности является то, что она до этого систематически подкреплялась достижением цели.
Согласно Гальперину, уже в животном мире ориентировочная деятельность обособляется и приобретает самостоятельное значение. Ее цель теперь состоит не в реальном достижении какого-то объекта, а просто в ознакомлении с ним. Как уже говорилось, благодаря этому ориентировочное подкрепление обособляется и приобретает самостоятельное значение. В связи с этим предметы и отношения между ними не приобретают характер условно-рефлекторных раздражителей. Теперь с одним и тем же предметом могут выполняться разные действия, в зависимости от задачи, в которую он включен. Сами же задачи меняются в зависимости от доминирующей потребности, положения индивида в ситуации. Но даже при постоянстве последних условий детали деятельности все равно меняются, поэтому выполнение действия требует неусыпной активной ориентировки.
В этом смысле действие, осуществляющееся в плане образа, является активным. Такие действия следуют тем отношениям вещей, которые приобретают свое значение пути к цели, хотя тут же теряют это значение после ее достижения. Гальперин считает, что механизм активных действий можно уподобить в некотором самом общем виде образованию ориентировочных значений, т. е. ориентировочных раздражителей однократного действия. Таким значениям соответствуют определенные ориентировочные действия, которые не выпускаются на исполнительную периферию, но сначала намечаются как возможные; они приводятся к исполнению только после апробирования с помощью примеривания или экстраполяции в плане образа.
«Выделение таких ориентировочных связей и их преходящих ориентировочных значений является естественным и неизбежным следствием того бесспорного факта, что объекты проблемной ситуации при надлежащих условиях становятся условными раздражителями на одном ориентировочном подкреплении» (Гальперин П.Я. Введение в психологию. — М., 1976. — С. 81). Далее утверждается, что в тех случаях, когда возникает острая потребность, например при очень большом эмоциональном напряжении, ориентировочное значение определяется и даже закрепляется при однократном соотнесении объектов. Это важное наблюдение стоит того, чтобы на его основе была разработана техника обучения, ориентированная на соотнесение усваиваемого материала (навыка и пр.) и сконструированной специально для этого «острой потребности».
Таким образом, механизм активных действий, согласно Гальперину, в самых общих чертах оказывается тем же, что и механизм условных реакций, только со следующими существенными различиями: он ограничивается выделением объективной связи между объектами и психическим отражением наличной ситуации; он не получает подкрепления в своей физиологической основе, поскольку срабатывает один раз. Если же этот механизм систематически воспроизводится и такая связь оправдывает себя, то он превращается в более стойкий механизм условного рефлекса, тогда действие автоматизируется и ориентировка становится излишней. Гальперин отмечает, что после того как определенная ситуация, значение ее отдельных объектов и действия в этой ситуации получают подкрепление и закрепляются, наступает автоматизация поведения. Таким образом, ученый считает, что автоматизация непосредственно связана с систематическим и устойчивым подкреплением. Другими словами, устойчивость, константность предметных ситуаций, предметного мира и предметных потребностей являются следствием некоторого постоянного и систематического подкрепления этих ситуаций, т. е. устойчивость, рациональная прозрачность предметного мира производятся систематическим подкреплением данного мировосприятия.
Культурология советской психологии. Нужно помнить, что эти выводы П. Я. Гальперин делает внутри советской действительности и во время «оттепели». У Гальперина существует, пусть и в скрытом виде, критика концепции и связанной с ней психотехники А. Н. Леонтьева — психотехники деятельности как процесса удовлетворения потребности, в сущности, психотехники, описывающей интроективные процессы, происходившие в то время в совет-, ском обществе.
В этом отношении можно задаться следующим культурологическим вопросом: почему в концепции А. Н. Леонтьева отсутствует понятие подкрепления, которое является центральным в американской психологии и культуре? Это связано с тем, что феномен подкрепления и соответствующая психотехника в ее классическом варианте, как уже говорилось, соотносимы с американской «свободной личностью». В Советском Союзе такой личности не было (по крайней мере формально) и не могло быть. Здесь были прежде всего стандартизированные, интроецировавшие заданные нормы коллективного общежития, индивиды, потребности которых действительно жестко формировались общепринятой идеологией. Более того, это фрустрированные индивиды, формирующиеся в атмосфере постоянного дефицита. В этих условиях развивается именно психология потребителя, причем потребителя, у которого нет выбора «в предметах потребности». Это психология и психотехническая структура сознания интроективного типа личности, которых «кормит» партия и государство. Но вначале государство (так же как Б. Скиннер у своих голубей вызывает голод) осуществляет мощную фрустрацию, только в таком случае срабатывает психотехника интроекции. В такой социокультурной ситуации действительно внешнее тождественно внутреннему, этому различию просто неоткуда взяться, его не существовало феноменально для советского человека (точнее, нет достаточно объективных условий для ощущения и социального проявления этого различия, нет соответствующих языковых жанров для его выражения).
Но нет худа без добра. Именно благодаря такой социокультурной ситуации уже в советское время в России развивается психология и психотехника деятельности (П. Я. Гальперин, Г. П. Щедровицкий). Прежде всего это теория поэтапного формирования умственных действий. В советское время культурная ситуация строится таким образом, когда действительно феноменально существует тождество внешнего и внутреннего. Одновременно психотехника интроекции всегда так или иначе связана с психотехникой идентификации и деятельности. Изучая историю Советского государства, можно увидеть яркие переходы от пассивной интроективности человека к идентификации с фундаментальными идеологическими символами и к героической деятельности. В идентификации с идеологическими символами и героизме также присутствует тождество внешнего и внутреннего. И в этом отношении такая психотехника, обнаруживаемая в советской культуре и предполагающая отождествление индивида с социально-идеологическими структурами, является основанием для теоретического положения советской психологии о тождестве внешнего и внутреннего. Осознание же различия внешнего и внутреннего начинается с 50-х гг. XX в. с так называемой хрущевской оттепели. И начиная с этого времени в России развивается новая психология и психотехника. Одним из наиболее выдающихся ее представителей стал Г. П. Щедровицкий, идеи которого мы постоянно будем использовать в этой главе. В сущности, именно Щедровицкий стоит у истоков техники экстериоризации, в том, например, смысле, что он впервые применил схематизацию внутренних смыслов на доске, в смысле использования различных техник организации самовыражения мысли в группе и т. д. Именно его работы дали важнейший толчок в развитии исследований мышления и формирования различных мыслепрактик. Именно Щедровицкий поставил по-настоящему проблему активности и ответственности личности, по крайней мере, в мышлении. Но это была не официальная культура мышления, а ярко выраженная контркультура.