«Моцарт и Сальери»: стереоскопия текста
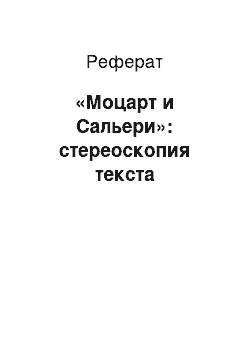
Пусть Моцарт не действует активно, но он фигурирует со своими идеями, из которых важнейшая — идея душевного неспокойствия. Она развивается, растет, образуя своеобразный сюжет в сюжете: бессонница «намедни ночью»; «виденье гробовое»; «человек, одетый в черном»; заказ реквиема — важнейшие его вехи. Все это можно истолковать как дурное предчувствие, но можно и как спонтанный процесс, протекающий… Читать ещё >
«Моцарт и Сальери»: стереоскопия текста (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Активно взаимодействует с романтической традицией и другое произведение Пушкина — «Моцарт и Сальери», причем нижнюю границу такого взаимодействия можно отодвинуть еще к ранним, предромантическим формам. Именно в это время сложилась система художественных оппозиций, послужившая основой для более сложных образований, в первую очередь романтической коллизии (конфликта). Одна из таких оппозиций — сопоставление лени и труда, праздности и деятельности. Возникла даже своеобразная апология лени как образа жизни и душевного склада (подробнее обо всем этом см. § 1.2; здесь — только некоторые штрихи, необходимые для понимания проблемы).
«Лень — не порок, а добродетель», — утверждает Вяземский (в послании «К графу Чернышеву в деревню»). Если же продолжить эту мысль, то деловитость — именно порок, нечто недостойное и предосудительное. Деловитость сопряжена с карьеризмом, суетностью, угодливостью (как в случае с грибоедовским Молчалиным), а лень — это уклонение от торной, привычной дороги большинства. Лень — это несогласие души стремиться к тому, что так заманчиво для многих: к богатству, почестям, чинам.
Лень — бескорыстное состояние, а следовательно, условие состояния поэтического и творческого (Батюшков в письме к Н. И. Гнедичу от 29 мая 1811 г. утверждает, что «лень стихогворна», а Пушкин обращается к Дельвигу: «сын лени вдохновенной»). Лень — это незашоренность взгляда, открытость души, и значит, сила объединяющая, а не разъединяющая. Отсюда возможность учреждения «Общества ленивых» в «Похвальном слове сну» того же Батюшкова (ноли. ред. — 1815—1816).
Апология лени строилась по типично романтической логике переосмысления ходовых моральных клише, их гравестирования или, наоборот, поэтизации с целью сообщения им другого, более глубокого смысла. Такова, в частности, производимая Фридрихом Шлегслем реабилитация глупости и глупых книг:
«Они на самом деле произведения таланта, который решил прикинуться, поиграть в свою заведомую будто бы бездарность, — пишет исследователь, ссылаясь на Шлегеля. — Ум надел на время личину глупости или даже тупости, чтобы лучше ощутить самого себя» Г На первый взгляд в основе коллизии пушкинской трагедии лежит та же оппозиция: лень и праздность воплощены Моцартом, а Сальери воплощает труд и деятельность, которые в этом случае окрашены суетностью и отравлены ядом зависти. Но на самом деле все неизмеримо сложнее.
Эпитет «праздный» возникает в пьесе трижды: два раза в речи Сальери, один раз — Моцарта. У Сальери применительно к самому себе это может иметь значение мирского, не относящегося к творчеству, противоположного творчеству состояния («Отверг я рано праздные забавы»), а применительно к Моцарту — еще и значение веселого времяпрепровождения, разгула, т. е. действительно праздной жизни («…озаряет голову безумца, / Гуляки праздного…»). Но в словоупотреблении самого Моцарта такой оттенок вовсе не обязателен:
Нас мало избранных, счастливцев праздных,.
Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов.
Праздность здесь как знак избранности людей, занятых «вольным искусством», противоположным пользе и утилитарности. Кстати, и едине-[1]
ние этих людей видится Моцарту возможным на основе такой оппозиции: они — дети «гармонии», но не праздности и не лени (ср. «Общество ленивых» у Батюшкова). Словом, сам Моцарт нигде не говорит и не обнаруживает свое презрение к труду. Его единственное скупое признание, относящееся к творческому процессу, просто обходит эту проблему:
Намедни почыо Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал.
Но кто знает, каким тяжким состоянием, каким напряжением дались эти «две, три мысли»? Труд Моцарта замаскирован: на поверхности — легкость и импровизационность; в глубине, возможно, — сосредоточенность воли и воображения. Параллель с самим Пушкиным здесь вполне уместна: только после смерти поэта, знакомясь с его черновиками, узнали, какая кропотливая работа была скрыта за каждой страницей, фразой и подчас словом.
С другой стороны, и Сальери не чуждо художническое волнение: он предается «неге творческой мечты», вкушает «восторг и слезы вдохновения». Оба слагаемых творческого акта — сознательное и бессознательное — объединены в его деятельности, что, как отмечает исследователь, отвечает одной из тенденций романтической эстетики[2], запечатленной, в частности, Шеллингом как автором «Системы трансцендентального идеализма»:
«С такой же само собой разумеющейся ясностью вытекает отсюда… невозможность обособленного существования поэзии в отдельности от искусства как умения, непригодность такого положения для создания чего-либо совершенного». И далее: «Ничто из двух не имеет приоритета перед другим. Произведение искусства как раз и свидетельствует о полной равносильности того и другого (умения художника и поэзии)» [3].
Еще резче эта мысль сформулирована за пределами романтизма — Гегелем:
«…Хотя талант и гений художника имеют в себе элемент природной одаренности, последняя все же нуждается для своего развития в культуре мысли, в размышлении о способе его функционирования, равно как и в упражнении, в приобретении навыков»[4].
Следует только добавить, что в рассуждениях Сальери равносильность гениального дара и умения поколеблена в пользу последнего, может быть, нарочито, с расчетом на эпатаж, дабы на первый план демонстративно выдвинуть прозаическую, низкую, даже неприглядную, физиологическую сторону художнического труда:
Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп, поверил Я алгеброй гармонию.
И еще одно неожиданное признание Сальери:
Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны.
(Глубокие, пленительные тайны),.
Нс бросил ли я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблуждался?..
«Многие ли из прошедших искус творчества способны сделать такое признание даже пред самим собой?» — спрашивал Сергей Булгаков[5]. Сальери отваживается на подобное, потому что это еще один аргумент, подтверждающий его беспредельную преданность искусству, в жертву которому приносится все, прежде достигнутое. Однако тем самым Сальери невольно отказывается от притязаний на гениальность, ибо, согласно Канту, гений — тот, кто сам творит как зиждительная сила, через кого высшее начало проявляет свою волю, в то время как обыкновенный талант обречен следовать, но уже предуказанному пути[6]. Все это и дало Белинскому основание утверждать, что «идея» трагедии есть «вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения»[7]. Но подобная постановка вопроса неизбежно возводит коллизию на высший онтологический уровень, причем ударная роль в ней принадлежит не «гению», а «таланту», т.с. не Моцарту, а Сальери.
Эта роль связана с завистью («Зависть» — первоначальное название трагедии), но завистью особого рода:
«Такому же честному труженику, как он, Сальери не позавидует, — писал М. О. Гершензон, — напротив, наличность таких же радует его, потому что самым фактом своего делового усердия они укрепляют в нем его жизненную основу, его уверенность в творческой силе сознательных действий»[8].
Сальери завидует, а точнее сказать — его ранит, и ранит глубоко, такое положение вещей, когда высшие достижения искусства даются не высшим напряжением сил, а легко, непреднамеренно, или, как пишет тот же исследователь, по другому закону, «кроме закона понятного и освящаемого разумом». Очень может быть, что в конкретном случае Сальери ошибается (выше уже отмечалось, что легкость труда Моцарта весьма проблематична), но он так видит, и это видение для него непереносимо:
«Сальери не может допустить мысли, что такой закон существует… иначе мир — хаос и ужас, и жить нельзя. Сальери убивает Моцарта, чтобы устранить двойственность из мира и восстановить единовластие того разумного закона, которому он доверился сызмала и которому обязан всем; он убивает в сущности не Моцарта, а Бога („небо“) и спасает не себя, а человечество в его целесообразном труде»[9].
Исправим неточность (или оговорку) автора — Сальери не «убивает», а направляет удар, но направляет именно на Бога, на санкционированную небесными силами несправедливость: «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше».
Еще один необходимый нюанс (на нюансах подчас строится пушкинская концепция образа):
«Для Сальери правда — это справедливость, почти в судебном, юридическом смысле слова, и весь монолог героя — попытка доказать с помощью изощренной системы аргументов то, что есть некий неустранимый изъян в мироздании, вызвавший очевидную (для Сальери) ошибку в вынесении верховного приговора, в распределении небесной милости»[10].
Сказано очень выразительно; хочется лишь подчеркнуть, что инвективы Сальери превышают любые системы юриспруденции, потому что действительно касаются «изъяна в мироздании», т. е. явлений высшего порядка. Никакие критерии равенства тогдашнего (да и нынешнего) времени не в состоянии соответствовать его требованиям, ибо они вовсе не относятся к сфере распределения любых благ, включая и материальные, или распределения славы, почета, успеха, признания и т. п. Они относятся только к сфере распределения гениальности, а это уж действительно прерогатива Природы или Бога.
Да, поведение Сальери окрашено в тона богоборчества. Первая же его фраза («Но правды нет — и выше») звучит как обвинение «небу», но в то же время и как вывод из долгих размышлений («Для меня / Так это ясно, как простая гамма»). Это опыт всей его жизни[11], а значит, и результат длительного душевного процесса, который мы называем процессом отчуждения и который сближает Сальери с центральными романтическими персонажами. Причем сближает в предельном, наиболее последовательном выражении того процесса, который будет представлен лермонтовским «Демоном» (см. § 8.2). Обычно переживаемая героем его частная, личная драма лишь в конечном счете, т. е. в силу свойственной романтизму двуплановости, соотносится с божественным, субстанциальным началом; вызов же Сальери (предвосхищающего, еще раз повторим, лермонтовского Демона) непосредственно адресован коренным установлениям бытия, т. е. Богу.
Отметим и еще один осложняющий момент: в своем вызове, в своем вынашиваемом преступлении Сальери ощущает себя «избранным» («…я избран…»), очевидно избранным на то, чтобы устранить несправедливость, восстановить век (тут невольно вступает в свои права другая ассоциативная нить — с Гамлетом). Но кем возложена на него эта высокая миссия? Не той ли божественной силой, против которой он восстает? Мысль Сальери попадает в тенета порочного круга, сообщающего его облику и действиям величайшую напряженность.
Обратимся к другому участнику коллизии. Впрочем, но мнению Гершензона, в пьесе «одно действующее лицо, — Сальери, потому что Моцарт не действует — он только есть»[12]. Но это вовсе не так: он не «только есть»!
Пусть Моцарт не действует активно, но он фигурирует со своими идеями, из которых важнейшая — идея душевного неспокойствия. Она развивается, растет, образуя своеобразный сюжет в сюжете: бессонница «намедни ночью»; «виденье гробовое»; «человек, одетый в черном»; заказ реквиема — важнейшие его вехи. Все это можно истолковать как дурное предчувствие, но можно и как спонтанный процесс, протекающий в глубинах сознания Моцарта и определяющий его окрашенную в мрачные тона картину мира. Из этих глубин возникает и утверждение-вопрос по поводу слухов о преступлении Бомарше:
Он же гений, Как ты, да я. А гений и злодейство, Две вещи несовместные. Не правда ль?
Здесь возникает другой, внутренний сюжет, впрочем, частично совпадающий с первым, — накопление поводов, стимулирующих преступление Сальери: «Моцарт своими произведениями, своими поступками, своими мыслями, наконец, невольно, но непрерывно подталкивал его к роковому рубежу»[13].
Формула Моцарта о «несовместности» гения и злодейства являет противовес пессимистическому приговору Сальери и его обвинениям Богу. Ведь могущество гения и сам его статус — от «неба», т. е. от Бога, и если гений противоположен мирскому злу и преступлению, то сохраняют свою силу и принципы теодицеи. Но характерно и то, что эта формула завершается вопросом, и вопрос обращен к Сальери, который не отвечает на него или, точнее, отвечает своим действием, перечеркивающим, причем демонстративно, тезис Моцарта (после слов Сальери «Ты думаешь?» следует ремарка: «Бросает яд в стакан Моцарта»).
В то же время не дают ответа на вопрос и оба обсуждаемых в трагедии исторических прецедента — с Бомарше и Бонаротти (Микеланджело). А неотвеченный вопрос в известной мере оставляет в своих правах противоположный тезис — о «совместности» гения и злодейства, т. е. такой тезис, который не противоположен, а эквивалентен посылке Сальери, что «правды нет и выше».
Разумеется, ни трагедия в целом, ни ее герой (Моцарт) такого вывода не делают. Но они отвечают на остро ощущаемую необходимость решения: или смутным тревожным чувством со стороны героя, или отсутствием ответа со стороны произведения в целом. Это вовсе не означает правоты или торжества преступника (Сальери). Но, не говоря уже о моральном осуждении, если такое наказание и наступит, то оно проистечет нс из просветительской веры в разумность бытия, а из другого, не открываемого в тексте источника:
«Культура неизбежна, культура законна; Пушкин никогда не отвергал ее по существу. Но он знал, что верховная власть принадлежит иррациональному началу, о чем на казнь себе и людям забыл Сальери»[14].
Возвращаясь к поэтике трагедии, мы видим, насколько сложно и тонко перестроены в ней предромантические и романтические элементы. Оппозиция лени и труда (деятельности) освобождается от свойственной ранним романтическим формам прямолинейности. Коллизия двух главных персонажей релятивируется соотнесенностью соображений и выводов Сальери и тревожных вопросов Моцарта. Повторим еще раз: это вовсе не тождественность, а всего лишь соотнесенность, но и ее достаточно, чтобы создать ощущение универсальности мира и его законов, той универсальности, которая в эпических произведениях романтизма (скажем, в поэме) возникает из параллелизма различных сюжетных линий — центрального персонажа и авторской. Этому впечатлению способствует и то обстоятельство, что Моцарт привычно воспринимается как наиболее близкий автору, чуть ли не его alter ego.
И наконец, еще несколько заключительных штрихов. Вспомним последний монолог Сальери:
Моцарт! но ужель он прав, И я не гений? Гений и злодейство Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка?..
Оказывается, демонстративно противопоставлявший кропотливый каторжный труд небесному озарению, Сальери уязвлен теперь именно тем, что он «не гений»! Но в таком случае, не питал ли он и раньше тайных притязаний на гениальность?
Душевное движение Сальери, после того как он бросил яд в стакан друга («Постой, постой!.. Ты выпил!., без меня?»), интерпретируется в новейшем исследовании как проявление его «замысла, связанного не только с физическим устранением Моцарта, но и опровержением самой формулы Моцарта о несовместности гения и злодейства — причем руками самого Моцарта»[15]. Допустим, хотя неосознанность участия Моцарта в предполагаемом преступлении существенно изменила бы проблему его «вины» и, следовательно, двойного — со стороны не только Сальери, но и Моцарта — опровержения «формулы».
Но верно то, что в финале пьесы, после совершенного им шага перед Сальери во всем объеме встает эта страшная «формула», и допуская, пусть и против воли, правоту Моцарта, он, возможно, признает бесплодность и неоправданность своего вызова Богу и «небу». Но если это так, то не было ли у него подобных опасений и раньше?..
Окончательного ответа на эти вопросы автор трагедии «Моцарт и Сальери» не дает, но он создает возможность того двойного прочтения, той стереоскопии текста, которые существуют и в «Борисе Годунове» (см. § 19.2), и в других его произведениях.
- [1] Берковский II. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 57.
- [2] 2 См.: Карташова И. В. Этюды о романтизме. Тверь, 2001. С. 92—93.
- [3] Шеллинг Ф. В. И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936. С. 382.
- [4] Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 12. С. 29.
- [5] Булгаков С. И. Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. КонецXIX — первая половина XX в. М., 1990. С. 298.
- [6] См. об этом: Fasting 5. N. I. Nadezdin und das Problem des kuenstlerischen Schaffens //Scando Slavica. 1973. T. XIX. S. 39; Манн 10. В. Русская философская эстетика. С. 63.
- [7] Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 557.
- [8] Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск, 1997. С. 85.
- [9] Там же. С. 85.
- [10] Фаустов Л. Л. Авторское поведение Пушкина. Очерки. Воронеж, 2000. С. 126—127.(Курсив в оригинале.)
- [11] Об этом см.: Zelinsky В. Russische Romantik. S. 435 (гл. «Kiinstlertum und Tragik inPuskins ‘Mozart i Sal’eri'»).
- [12] Гершензон М. О. Указ. соч. С. 88.
- [13] Устюжанин Д. Л. Маленькие трагедии А. С. Пушкина. М., 1974. С. 66. (Курсив в оригинале.) Ср.: «Моцарт всем, им совершаемым (и поведением и музыкой), провоцирует Сальерина убийственный поступок» (Беляк Н. В., Виролайнен М. Я. «Моцарт и Сальери»: структураи сюжет // Пушкин. Исследования и материалы: сб. науч. тр. Т. XV. Л., 1995. С. 120). Такжесм.: Маркович В. М. Цикл «Маленькие трагедии» как исследовательская проблема // Поэтика русской литературы. М., 2006. С. 333.
- [14] Гершензон М. О. Указ. соч. С. 93.
- [15] Заславский О. Б. «Моцарт и Сальери»: гений, злодейство и «чаша дружбы» // ИзвестияРАН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 35. (Курсив в оригинале.)