Анализ звеньев эволюционной цепочки клавирно-фортепианного инструментария в контексте «интонационных целеустремлений» времени
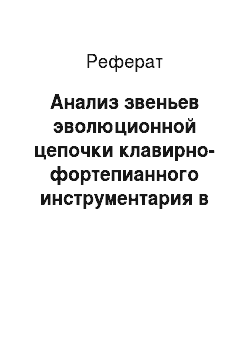
При всем бесконечном многообразии струнных музыкальных инструментов (особенно если не ограничиваться профессиональной западноевропейской инструментальной культурой, но и в ней круг инструментария весьма обширен) их роднит то, что выше было названо эмбрионом инструментальной интонационности, двуединство палец — струна. Палец, защипляющий струну и получающий отдачу упругого, напряженно вибрирующего… Читать ещё >
Анализ звеньев эволюционной цепочки клавирно-фортепианного инструментария в контексте «интонационных целеустремлений» времени (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
При всем бесконечном многообразии струнных музыкальных инструментов (особенно если не ограничиваться профессиональной западноевропейской инструментальной культурой, но и в ней круг инструментария весьма обширен) их роднит то, что выше было названо эмбрионом инструментальной интонационности, двуединство палец — струна. Палец, защипляющий струну и получающий отдачу упругого, напряженно вибрирующего материального тела, — исток и архетип в том процессе, который Асафьев назвал очеловечением инструментализма и к которому мы предлагаем антитезис — инструментализация музыкального сознания. Все звучащее в напряжении, в тонусе суть целая гамма звукоощущений; каждое мгновение в этом процессе есть трансформация живой психической и телесной энергии (вибрации импульсов мозга, нервов, мышц, голосовых связок) — в тоны, в звуковысказывание на инструменте, продолжающее внутренние звукообразы мышления. Какие бы метаморфозы ни проходил, как бы ни опосредовался в дальнейшем этот первичный архетипический контакт[1] в конструкциях, он, подобно генетическому коду, сохраняется, живет в каждом акте художественного звукообразования, хотя далеко не всегда осознается и непосредственно переживается исполнителем. Из глубин подсознания инструментальной культуры он порой выбивается на поверхность и объективируется в различных музыкально-языковых реалиях.
Однако поиски, связанные с опосредованием контакта палец — струна, были также необходимы. В культуре клавишно-струнных щипковый принцип звукоизвлечения прошел, может быть, наиболее сложный путь конструктивных превращений. Возбудитель колебания струны — важная проблема в технологии и эстетике игры на клавишно-струнных инструментах. Все опосредованные способы звукообразования (перышки, плектры, тангенты, молоточки) связаны с различными слухоощущениями и игровыми приемами. В зависимости от материала, формы перышек (например, более заостренной либо округлой), степени упругости крепления и т. п. они давали многочисленные оттенки силы и тембра (остроту и яркость либо мягкость, «притупленность», звонкость или матовость, сопротивляемость или легкость механики в игре и т. д.). Плектр при игре на лютне, цитре, мандолине и других струнных, а также тангент в клавикорде позволяли тремолировать, т. е. длить и филировать звучание тонов. Нельзя упускать из виду, что некоторые приспособления и приемы игры (например, на гитаре, гуслях) были ударными либо сочетанием, часто весьма тонким, щипкового и ударного приемов; воздействие тангента (принцип нажима на струну) также нельзя считать только нажимом, к последнему присоединяется и мягкий удар металлической пластины по струне (поэтому на этом тихозвучном инструменте была возможной динамическая нюансировка тонов в отдельности; в этом отношении клавикорд конструктивно и интонационно-технологически ближе к фортепиано, чем клавесин).
Охарактеризованные различия важны для исполнителя, так как они тесно связаны со спецификой технологий интонирования — звукообразования, звуковедения; их недостаточно просто знать, необходимо вжиться в них слухом, неоднократно провести через звукоощущение (для чего современному пианисту следует пройти краткий практикум игры хотя бы на клавесине).
Оперенные клавишно-струнные по звукоощущению при игре еще сравнительно близки к прародителям — струнно-щипковым инструментам: упруго-цепкая, четкая и одновременно амортизированная атака звука с последующей вибрацией струн, натянутых не столь туго и жестко, как на фортепиано, передается пальцу и руке в большей степени, нежели отдача молоточка в сложной, многоэлементной механике рояля. В тангентной механике клавикорда контакт пальца со струной ощутим еще более непосредственно, к тому же тангент при опущенной клавише остается прижатым к струне, давая возможность слегка раскачивать ее и тем самым получать вибрирующий, длящийся звук (этот прием назывался bebung, что означает «трепет, колебание»).
В игре на клавикорде использовали также прием плавного скольжения пальца вдоль клавиши «в ладонь», сами же клавиши, вначале короткие, постепенно удлинялись.
Звукоощущение в игре на фортепиано приходится признать наиболее абстрагированным от «струнности»; момент удара, как и всякая вовне направленная сила вообще, отдаляет (и физически, и психологически) от объекта воздействия. Последнее, конечно, не могло не сказаться на психофизиологии игры на фортепиано1.
Соединение органного приспособления — клавиатуры с многозвуковыми струнно-щипковыми инструментами стало знаменательным и счастливым историческим событием, давшим жизнь целой новой ветви европейского инструментария — клавишно-струнным. Более того, клавиатура явилась поистине ключом (лат. clavis — ключ) к прогрессу музыкального искусства в целом, отражая в разнообразии конструкций и эволюции многие его важнейшие направления.
Клавиатура чрезвычайно способствовала универсализации клавишно-струнных в музыкальной практике — композиторской, исполнительско-педагогической, музыкально-теоретической. Этому благоприятствовала наглядность связи устройства клавиатуры с развивавшейся звуковой системой, нотацией, становившимися все более разнообразными видами изложения. Нагляден процесс приспособления клавиатуры к новой нотации, сменившей табулатуру (применявшуюся в практике игры на струнно-щипковых инструментах)[2][3]. Столь же очевидна и убедительна связь клавиатуры с системой звукорядов: каждый звукоряд, «положенный» на клавиатуру, обретает свою конфигурацию в соотношении белых и черных клавиш, соответственно — свою клавиатурно-двигательную «топографию», принципы аппликатуры. К этому следует добавить представления об индивидуальной, закрепившейся уже окончательно в двенадцатитоновой темперированной системе тембровой окраске тональностей; энциклопедией связи ладотональной характерности с идейно-образной сферой музыки стали два тома.
«Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. Можно говорить о том, что индивидуализированное слуховое восприятие ладотональностей, сопряженное с клавиатурными представлениями (в частности, с количеством черных клавиш), в определенной мере компенсировало отсутствие высотного (зонного) компонента в интонационном комплексе клавишно-струнного инструментария. На смену энгармоническому нивелированию звучания повышенных и пониженных смежных ступеней пришло тембровое различие в звучании диезных и бемольных тональностей в целом. Известно, что диезные тональности, особенно с большим количеством знаков, звучат иначе, чем бемольные: первые — ярче, острее, как бы «выше», вторые — матовее, мягче, «ниже».
Интенсивно развивалась клавиатурно-двигательная технология, неотделимая от удобства чтения записи музыки в компактном, «синоптическом» расположении голосов и фактурных планов. Возможность играть восемью, а затем и десятью пальцами (большие пальцы включались в игру постепенно), практическое уравнивание двигательных функций правой и левой рук позволяли достичь полнозвучия, мелодической и гармонической насыщенности, открывали разнообразнейшие возможности в поисках всех новых видов изложения, в том числе приемов виртуозной игры. Все это способствовало непрерывному повышению интенсивности выражения, полноты звуковысказывания на клавишно-струнных, развитию виртуозности[4].
Нельзя не сказать и об издержках «клавиатуризации» струнно-щипковых инструментов. Одной из главных потерь была утрата непосредственного контакта руки со струной, того самого генетически заложенного в инструментарии архетипа интонационности. В ходе длительной и непрерывной эволюции механики, особенно в фортепианной культуре, этот контакт оказался столь сложно опосредованным, что связанные с ним звукоощущения чуть ли не изжились вовсе. Пианисты убеждены, что играют только на клавишах, с клавишами связаны все их технические и художественные устремления и усилия. Это убеждение, к примеру, лежит в основе некоторых ложных пианистических приемов, таких, как «массирование» или «продавливание» клавиш вертикально вниз (когда пальцы словно «прорастают» сквозь клавиатуру, правда, эти приемы могут косвенно дать положительный эффект). Дело доходило даже до использования «немой клавиатуры», о которой в свое время справедливо критически высказался Р. Шуман: «Немые не могут научить говорить». Между тем наблюдение процесса развития клавирно-фортепианного искусства доказывает ту диалектическую истину, что ничто не пропадает вовсе: что-либо в свое время утраченное затем возвращается в новой форме, мобилизует внутренние резервы, музыкально-языковые и инструментально-конструктивные, находит новые пути в целостном комплексе средств и приемов выразительности. Так, определенным восполнением утраченных в клавесинной технологии и эстетике звукоощущений и приемов, связанных с игрой непосредственно на струнах, явилась молоточковая конструкция фортепиано, возвратившая такое ценнейшее в интонационном плане свойство, как динамическая дифференциация тонов непосредственно пальцевыми усилиями.
Резонаторные детали конструкций различных инструментов в качестве части единой системы «вибратор — резонатор» также переданы им органикой человека. И здесь наличествует прямая и обратная связь: очеловечение инструментализма и инструментализация музыкального сознания. Последняя выражалась и продолжает выражаться не только в постоянных конструктивных усовершенствованиях резонаторных устройств, но и в средствах музыкального языка, приемах игры. О продолжении резонанса как акустического эффекта в процессах развития гармонии, гомофонного склада письма, фактуры писал Асафьев; развивая свою гипотезу об эволюции европейской гармонии как «системы резонаторов—усилителей тонов лада», он указывал на особое значение вокальной культуры bel canto: «Это открытие, повлияв на все виды инструментализма и, особенно, усовершенствовав систему резонаторов у струнных инструментов (отчего и запела скрипка, как душа), в сильной мере способствовало — безусловно и через практику генерал-баса, т. е. клавирного аккордового импровизационного сопровождения, — все более и более закономерному культивированию гомофонного мелоса. На первый взгляд кажется: нет взаимодействия между утонченным строительством скрипок, с изысканиями отзывчивых дек и „резонансных ящиков“, и развитием гомофонии (мелодия как поверхность, опирающаяся на „глубину“ аккордное™, или „мелодия в воздушно-тембровой атмосфере обертонности“); но эти явления обусловлены одним и тем же стремлением к созданию музыки как проявлению интеллектуализированной человечности»1.
Приведенное высказывание ученого глубоко отражает и специфику фортепианной интонационности: резонанс, прежде всего демпферная педаль, — дыхательный, пространственный аспект интонирования[5][6]. Это завоевание сравнимо с изобретением летательных аппаратов (легче воздуха) или с открытием воздушной перспективы в живописи. Появление демпферной педали фортепиано стало революционным скачком на фоне эволюционного процесса клавишно-струнных. Под влиянием этого революционного фактора появилась объективная необходимость художественно и технологически переосмыслить сложившийся до этого комплекс выразительных средств клавирного и раннефортепианного искусства, многое в системе двигательных принципов. Правая педаль породила новые мануально-слуховые приемы, новые звукоощущения, радикально изменив интонационный процесс пианиста. В XIX в. фортепианная фактура уже не мыслится без использования правой педали. В ходе развития культуры педализации преобразуются художественнотехнологические функции и смыслы артикуляции, динамики и тембра, агогики, туше, аппликатуры, пауз, цезур; в целом изменились представления об архитектонике музыкального времени — пространства.
Позволим себе повторить, что прогресс в развитии инструментария — это отнюдь не путь непрерывных счастливых обретений: это скорее восхождение по спирали, когда что-либо ранее утраченное возвращается в новом виде и качестве, в конечном же счете ничто не проходит бесследно. Столь же диалектично и соотношение прогресса в инструментальном строительстве и художественном творчестве — композиторском, исполнительском. Технические новации на определенном этапе исчерпывали свой ресурс, достигая предела возможного, тогда на первый план выходили искания художников; наступал период интенсификации в использовании средств и приемов искусства, период раскрытия внутреннего потенциала инструментария. Эти поиски, в свою очередь, стимулировали новые конструктивные усовершенствования; процесс этот продолжается и в наши дни.
В ходе исторического движения фортепиано все полнее выявляло свою двойственную природу, будучи одновременно и музыкальным инструментом, и инструментом музыки, причастным ко всем областям, жанрам, сферам музыкального искусства и культуры. Универсальная ипостась инструмента, в силу все той же диалектической закономерности единства и борьбы противоположностей, несет в себе и ряд особенностей, лимитирующих интонационные возможности исполнителяпианиста. Это дает основания говорить о сугубой важности понимания комплексной, точнее — комплексно-компенсаторной специфики фортепианного интонирования, где ограничения в одних параметрах восполняются в синтезе всех компонентов интонационного комплекса в их взаимодействии.
К изучению этой проблемы мы теперь и переходим.
- [1] Данный контакт получил отражение в семасиологических универсалиях разныхязыков. Значение слова звук соотносится с «творить, создавать»; издавать звуки —начало, начать; издавать звуки — вещь, предмет; звук, песня — рожать, производитьна свет; звук — таинство Божественного творения и т. п. (со словом звук связано огромное количество лексико-семасиологических универсалий). Обратимся теперь к слову палец: среди не менее многочисленных соотношенийнаходим: жизнь, смерть, вселенная, сила, стрела, говорить, понимание, смысл, чудо, прекрасный, гармоничный, мировой Разум, волнение духа и многое другое. «В мифопоэтической традиции палец — это символ бытия, символ всего сущего, олицетворяемого словом и светом, жизнью и смертью, символ высшей небесной силы и сексуальнойпотенции, символ небесного Разума» (.Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. С. 258;см. также с. 259, 160—171).
- [2] Предоставляем читателю сравнить охарактеризованные способы воздействияна струну (удар, щипок, нажим и их сочетания) с фрикционным принципом звукообразования в культуре струнно-смычковых инструментов. Смычок, появившийся в Европепримерно с VIII в., прошел значительный путь различных преобразований. Воздействиесмычка на струну, а отсюда и приемы игры, средства выразительности зависят от многихфакторов, в частности от формы и гибкости трости, степени натяжения волос, шириныи распластанности пучка и т. п. Заметим попутно, что предпринимались опыты комбинирования клавишно-струнных со смычковым принципом возбуждения струн, однакофрикционные клавиры не получили распространения.
- [3] Сюда относятся такие простые, но необходимые представления, как «слева направо == снизу вверх»; зоны левой и правой рук; «черный» и «белый» клавиатурные уровни, октавно-тесситурные представления. «Клавиатура, — отмечает исследователь В. Апель, —дает… визуальное изображение музыкального звукового материала, высоты звуков, октавных повторений, разделений между диатоническими основными звуками и хроматическими промежуточными ступенями. Легко понять, почему итальянцы называли в XVIвеке клавишные инструменты „istromenti perfetti“ („совершенные инструменты“)» (цит.по: Копчевский Н. А. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М., 1986. С. 6).
- [4] Приходится, однако, отметить, что рациональность игры на клавиатуре (т. е. экономия времени, физических усилий), достигнутая вследствие приспособления ее конфигурации к анатомо-физиологическим особенностям руки (например, соответствие мензуры клавиши длине и толщине пальцев, октавы — примерно величине кисти и т. п.), отчасти терялась в механизме конструкции, передающем усилие пальца к струне. Этоособенно ощущалось при сочетании регистров и мануалов клавесина, когда приходилось «пробивать» одновременно много толкачиков. Вопросам так называемого тракти-рования мастера уделяли много внимания. Известно, например, что И. С. Бах критиковал первые фортепиано мастера Г. Зильбермана за трудность трактирования.
- [5] Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. С. 350—351.
- [6] Основные резонансные детали конструкции фортепиано — резонансная дека, демпферный механизм, а также аликвотные (неударяемые) струны, резонирующиеударяемым, усиливающие их звучание и обогащающие тембр; следует упомянуть такжедискантный колокольчик, делающий звучание верхнего регистра рояля более полным, объемным.