Теоретические концепции онтологического направления
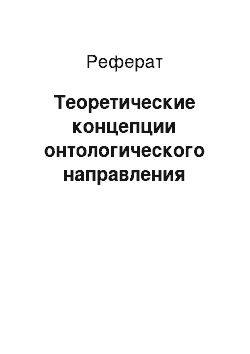
Центральный тезис философии экзистенции о самосозидании человека, рассмотренный сквозь призму конструктивизма, приводит И. Ялома к граничащей с абсурдом крайности абсолютной свободы и, соответственно, абсолютной ответственности — пациент объявляется ответственным за свои негативные переживания и за все свои жизненные трудности, которые он на самом деле сам же и создал: «Не по случайности… Читать ещё >
Теоретические концепции онтологического направления (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Теоретические концепции онтологического направления экзистенциальной психологии, с нашей точки зрения, можно разделить на две группы:
- — в первой группе концепций человек и мир рассматриваются как нерасчленимое единство (как бытие-в-мире, или Dasein);
- — во второй группе концепций, несмотря на то что ее авторы также говорят о необходимости снятия субъект-объектного разделения, человек и мир рассматриваются как неразрывно связанные, но все же как отдельные, как противостоящие друг другу реальности.
К первой группе мы относим Dasein-анализ, с которого и начнем рассмотрение, ко второй — концепции представителей североамериканской ветви экзистенциальной психологии.
Dasein-анализ базируется на философии М. Хайдеггера. «В своем эпохальном произведении „Бытие и время“ Мартин Хайдеггер выработал большое число онтологических определений человеческого бытия, которые характеризуют „Dasein“ человека», в результате чего «появилась возможность классифицировать недуги больных совершенно по-иному, нежели ранее… может быть выстроен другой порядок, который полностью основывается на экзистенциалах человеческого бытия» [Босс, 1994, с. 88—89]. «Определяя основную структуру Dasein как бытие-вмире, Хайдеггер дает в руки психиатра ключ, посредством которого он, независимо от предрассудков какой-либо научной теории, может установить и описать исследуемые им явления во всей полноте их феноменологического содержания» [Бинсвангер, 1999, с. 79]. Так, практически одинаково, характеризуют учение М. Хайдеггера основатели двух разных версий Dasein-анализа Л. Бинсвангер и М. Босс, которые поставили перед собой цель применить хайдеггеровскую онтологию абстрактного бытия к проблемам изучения бытия индивидуального.
Свободу психологической концепции от естественнонаучного редукционизма, по мнению Л. Бинсвангера и М. Босса, обеспечивает то, что М. Хайдеггер видит существо человека не как «психику», «бессознательное», «дух», «Я» и т. п., а как целостное бытие-в-мире. Таким образом, речь должна идти не о том, что такое человек, а о том, какой способ существования характерен для человека, какой способ существования является собственно человеческим. При этом, поскольку речь идет о способе существования, человек рассматривается в неразрывной связи с окружающим миром, и собственно человеческий способ существования, по М. Хайдеггеру, связан с наделением существующего и собственного бытия смыслом — бытие в мире смыслов, что и выражается термином Dasein. Однако на то, как происходит конституирование смыслов (и соответственно самого человеческого бытия), возможны две точки зрения. Первая состоит в том, что Dasein активно конструирует себя и свой мир посредством некоторой априорной смысловой матрицы; вторая полагает, что в процессе бытия в мире мир сам раскрывает свою смысловую структуру по мере того, как Dasein эту структуру выявляет, «выводит на свет». Первая точка зрения реализована в версии Daseinанализа Л. Бинсвангера, вторая — в версии Dasein-анализа М. Босса.
В самом общем виде задача Dasein-анализа состоит в том, чтобы понять связную систему онтических феноменов, которая образует целостную структуру живой ткани конкретного бытия-в-мире. Следует подчеркнуть, что под анализом здесь понимается не разложение на отдельные элементы — «Там, где существует структура, и речи быть не может об обособленности одного структурного элемента от структурного целого. Скорее каждый остается вовлеченным в другие, и изменение одного структурного элемента обуславливает изменение в прочих» [Бинсвангер, 1999, с. 87].
В основе концепции Л. Бинсвангера лежит понимание Dasein как трансценденции. Способность к трансценденции обеспечивается единством горизонта времени Dasein: прошлое (заброшенность) определяет возможности настоящего, исходя из которых в соответствии со своим миропроектом Dasein в акте действия преобразует себя и свой мир. Или, другими словами: Dasein всегда уже есть в мире, этот мир имеет и одновременно стремится его превзойти, выйти за его пределы.
Работы Л. Бинсвангера оставляют впечатление, что заброшенность Dasein можно понимать как состоящую из двух аспектов: фактичности и априорной смысловой матрицы («экзистенциальное априори»), которая определяет отношение к фактичности. Фактичность представлена телесной конституцией человека, детерминированностью психики, биологической наследственностью и инстинктивными влечениями, социальным происхождением, условиями той или иной конкретной ситуации и т. д. Экзистенциальное априори можно описать как трансцендентальную структуру, которая состоит из матрицы значений, в соответствии с которой Dasein конституирует собственный опыт и мир, или, другими словами, как предзаданный смысловой горизонт, на котором обнаруживается и раскрывается мир. Понять какого-либо конкретного человека можно, если становится видимой априорная смысловая структура, лежащая в основе того или иного поведения или переживания. Описывая своих пациентов, Л. Бинсвангер, например, говорит о том, что мироустройство одного пациента руководствуется «экзистенциальным априори натиска и давления», другого — «экзистенциальным априори полярности неземного и мира-могилы», третьего — «экзистенциальным априори близости и чуждости», четвертого — «экзистенциальным априори опасности» [там же, с. 305].
Таким образом, по Л. Бинсвангеру, Dasein, с одной стороны, оказывается заброшенным в мир, который, с другой стороны, само же и сконструировало своим экзистенциальным априори. Однако эта смысловая матрица не есть нечто раз и навсегда фиксированное — возможность изменения экзистенциального априори появляется при его осознании. При этом Dasein также должно осознать, что в связи с его конкретной заброшенностью некоторые из возможностей бытия могут быть для него исключены. Но именно такое исключение способно придать Dasein силу для обладания своим миром, для свободного самосозидания посредством выбора одной из реально осуществимых возможностей, предлагаемых его мироустройством.
Отметим, что Л. Бинсвангер говорит об экзистенциальном априори как о предварительном условии любого опыта, о мироустройстве как о воплощении экзистенциального априори, а термином «миропроект» подчеркивает аспект направленности Dasein в будущее. «Для человека обладать миром означает, что человек, хотя он сам не закладывал основы своего бытия, а был брошен в него, обладает окружающим миром, у него есть возможность трансценденции своего бытия, а именно: подняться над ним в заботе и воспарить за его пределами в любви» [Бинсвангер, 2001а, с. 316].
Л. Бинсвангер также пишет: «Моя позитивная критика теории Хайдеггера позволила мне расширить ее: бытие-в-мире как бытие существования ради меня (обозначенное Хайдеггером как „забота“) было соотнесено с бытием-за-пределами-мира как бытием существования ради нас (обозначенное мною как „любовь“)» [там же, с. 312]. Тип трансценденции, соответствующий любви, противопоставляется трансценденции, исходящей из «заботы».
Мы можем выделить три обстоятельства, которые делают такое противопоставление вполне логичным. Они связаны как с концепцией М. Хайдеггера, так и с экзистенциальной философией вообще. Во-первых, обращение к экзистенции и тем самым к подлинности М. Хайдеггер описывает как результат влияния негативных факторов: переживания ужаса, тоски, отчаяния, осознания неизбежности собственной смерти. Аналогичные положения можно найти у С. Кьеркегора, К. Ясперс добавляет к этому перечню пограничные ситуации, Ж.-П. Сартр и А. Камю — переживание абсурдности человеческого существования. Во-вторых, если человек не будет сломлен этими тяжелыми эмоциональными состояниями, а выдержит их, нет никаких гарантий, что в итоге он сделает выбор в пользу добра и совести. Так, осознание неизбежности смерти может привести к решению жить, стремясь лишь к чувственным наслаждениям, переживание абсурдности или длительное нахождение в ситуации, вызывающей сильные страдания, — к человеконенавистничеству. В-третьих, обращение к экзистенции как к своему глубинному ядру, в котором человек обретает последнюю опору и решимость для действий, согласно М. Хайдеггеру, происходит в результате радикального отделения экзистенции от внешнего мира, что ставит человека в состояние предельного одиночества и вместе с тем приводит к позиция крайнего индивидуализма.
Вырываясь к подлинности из мира das Man и выбирая самого себя, человек, проектируя себя в «заботе», делает это в условиях все того же социума, который держал его во власти неподлинности. Социальная же жизнь, пишет Л. Бинсвангер, неизбежно вынуждает человека играть ту или иную роль, так что свободный выбор на деле означает лишь свободу менять социальные роли. В социальном мире человек всегда выступает как индивидуалист, который манипулирует другими людьми и при любом общественном строе использует других в собственных интересах. В этом пространстве «заботы» человек ко всему подходит как к совокупности сил и препятствий, приобретений и потерь, власти и подчинения: «Некто полностью исчезает за суммой каких-то нечто, за которые он принимается… он объективирован и рассматривается как полностью просчитываемая и программируемая механическая система. Субъектный полюс, „кто“, забыт или самообъективировался» [Binswanger, 1964, s. 324]. В то же время Л. Бинсвангер не относится к социальной жизни негативно, считая ее априорной структурой человеческого существования, упорядоченность которой без определенности социальных ролей была бы невозможна.
Объективирующим социальным отношениям Л. Бинсвангер противопоставляет отношения подлинного понимания между Я и Ты в любви. Неизбежное в «заботе» противостояние отсутствует в «любовномбытии-друг-с-другом», поскольку любовь исключает власть или насилие. Если в «заботе» Dasein всегда находится в пути, ставит цели и решает задачи, устремляясь в будущее, то в любви время растворяется: «теперь существование больше не ограничивается бытием-в-мире, с силой бросающимся с утеса на утес, а укрепляется в бесконечной полноте родины и вечности» [Бинсвангер, 20 016, с. 449]. Таким образом, подлинное бытие, в противоположность индивидуалистическому миру «заботы», «бытия-к-смерти» и забегания в «ничто», предполагает не только самоутверждение в актах выбора, но и соотнесенность Dasein с «основанием бытия». Этим основанием, или онтологическим априори подлинности, выступает, по Л. Бинсвангеру, любовь. Очевидно, что, говоря об отношениях Я и Ты, он фактически воспроизводит не только представления К. Ясперса об экзистенциальной коммуникации, но и те положения концепций М. Шелера и М. Бубера, которые М. Хайдеггер характеризовал как «христианско-теологические».
Л. Бинсвангер также выделяет три формы, или три измерения бытия-в-мире — Umwelt, Mitwelt и Eigenwelt. Umwelt включает в себя физический мир, мир природы, детерминированный биологическими законами, куда относится тело человека с его физиологическими потребностями. Mitwelt — мир социальных отношений, область взаимодействия с другими людьми. Eigenwelt — мир отношений человека к самому себе. Именно Eigenwelt представляет собой базис, на котором строится отношение к Umwelt и Mitwelt. С точки зрения Л. Бинсвангера, концепт трех миров позволяет структурировать описание конкретного бытия-в-мире.
Работы Л. Бинсвангера позволяют выделить два основных фактора, вызывающих психопатологию.
- 1. Ограниченность, узость априорной смысловой матрицы.
- 2. Непринятие человеком условий и обстоятельств, диктуемых фактами его конкретной индивидуальной заброшенности.
Когда априорная смысловая матрица ограничена, какая-то одна область существования становится доминантной и сужает горизонт видения, что приводит к неспособности осмысливать многие аспекты опыта. Бытие-в-мире оказывается управляемым ограниченным количеством тем или даже одной темой, а это резко уменьшает потенциальные возможности и соответственно способность к трансценденции. «Чем более пустой, простой и ограниченный тот миропроект, с которым связано наше существование, тем скорее появится страх и тем сильнее он будет. Мир здорового человека с его изменяющейся структурой и сочетанием обстоятельств никогда не сможет стать шатким и зыбким. Если ему угрожают в одной части, то другая часть подставит плечо, на которое можно опереться. Но вполне естественно, что там, где мир полностью детерминирован одной или несколькими категориями, угроза их сохранности приводит к усилению тревоги» [Бинсвангер, 2001а, с. 324].
Психические нарушения могут также быть вызваны игнорированием условий и обстоятельств своей заброшенности или неспособностью принять эти условия. Dasein всегда заброшено — всегда погружено в ту или иную фактичность, и его мироустройство всегда определяется актуальной на данный момент априорной смысловой матрицей. В то же время ограничения заброшенности непременно оставляют некоторую степень свободы, которая относится также и к возможности противостоять различным обстоятельствам, которые нельзя изменить, включая события прошлого. В этой связи Л. Бинсвангер пишет, что свобода заключается в принятии Dasein своей заброшенности и предполагает способность осуществления миропроекта, согласованного с заброшенностью: «не-невротиком, то есть „свободным“ бывает лишь тот, кто „знает“ о несвободе ограниченного человеческого существования и обретает „власть“ над своим существованием в пределах этого бессилия» [Бинсвангер, 1999, с. 92]. При игнорировании заброшенности Dasein начинает строить не соотнесенные с реальностью миропроекты, наполненные ничем не ограниченными амбициозно-патологическими намерениями. В предельном случае, который имеет место при психозе, Dasein оказывается полностью захваченным своим экзистенциальным априори и начинает управляться им как бы извне, что ведет к одержимости одной конкретной картиной мира, так что «Dasein больше не опережает себя, распространяясь в будущее, а, напротив, вращается в узком кругу, в который оно заброшено, в бессмысленном и бесплодном, не имеющем будущего, повторении самого себя» [Binswanger, 1957, s. 267].
Таким образом, путь к душевному здоровью, по Л. Бинсвангеру, проходит через осознание своего способа конституирования мира и обретение на этой основе открытости по отношению к предоставляющимся возможностям.
По сути, основной Dasein-аналитический критерий оценки психических нарушений — степень, в которой Dasein теряет свободу. Это справедливо как для версии Dasein-анализа Л. Бинсвангера, так и для версии М. Босса. Современный представитель Dasein-анализа, последователь М. Босса Ж. Кондрау пишет: «С точки зрения Dasein-анализа психотерапия — это раскрытие индивидуумам специфического характера их собственной несвободы и ограниченности их способа существования. В конечном итоге она стремится освободить пациентов от свойственной им узости, чтобы они обрели способность открыто и ответственно проживать наиболее полный диапазон своих аутентичных потенциалов бытия-в-мире. Основная цель психотерапии — ничуть не меньше, чем фактическая реализация человеческой свободы, и полное оправдание психотерапевтических отношений состоит в том, что они должны мобилизовать и нацелить способности двух людей (терапевта и пациента) к освобождению одного (пациента). Другими словами, партнерство пациента и терапевта в качестве самой высокой цели имеет освобождение страдающих индивидуумов от узости, ограничивающей возможности исполнения их Dasein» [Condrau, 1994, р. 341]. Однако под ограниченностью способа существования Dasein-анализ М. Босса понимает несколько иное, нежели узость априорной смысловой матрицы, как это было у Л. Бинсвангера.
М. Босс не разделяет представлений Л. Бинсвангера об экзистенциальном априори — трансцендентальной структуре смыслов, с которой Dasein приходит в мир. В соответствии с положениями позднего периода творчества М. Хайдеггера, за которыми следует М. Босс, «„проект“, набросок смысла, в своей сути „брошен“ человеку. „Бросающее“ в „проекте“, выбрасывании смысла — не человек, а само Бытие» [Хайдеггер, 1993, с. 205]. И поэтому не Dasein придает смысл объектам, напротив, объекты сами раскрывают свои смыслы, когда Dasein готово для их принятия. Dasein, пишет М. Босс, это «свет, который высвечивает все» [Boss, 1979, р. 98], «совершенно необъективируемое освещение бытия» [Boss, 1957, s. 94], так что «сущность человека… и есть свет. Только такое сущее имеет доступ и к тому, что проявлено светом, и к тому, что скрыто во мраке… человек, таким образом, сам есть свет Бытия» [там же, s. 62—63].
Основная миссия человека как такового — дать бытию проявить себя, ведь именно благодаря свету Dasein вещи и события, выходя из своей сокрытости в темноте, становятся видимыми и понятными. «Человек…является посланником, который послан в свою жизненную историю с возложенной на него задачей дать истине… проявиться настолько, насколько это возможно в данном времени и месте» [там же, s. 70].
Соответственно основная характеристика Dasein, по М. Боссу, — это открытость, готовность к восприятию всего, что есть в настоящем. Чем больше открытость, тем ярче свет. У невротиков и психотиков свет довольно слабый и идет ограниченным, узким лучом. Такие люди страдают от жесткой заданности, отсутствия спонтанности, ограниченности видения мира; их психологические защиты представляют собой «не освещение» некоторых аспектов существования, в связи с чем психопатология подобна жизни в темноте. Вместо того чтобы постоянно сохранять свет Dasein сильно сфокусированным, следует позволить ему сиять более свободно, поэтому психотерапия направлена на увеличение открытости и тем самым усиление света Dasein и ее с полным правом можно назвать «просвещением». Открытость Dasein должна сопровождаться «позволением быть как есть» всему встречающемуся. Это положение, похожее на «принятие заброшенности» у Л. Бинсвангера, имеет у М. Босса больший оттенок созерцательности, вслушивания в бытие, улавливания его смыслов.
Сам Dasein, по М. Боссу, есть не что иное, как набор возможностей того или иного отношения к тому, что встречается, и обращения с встреченным. Среди этих возможностей следует выбрать аутентичную, соответствующую «зову совести», в противном случае Dasein оказывается сам у себя в долгу, о чем неизменно сигнализирует чувство вины.
В то время как Л. Бинсвангер использует понятия Umwelt, Mitwelt и Eigenwelt, М. Босс предпочитает использовать хайдеггеровские экзистенциалы. В качестве важнейших экзистенциалов он выделяет пространственность, темпоральность, телесность, со-бытие в разделенном с другими людьми мире, настроенность, историчность, бытие-к-смерти. Поскольку понимание М. Боссом большинства экзистенциалов мало отличается от понимания их М. Хайдеггером, остановимся только на экзистенциале «настроенность», объясняющем, почему открытость Dasein миру расширяется и сужается и почему время от времени она высвечивает различные феномены. Когда мы освещаем мир, пишет М. Босс, мы можем освещать одну вещь больше, чем другую, и также можем в разное время освещать одну и ту же вещь с разными оттенками. То, что человек в данный момент осознает и на что он реагирует, зависит от его настроения в данный момент времени. Или, другими словами, границы нашего восприятия всегда зависят от нашего настроя или настроенности — в зависимости от нашей настроенности меняется яркость, интенсивность и направленность светового луча, высвечивающего встречающееся. Если человек весел, весь мир ему кажется солнечным, если он рассержен, то любая вещь может восприниматься как «красная тряпка». Тревожно настроенный человек во всем видит угрозу, человек, чувствующий одиночество, — то, что резонирует с его одиночеством. В хорошем настроении мы будем воспринимать одни вещи, в плохом — другие, и поэтому от нашего настроя напрямую зависит, будут или не будут освещены те или иные вещи и как будет воспринято их значение.
Поскольку, согласно Dasein-анализу, мы не можем говорить о психике, сознании, личности, но лишь о феноменах целостного бытия-вмире, М. Босс не может признать наличие у человека такой психической инстанции, как бессознательное. И поэтому, оставаясь строго в рамках феноменологии, М. Босс говорит не о бессознательном, а о «сокрытом». Термин «сокрытое» относится к феноменам потенциально доступным, но лежащим за пределами ограниченного горизонта осознавания. Результатом сокрытости являются невербализуемые отношения с миром, которые, тем не менее, определяют поступки индивида и могут говорить на «телесном языке» посредством психосоматических симптомов.
Если Л. Бинсвангер почти ничего не пишет о генезисе психопатологических нарушений, то М. Босс в этом вопросе солидарен с психоанализом и объясняет ограниченность видения мира невротиком наличием у него совокупности интериоризированных норм и правил, которые мешают видеть смысл происходящего. Ребенок принимает ограничения и запреты своей семейной среды за абсолютные, универсальные нормы восприятия и осмысления мира. Навязанные в детском возрасте правила и ценности становятся формами обобщения опыта, контроля и самоконтроля, причем их семейное происхождение индивидом забывается. Впоследствии они вступают в противоречие с условиями жизни взрослого человека, но любая попытка выйти за пределы этих норм в зрелом возрасте ведет к появлению невротического чувства вины и к самоосуждению.
Любое заболевание М. Босс понимает как недостаток здорового состояния, поэтому основной вопрос Dasein-аналитической общей патологии он формулирует так: «Каким образом нарушается свободное распоряжение человека исполнением какого экзистенциала по отношению к каким соответствующим данностям мира, что это проявляется зримо?» [Босс, 1994, с. 91]. Все заболевания, включая психические, М. Босс разделяет на 4 группы [там же, с. 90].
- 1. Заболевания, где основными являются соматические нарушения — нарушения человеческого бытия-телесным.
- 2. Заболевания, где основными являются нарушения экзистенциалов пространственности и темпоральности.
- 3. Заболевания, где основными являются нарушения экзистенциала настроенности.
- 4. Заболевания с ведущей составляющей в виде нарушений открытости и свободы Dasein.
Каждая болезнь протекает так, что несет на себе отпечаток всех групп. Приведем некоторые примеры. Пациенты, находящиеся в маниакальном состоянии, живут лишь в настоящем, полны необузданного веселья и беззаботности и, хотя и чувствуют безграничную свободу и всемогущество, оказываются словно бы захваченными теми вещами, которые им встречаются. Депрессивные больные, напротив, живут наполненными виной воспоминаниями о прошлом и ожиданием катастрофы в будущем, не видя в себе самих ничего, кроме никчемности и ничтожности. Они не свободны в открытом восприятии окружающего и свободном ответе на него и потому становятся все более и более виновными перед самими собой. При «неврозе скуки» ведущая настроенность — холодность и равнодушие; такой человек убежал от своей свободы в das Man и открыт только чужим рекомендациям; поскольку он пассивно держится в отдалении от всего, с чем ему приходится сталкиваться, его пространственность не структурирована; так как он не испытывает интереса к своему прошлому и не видит значимой цели в будущем, его темпоральность сводится к несвязанной совокупности моментов настоящего.
Таким образом, Л. Бинсвангер и М. Босс используют философию М. Хайдеггера как инструмент или как карту для понимания пациентов. У М. Хайдеггера каждый автор берет то, что ему ближе, и то, что находит более полезным для работы с пациентами, при необходимости внося в исходную карту оригинальные дополнения: Л. Бинсвангер применяет для своей психодиагностической схемы язык экзистенциального априори и трех измерений бытия-в-мире, а М. Босс — язык экзистенциалов. Представители современной английской экзистенциальной психологии и психотерапии, в свою очередь, дополняют и улучшают «карты» Л. Бинсвангера и М. Босса. Например, X. Коэн вводит несколько новых экзистенциалов [Cohn, 1997], которых не было у М. Хайдеггера, а Э. ван Дорцен добавляет к трем измерениям бытия-в-мире Л. Бинсвангера четвертое — духовное измерение Uberwelt, к которому относит мир убеждений и ценностей человека [Дорцен, 2007].
Подводя итог рассмотрению теоретических концепций Daseinанализа, отметим, что понимание бытия-в-мире как нерасчленимого единства приводит, с нашей точки зрения, к парадоксальному следствию: один из компонентов этого единства в конечном счете словно бы исчезает, растворяясь в другом. В концепции Л. Бинсвангера исчезает мир, поскольку он есть лишь результат самовыражения человека: человек либо пассивно конституирует мир своим экзистенциальным априори, либо активно конструирует мир в своих миропроектах. Некоторые теоретические положения М. Босса иногда тоже трактуются таким образом, что без человека исчезает мир, поскольку нет того, кто мир «высвечивает» [Тихонравов, 1998, с. 125]. Однако это представляется самоочевидным — если нет конкретного человека, то нет и его уникального мира личностных смыслов. С нашей точки зрения, у М. Босса, напротив, исчезает человек, поскольку он, в пределе, является лишь «пассивным получателем посланий бытия».
Феномен «растворения человека» в концепции М. Босса можно также проиллюстрировать следующим образом: такие состояния, как голод, утомление, сексуальное влечение, М. Босс не может классифицировать как инстинкты, мотивы, психодинамику и т. п., потому что поступить так означало бы признать нечто, стоящее за бытием-в-мире, а это несовместимо с Dasein-анализом. Соответственно не остается места и для такой инстанции в человеке, которая была бы ответственна за принятие решений. Доводя логику «растворения человека» до предела, отечественный последователь М. Босса В. В. Летуновский приходит к неологизму «совесть ситуации». Он пишет, что нужно «жить и действовать в соответствии с совестью ситуации». С его точки зрения, говорить о «самовыражении в соответствии с внутренним голосом было бы неправильным, поскольку отсылало бы нас к субъект-объектной парадигме» [Летуновский, 2004, с. 168].
Североамериканская экзистенциальная психология в качестве философского базиса использует в первую очередь работы С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра и К. Ясперса, а не М. Хайдеггера. Если в Dasein-анализе представлена онтология бытия-в-мире, то в работах авторов американской ветви — онтология человеческой субъективности.
В творчестве самого известного американского экзистенциального психолога Р. Мэя можно выделить два этапа: на первом он придерживался персоналистической ориентации; на втором, начавшемся после опубликования им в 1958 г. обширных теоретических глав в изданной в США книге «Экзистенция: Новое измерение в психиатрии и психологии», стал в большей степени разрабатывать тематику, свойственную онтологическому направлению. Основные идеи онтологического периода творчества Р. Мэя мы рассмотрим в данном параграфе, а идеи, относящиеся к персоналистическому периоду его творчества, — в следующем.
Р. Мэй пишет о том, что фундаментальный вклад экзистенциальной психологии состоит в понимании человека как Бытия. Осознание собственной субъектности, или открытие собственного Бытия, открытие себя как Я, наступает благодаря «переживанию „я-есть“» [Мэй, 2004, с. 111]. Это переживание не является решением всех проблем человека, но предпосылкой для их решения. Для того чтобы прийти к «я-есть», необходим опыт принятия и доверия со стороны другого человека, однако основное — осознание человеком самого себя и самопринятие. Переживание «я-есть» представляет собой глубокий внутренний опыт, который невозможно описать в рациональных или социальных категориях.
Именно благодаря переживанию собственной субъектности человек обретает способность принимать решения и таким образом становится собственно человеком. Быть человеком — значит быть решающим. В этой связи Р. Мэй приводит высказывание своего учителя П. Тиллиха: «Человек по-настоящему становится человеком только в момент принятия решения» [Экзистенциальная психология. Экзистенция. 2001, с. 34]. Независимо от того, сколь могущественные силы влияют на его существование, человек может познать, что его жизнь детерминирована, и изменить отношение к собственной судьбе. Сила человека — в способности занять определенную позицию, принять конкретное решение, каким бы незначительным оно ни было. Благодаря субъектности человек имеет «потенциальную способность сделать паузу перед тем, как отреагировать, и таким образом принять решение о том, какая именно последует реакция» [там же, с. 145]. И поэтому собственно человеческое существование, по сути, состоит из свободы и творчества.
В работах Р. Мэя можно найти следующие определения понятий «Я» и «Бытие». «„Я“ означает способность человека осознавать свою деятельность и таким образом достигать различных степеней свободы в управлении деятельностью» [Мэй, 2001, с. 318]. «Бытие означает не „я являюсь субъектом“, а „я являюсь существом, которое может осознавать себя как субъекта происходящего“» [Мэй, 2004, с. 117]. «„Бытие“ должно быть определено как индивидуальный уникальный паттерн возможностей» [Экзистенциальная психология. Экзистенция. 2001, с. 19]. «Мое „Я“ или мое бытие (в этой точке они параллельны), находится в том центре, в котором я знаю себя как существо, реагирующее различными способами, в центре, в котором я переживаю себя как существо, ведущее себя теми способами, которые описываются различными функциями» [там же, с. 39].
Р. Мэй выделяет шесть онтологических характеристик человеческого Бытия: центрированность, самоутверждение, соучастие, осознавание, самосознание и тревога [там же, с. 53—67]. Центрированность представляет собой базис индивидуального бытия. Потребность сохранять собственную центрированность, отстаивать себя как отдельное существо, находит выражение в самоутверждении. И одновременно существует стремление к соучастию — стремление выйти из своей центрированности, чтобы прикоснуться к другому бытию, соотнестись с ним. Субъективной стороной центрированности является осознавание (awareness): каждое живое существо наделено опытом переживания своего тела, своих потребностей. Эти первые четыре характеристики относятся, по Р. Мэю, к биологическому уровню, который роднит человека с животными. Специфические характеристики собственно человеческого бытия — самосознание и тревога. Самосознание, или человеческое сознание (consciousness), «не является просто осознаванием угрозы из внешнего мира, но оказывается способностью знать себя как индивида, которому угрожают, переживать себя как субъекта, которого окружает мир» [там же, с. 62]. Самосознание, обеспечивая способность человека выходить за границы данной конкретной ситуации и жить в терминах возможного, лежит в основе свободы. Последней онтологической характеристике — тревоге как переживанию бытия, находящегося под угрозой небытия, — Р. Мэй уделяет особое внимание.
В исследовании тревоги Р. Мэй, как он пишет сам, развивает соответствующие представления С. Кьеркегора, но также, очевидно, и М. Хайдеггера, хотя ссылки на работы последнего при рассмотрении тревоги у Р. Мэй отсутствуют. Подобно С. Кьеркегору и М. Хайдеггеру, Р. Мэй дифференцирует тревогу и страх (ужас и страх, согласно терминологии русских переводов М. Хайдеггера, цитировавшихся в § 1.2). Эти чувства появляются у человека всякий раз, когда возрастает ощущение неопределенности, неуверенности, зыбкости своего бытия. При этом страх — это всегда страх чего-то конкретного, он угрожает периферии бытия, его можно объективировать и посмотреть на него со стороны. Тревога же есть субъективное переживание угрозы основанию, центру человеческого бытия; в тревоге человек приходит к осознанию того, что его Я может раствориться и превратиться в ничто.
Р. Мэй также дает тревоге следующее определение: «Тревога есть опасение в ситуации, когда под угрозой оказывается ценность, которая, по ощущению человека, жизненно важна для существования его личности» [Мэй, 2001а, с. 171]. Основное здесь — опасение утратить смысл своего бытия. Тревога возникает всегда, когда у человека имеются разные возможности, и, таким образом, она связана со свободой и творчеством. В этой связи Р. Мэй приводит высказывание С. Кьеркегора о том, что тревога — это состояние человека, столкнувшегося со своей свободой, «головокружение от свободы». Тревога здесь возникает из-за проблемы реализации потенциальности. Отрицая свой потенциал, терпя неудачу его исполнения, человек попадает в состояние вины — вины перед самим собой.
Исходя из опыта своей психотерапевтической практики, Р. Мэй также пишет о том, что зачастую переживание пациентами тревоги бытия самими собой равносильно психозу. Это происходит из-за того, что осознание собственной уникальности и автономности подразумевает, что необходимо быть подготовленным не только к тому, чтобы стать независимым от родительских фигур, от которых был зависим, но и к тому, чтобы вследствие этого тотчас оказаться в одиночестве без поддержки и опоры. Об этом также пишет И. Ялом: «Чистое ощущение бытия, „я есть“, чувство собственного бытия как истока вещей слишком пугает, погружая в изоляцию, поэтому человек отрицает самотворение и предпочитает верить, что существует, пока является объектом сознания другого» [Ялом, 1999, с. 424].
Таким образом, работы Р. Мэя позволяют выделить три причины тревоги:
- — угроза потери опоры и защищенности, получаемой от других людей, из-за собственного стремления стать самостоятельным автономным субъектом жизни;
- — угроза утраты собственного существования в качестве субъекта;
- — угроза того, что в бытии субъектом не будут выбираться и реализовываться аутентичные возможности.
Поскольку тревога принадлежит сущности человека, то можно сказать, что собственно человеческое бытие есть не только способность принимать решения, свобода и творчество, но также и тревога. В этом смысле тревога сама по себе не является патологичной; напротив, когда человек принимает вызов тревоги и противостоит угрозе, он сильнее чувствует свое Я, так что индивидуация — процесс, в результате которого происходит становление самим собой — достигается как раз за счет встречи с тревогой. Вслед за С. Кьеркегором, который призывал учиться «тревожиться правильным способом», Р. Мэй различает невротическую и нормальную тревогу: при нормальной тревоге человек продолжает двигаться вперед, реализуя свою свободу, при невротической — ограничивает себя и замыкается, отказываясь от свободы и, значит, от самого себя.
Обращаясь к исследованию мотивации, Р. Мэй в качестве основного мотивационного конструкта берет «демоническое» — от греческого слова daimon, «божок». «Демоническое — это любая естественная функция, которая обладает способностью целиком подчинять себе личность. Секс и эрос, гнев и ярость, жажда власти — вот примеры демонического. Демоническое может быть как созидательным, так и разрушительным и, как правило, является и тем, и другим одновременно. Когда эта функция искажается и один элемент узурпирует власть над всей личностью, мы имеем дело с „одержимостью демоном“» [Мэй, 1997, с. 127]. Демоническое — это не сознание и не суперэго, оно связано с силами природы, лежит за пределами добра и зла и воспринимается как сдавившие человека тиски судьбы. Злом демоническое становится тогда, когда оно всецело подчиняет себе человеческое Я, поэтому демоническим нужно руководить и направлять его в определенное русло. Особую роль в этом играет человеческое сознание, которое, поначалу ощущая демоническое как толчок слепой силы, может интегрировать его в личностное.
Можно сказать, что в целом рассуждения Р. Мэя о демоническом мало отличаются от представлений М. Шелера о том, что дух должен ставить инстинкты себе на службу, направляя их на воплощение ценностей. И точно так же при рассмотрении любви и воли Р. Мэй фактически повторяет положения М. Шелера, философов-персоналистов и Л. Бинсвангера о любви — «агапэ», направленной на мир и других людей, и о том, что задача человека состоит в объединении любви и воли.
Хотя в онтологический период своего творчества Р. Мэй использовал некоторые понятия Dasein-анализа — в частности, концепцию трех миров Umwelt, Mitwelt и Eigenwelt Л. Бинсвангера — все же он всегда рассматривал человека и мир как два противостоящих друг другу полюса бытия-в-мире, а не как неразрывное единство, полагая, что «мы просто не выдержали бы напряжения, если бы не могли время от времени отгораживаться от мира» [Мэй, 1997, с. 251]. Связанность человека и мира, с психологической точки зрения, выступает прежде всего как совокупность смысловых отношений, и в ее основе, по Р. Мэю, лежит такое свойство сознания, как интенциональность. «Интенциональность является мостиком между нами и объектами. Это структура смысла, которая делает возможным для нас, субъектов, каковыми мы являемся, видеть и понимать внешний мир как объективный, каковым он является. В интенциональности частично преодолевается дихотомия между субъектом и объектом» [там же, с. 243].
Р. Мэй пишет, что «мир — это структура значимых отношений, в которой существует человек и в создании которых он принимает участие» [Экзистенциальная психология. Экзистенция. 2001, с. 166]. Понимаемый таким образом мир включает в себя и прошлые события, но они существуют для человека не сами по себе, не «объективно», а в зависимости от его отношения к ним, от того значения, который они для него имеют, и поэтому можно сказать, что каждый человек творит свой собственный мир.
Однако все же Р. Мэй не так радикален, как Ж.-П. Сартр, утверждавший, что каждому надлежит заново изобрести добро и зло, моральный закон и ценности. В своей последней книге «The Cry for Myth» (1991) P. Мэй пишет, что для руководства человек должен выбрать себе миф — систему бессознательных и сознательных представлений, при помощи которых объясняются явления общественной и личной жизни, — из тех мифов, что предлагаются современностью. Многие мифы нашего времени содержатся в широко известных кинофильмах и сериалах, таких как «Звездные войны» или «Секс в большом городе», но сейчас также продолжают быть популярными и мифы о царе Эдипе и о Ромео и Джульетте. Каждое время осознает и описывает себя посредством некоторых мифов, которые позволяют человеку обрести самоидентификацию, задают его жизни направленность и смысл, помогают справляться с кризисами, чувствами тревоги и вины, пишет Р. Мэй. В то же время нетрудно видеть, что, предлагая человеку идентифицировать себя при помощи какого-либо мифа, он фактически противоречит одному из основных положений экзистенциализма, в соответствии с которым надлежит встать лицом к лицу с реальностью, а не прятаться за ту или иную мифологию, по сути дела, толкающую, выражаясь словами М. Хайдеггера, к «падению» в неподлинность и конвенциональность das Man.
Говоря о причинах возникновения психопатологии, Р. Мэй пишет, что смягчение моральных норм, снятие многих существовавших ранее запретов, большая свобода самовыражения, в том числе в сексуальных отношениях, не привели, как полагал 3. Фрейд, к росту витальности и уменьшению количества психических расстройств. Изменились лишь проблемы, с которыми люди обращаются к терапевту, — неразвитость самосознания в условиях ценностной полифонии вызывает ощущение одиночества, скуку, недовольство, потерю смысла существования, духовную атрофию. При этом основная причина психопатологии, по Р. Мэю, состоит в том, что «мы подавляем онтологическое чувство бытия. И следствием такого подавления чувства бытия является то, что у современного человека целостность образа самого себя как носителя ответственности за что-либо, его опыта как представителя человечества также оказывается нарушенной» [Мэй, 2004, с. 11].
Представители Dasein-анализа, стремясь к перестройке психологии (и даже медицины, как М. Босс) на принципах философии М. Хайдеггера, занимали конфронтирующую позицию по отношению к другим направлениям психологии. В отличие от них Р. Мэй пытался интегрировать экзистенциальную психологию с гуманистической психологией и психоанализом. Эту линию продолжил И. Ялом, который в своей последней книге «The Gift of Therapy» уже прямо пишет, что экзистенциальная психология и психотерапия являются одной из разновидностей психоанализа [Yalom, 2002, р. 10].
И. Ялом постулирует, что присущие человеку внутренние конфликты возникают не столько из-за борьбы с подавляемыми инстинктивными влечениями и травматическими воспоминаниями прошлого (3. Фрейд) или из-за столкновения потребности в безопасности и стремления к росту, приводящего к конфронтации со «значимыми другими» (неофрейдистская межличностная парадигма — Г.-С. Салливан, К. Хорни, Э. Фромм), сколько из соприкосновения индивида с жесткими данностями человеческого существования. Под «данностями существования» И. Ялом понимает четыре «конечных фактора», или «глубинных структуры», которые являются неотъемлемыми составляющими бытия человека в мире — смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Их осознание происходит, когда человек «заключает в скобки» повседневный мир, отстраняется от него и размышляет о своем бытии и своей ситуации в мире, о своих возможностях и границах. Однако чаще всего катализатором такой рефлексии выступает экстремальный, «пограничный» опыт — угроза личной смерти, необходимость принятия важного решения, радикальным образом влияющего на всю дальнейшую жизнь, крах ведущей смыслообразующей системы. И базовая тревога, определяющая основное содержание экзистенциальной психодинамики, вызвана, по И. Ялому, сознательными или бессознательными попытками справиться с четырьмя конечными факторами человеческого существования. Отметим: легко увидеть, что «конечные данности» человеческого существования И. Ялома аналогичны «пограничным ситуациям» К. Ясперса.
Смерть — наиболее очевидная конечная данность. Противостояние между сознаванием неизбежности собственной смерти и желанием продолжать жить образует, по И. Ялому, центральный экзистенциальный конфликт человека. Большинство людей признает неотвратимость смерти лишь интеллектуально, тогда как бессознательная часть психики предохраняет их от переживания тревоги и ужаса, связанных со смертью. С другой стороны, отрицание смерти на любом уровне есть отрицание собственной природы, ведущее ко все большему сужению поля сознания и опыта.
«Физически смерть разрушает человека, но идея смерти может спасти его» [Ялом, 1999, с. 180]. Идея смерти спасает, действуя как стимул, или как катализатор перехода к аутентичному состоянию, при котором «мы становимся полностью самосознающими — осознающими себя одновременно как трансцендентное (детерминирующее) Эго и как эмпирическое (детерминированное) Эго; приемлющими свои возможности и ограничения; конфронтирующими с абсолютной свободой и небытием — и испытывающими тревогу перед их лицом» [там же, с. 37]. И. Ялом также пишет о том, что страх смерти больше мучает тех, кто чувствует пустоту в своей жизни. Человек боится смерти тем больше, чем меньше он по-настоящему проживает свою жизнь и чем больше его нереализованный потенциал. В то же время очевидно, что рассуждения И. Ялома о влиянии осознания смерти на жизнь человека, воспроизводя аналогичные положения философии М. Хайдеггера, напоминают известный христианский призыв «memento mori».
Свобода — другая конечная данность человеческого существования — в отличие от смерти обычно воспринимается как нечто безусловно положительное. Однако свобода также порождает тревогу. «В экзистенциальном смысле „свобода“ — это отсутствие внешней структуры. Повседневная жизнь питает утешительную иллюзию, что мы приходим в хорошо организованную вселенную, устроенную по определенному плану. На самом же деле индивид несет полную ответственность за свой мир — иначе говоря, сам является его творцом. С этой точки зрения „свобода“ подразумевает ужасающую вещь: мы не опираемся ни на какую почву, под нами ничто, пустота, бездна. Открытие этой пустоты вступает в конфликт с нашей потребностью в почве и структуре. Это также ключевая экзистенциальная динамика» [там же, с. 13].
Следуя за Ж.-П. Сартром в понимании свободы и ответственности, И. Ялом приходит к психологии конструктивизма. Нет ни правил, ни этических систем, ни ценностей, никакого внешнего референта. И поэтому «реальность — не больше, чем иллюзия, в лучшем случае — согласование восприятий разных наблюдателей» [Ялом, 1997, с. 181]. «Мы играем центральную роль в конституировании этого мира — и мы создаем его, хотя он и представляется нам независимой от нас реальностью» [Ялом, 2005, с. 188]. Если С. Кьеркегор и Р. Мэй писали о том, что тревога, связанная со свободой, вызвана опасением пройти мимо аутентичной возможности и тем самым «не выбрать самого себя», то Ж.-П. Сартр и И. Ялом считают, что тревога свободы вызвана принципиальной безосновностью человеческого существования: «Если мы все — основные создатели мира, то где же твердая почва под ногами? Что под нами? Ничто, das Nichts» [там же]. Тем самым, по сути, И. Ялом говорит о том, что человек не может «не выбрать самого себя», потому что выбирать не из чего, поскольку наша сердцевина — ничто.
Центральный тезис философии экзистенции о самосозидании человека, рассмотренный сквозь призму конструктивизма, приводит И. Ялома к граничащей с абсурдом крайности абсолютной свободы и, соответственно, абсолютной ответственности — пациент объявляется ответственным за свои негативные переживания и за все свои жизненные трудности, которые он на самом деле сам же и создал: «Не по случайности, не из-за злой судьбы и не из-за генов пациент одинок и изолирован, страдает бессонницей, с ним постоянно плохо обращаются», и поэтому «терапевт всегда должен действовать исходя из тезиса, что пациент сам сотворил собственное неблагополучие» [Ялом, 1999, с. 259—260]. Однако в другом месте, в контексте проблемы ответственности, И. Ялом также пишет о том, что самой полезной книгой, которую он прочитал еще студентом, была работа К. Хорни «Невроз и человеческое развитие». «А самая полезная идея, обнаруженная мной в этой книге, состояла в том, что в каждом человеческом существе генетически заложена склонность к самореализации» [Ялом, 2005, с. 20]. Следовательно, человек ответственен за реализацию своих врожденных способностей, а препятствия на этом пути приводят к психопатологии. Если устранить препятствия, то человек естественным образом раскрывает свой врожденный потенциал — точно так же, как желудь развивается в мощный дуб. Отсюда основная задача психотерапевта «заключается в устранении препятствий, преграждающих жизненный путь пациентов» [там же]. При этом ответа на вопрос, каким образом можно примирить противоречивые идеи о преформизме и о безосновности человеческого существования, в работах И. Ялома, к сожалению, обнаружить не удалось.
Третья конечная данность — экзистенциальная изоляция — вызвана, по И. Ялому, непреодолимым разрывом между Я и Другими, который существует даже при очень глубоких и доверительных межличностных отношениях. Сколь бы ни были мы близки с кем-то, между нами всегда остается последняя непреодолимая пропасть: каждый из нас в одиночестве приходит в мир и в одиночестве должен его покидать. Это вызывает тревогу, порождаемую экзистенциальным конфликтом «между сознаваемой абсолютной изоляцией и потребностью в контакте, в защите, в принадлежности к большему целому» [Ялом, 1999, с. 13].
Решение дилеммы слияния-изоляции — основная экзистенциальная задача развития, пишет И. Ялом. Неудовлетворительное существование в слитности, так же, как и слишком ранний или слишком неуверенный выход из нее, приводят к тому, что человек не готов встретиться с изоляцией, сопутствующей автономному существованию. «Один из величайших жизненных парадоксов состоит в том, что развитие самосознания усиливает тревогу изоляции» [Ялом, 1997, с. 18]. Слияние рассеивает эту тревогу самым радикальным образом — уничтожая самосознание. Человек избавляется от тревоги, теряя самого себя.
Поскольку, полагает И. Ялом, проблема экзистенциальной изоляции неразрешима, терапевту следует развенчивать ее иллюзорные решения. Попытки человека избежать изоляции могут препятствовать нормальным отношениям между людьми. Многие браки распадаются потому, что вместо проявления заботы друг о друге партнеры используют друг друга как средство борьбы со своей изоляцией. В конечном счете именно встреча с собственным одиночеством делает для человека возможной глубокую и осмысленную включенность в другого.
Четвертая конечная данность человеческого существования — бессмысленность. Мы должны умереть, каждый из нас принципиально одинок в равнодушном мире, мы сами структурируем свою вселенную — есть ли тогда в жизни человека какой-либо смысл? Если ничто изначально не предначертано — значит, каждый должен сам творить свой жизненный замысел? Но могу ли я самостоятельно сделать что-то осмысленное? Эти вопросы характеризуют экзистенциальный конфликт человека как существа, ищущего смысл в бессмысленном мире.
Потребность в смысле И. Ялом объясняет нашей биологической природой: «Биологически мы устроены так, что наш мозг автоматически объединяет поступающие сигналы в определенные конфигурации. Осмысление ситуации дает нам ощущение господства: чувствуя себя беспомощными и растерянными перед новыми и непонятными явлениями, мы стремимся их объяснить и тем самым получить над нами власть. Еще важнее, что смысл порождает ценности и вытекающие из них правила поведения: ответ на вопрос „зачем?“ („Зачем я живу?“) дает ответ на вопрос „как?“ („Как мне жить?“)» [там же, с. 19].
И. Ялом достаточно подробно рассматривает различные смысловые системы: альтруизм, преданность делу, творчество, гедонизм, самоактуализацию, самотрансценденцию. Он отмечает, что большинство людей чувствует, что проекты смысла жизни приобретают более существенное значение, если находятся за пределами человеческого Я, направлены на что-то или кого-то вне нас — например, любовь к благому делу, человеку, Богу. Но окончательным ответом, который И. Ялом дает на вопрос, как найти смысл в жизни, является вовлеченность: «Вовлеченность — самое эффективное терапевтическое средство против бессмысленности… Ощущение осмысленности — побочный продукт вовлеченности… Со смертью, свободой и изоляцией необходимо встречаться непосредственно. Однако когда дело касается бессмысленности, эффективный терапевт должен помочь пациенту отвернуться от вопроса: принять решение вовлеченности, а не погружаться в проблему бессмысленности… Человек должен погрузиться в реку жизни и позволить вопросу уплыть» [Ялом, 1999, с. 540—541].
Эта рекомендация вполне в духе философии Ж.-П. Сартра: если нет ничего, что можно было бы положить в основание человеческих действий, то не важно, что конкретно делается; главное — принять решение и начать делать хоть что-нибудь, а смысл этого действия обнаружится потом, задним числом. С другой стороны, такой подход к проблеме смысла подобен тому, как если бы человек выпустил стрелу в совершенно произвольном направлении, а потом, подойдя к тому месту, в которое случайно угодила стрела, сказал, что именно сюда-то он и целился, — т. е. происходит ретроспективное конструирование смысла вокруг случайного действия. Здесь в концепции И. Ялома снова обнаруживается нестыковка: понимание осмысленности как побочного продукта вовлеченности (т.е. поведения) противоречит обосновываемому им же толкованию смысла как того, что производит ценности, определяющие правила поведения.
Движущая сила развития психопатологии, по И. Ялому, — тревога. Попытки справиться с ней вызывают сознательную и бессознательную психическую активность. Так возникают защитные механизмы, которые, с одной стороны, обеспечивают безопасность и понижают уровень тревоги до переносимого, а с другой — формируют психопатологию, сужая поле опыта и ограничивая возможности роста. И. Ялом рассматривает различные защитные механизмы, специфичные для совладания с тревогой, вызванной соприкосновением с той или иной конкретной конечной данностью существования, и приходит к выводу, что лучшее, чем человек может ответить на экзистенциальные конфликты, — это «героическая индивидуация», использующая энергию вызываемой этими конфликтами тревоги для целей личностного развития.
Если попытаться охарактеризовать психологическую концепцию И. Ялома в целом, то можно сказать, что, несмотря на очевидность описываемых им конечных данностей человеческого существования и стремление создать экономичную объяснительную систему на основе всего лишь четырех глубинных факторов, при более близком рассмотрении его теоретические построения оставляют впечатление непоследовательности.
Среди представителей американской ветви экзистенциальной психологии С. Мадди выделяется тем, что его работы содержат попытки интеграции гуманитарного и естественнонаучного подходов — попытки эмпирического естественнонаучного обоснования некоторых базовых положений экзистенциализма. Так, С. Мадци разработал технологию диагностики и развития способности человека к принятию факта своей заброшенности в мир и к выбору пути, ведущему к личностному росту. Эта способность была названа «жизнестойкостью» (hardiness) [Maddi, 1998].
Теоретические положения, лежащие в основе концепции жизнестойкости, традиционны для экзистенциализма. Линия жизни человека рассматривается как результат принимаемых им решений, при этом каждое решение так или иначе включает в себя фундаментальный выбор: либо отважиться шагнуть в новое, бросающее вызов будущее, либо отступить в старое, хорошо знакомое прошлое. Выбор будущего стимулирует развитие, представляет собой путь роста и совершенствования, в то время как выбор прошлого ведет к застою и в конечном счете к неврозу. Но, хотя с точки зрения развития выбор будущего более ценен, этот путь не отмечен на карте, связан с риском и является, по сути дела, прыжком в неизвестное. Вследствие этого выбор будущего сопровождается онтологической тревогой. С другой стороны, кажущийся на первый взгляд более легким выбор прошлого приносит с собой онтологическую вину из-за упущенных возможностей и отчаяние из-за нарастающего ощущения бессмысленности. Для того чтобы вести яркую и наполненную смыслом жизнь, нужно регулярно выбирать будущее, несмотря на сопутствующие этому сомнения и переживание онтологической тревоги. Если перевести эти теоретические рассуждения в область психологии индивидуальности, то логично предположить, что люди, способные выбирать будущее, должны обладать определенными личностными качествами, которые отличают их от тех, кто более склонен к выбору прошлого.
Следует отметить, что С. Мадди пришел к своей концепции жизнестойкости на основании масштабных лонгитьюдных исследований способности человека справляться с постоянно изменяющимися, зачастую стрессогенными, условиями жизни в современном обществе [Maddi,.
2002]. Те люди, которые обладали способностью при стрессогенных изменениях не впадать в апатию и чувство безысходности, а, напротив, видеть в этих изменениях открывающиеся им новые возможности и использовать эти возможности для собственного развития, продемонстрировали совокупность сходных психологических характеристик, которые и были объединены под общим названием «жизнестойкость». Определяется жизнестойкость как специфическая структура установок и навыков, которая позволяет человеку трансформировать происходящие с ним стрессогенные изменения в новые возможности, преобразовывать препятствия и стрессы в источник роста и развития.
Жизнестойкость, для диагностики которой С. Мадди разработал специальный опросник «Personal Views Survey III», включает в себя три компонента: вовлеченность (commitment), контроль (control) и вызов, или принятие риска (challenge). Вовлеченность состоит в психологической установке и деятельности, которые характеризуются стремлением сохранять контакты с людьми и включенность в события, несмотря на стрессогенные факторы и изменения. Установка контроля мотивирует человека на то, чтобы активно искать ресурсы, которые помогут не скатиться в состояние беспомощности и пассивности и добиться влияния на результаты происходящих изменений. Установка вызова, или принятия риска, состоит в восприятии человеком любых жизненных обстоятельств как обращенного лично к нему вызова; это установка открытости и стремления к развитию на основе собственного опыта, как положительного, так и отрицательного. С. Мадди и его сотрудники провели многочисленные экспериментальные исследования [Maddi & Khoshaba, 1994], которые свидетельствуют о наличии положительной корреляции жизнестойкости со способностью справляться с трудными жизненными ситуациями, креативностью, лидерскими качествами, толерантностью к фрустрации, социальной активностью, отсутствием психосоматических расстройств и другими личностными качествами, отражающими психическое здоровье, позитивное мироощущение, стремление к социальным контактам и развитию.
Рассмотрим подробнее проведенные С. Мадди исследования соотношения жизнестойкости и религиозности. Как персональные позиции, исходя из которых осуществляется взаимодействие человека с миром, жизнестойкость и религиозность имеют сходство и различие. «Главное сходство состоит в том, что обе эти персональные позиции являются скорее духовными, чем материальными. Духовность религиозности очевидна, поскольку она побуждает человека думать о смыслах более высокого порядка, чем простые материальные блага, и культивировать такие качества, как мужество, честность, справедливость. Хотя это и менее очевидно, но жизнестойкость тоже скорее духовна, чем материальна, поскольку дает человеку мотивацию и мужество находить позитивный смысл, оставаться вовлеченным, продолжать попытки преодолевать трудности и расти в жизненной мудрости» [Maddi, 2004, р. 38].
Основные различия между жизнестойкостью и религиозностью, согласно С. Мадди, связаны с источником и направлением духовности. В религиозности источник и направление для духовности — представление о некотором надприродном порядке, о том, что за внешним хаосом кроется мудрость и замысел, и о Боге или богах, отвечающих за вселенную. В отличие от этого источник и направление духовности в жизнестойкости — субъективная борьба человека за то, чтобы объяснять и упорядочивать собственный опыт и влиять на него в стремлении отыскать смысл в этом безразличном мире. Несмотря на эти различия, и жизнестойкость, и религиозность представляют собой набор убеждений, которые обеспечивают человеку ресурсы для того, чтобы справляться с жизненными трудностями и участвовать в социальных взаимодействиях, наполненных взаимной поддержкой.
В результате экспериментальных исследований соотношения жизнестойкости и религиозности (выраженность последней оценивалась по опроснику «Duke Religion Index DRI») было установлено, что между их общими показателями имеется умеренная положительная корреляция. Эта статистически значимая корреляция указывает на то, что у этих духовных позиций есть нечто общее. С другой стороны, общий показатель религиозности демонстрирует значительную положительную корреляцию с такими компонентами жизнестойкости, как вовлеченность и контроль, но не показывает никакой корреляции с компонентом вызова, или принятия риска. «Это наводит на мысль, — пишет Мадди, — что сохранение вовлеченности в совокупности с попытками оказать влияние на окружающий мир согласуется с религиозной позицией, тогда как рост жизненной мудрости как результат научения на собственном опыте может выглядеть слишком индивидуалистично с точки зрения религиозных убеждений» [там же, с. 39].
С. Мадди также исследовал сравнительную эффективность жизнестойкости и религиозности в преодолении стрессогенных жизненных обстоятельств и совладании с депрессией и гневом. Его выводы: «Результаты нашего исследования довольно ясно показывают, что именно жизнестойкость, а не религиозность стимулирует эффективное совладание, так что стресс, напряжение, депрессия и гнев минимизируются… Религиозность может быть полезна в отсутствие жизнестойкости… Жизнестойкость делает основной акцент на индивидуальных усилиях, которые человек прикладывает для нахождения смысла и обретения ощущения исполненное™, в то время как религиозность придает основное значение пассивному принятию некоего предопределенного и относительно неизменного жизненного кредо» [там же, с. 42]. Другими словами, жизнестойкость стимулирует человека на поиск своего собственного индивидуального смысла, а религия предписывает смысл — в этом, по С. Мадди, и состоит основная причина того, что позиция жизнестойкости более эффективно помогает человеку совладать с трудными жизненными обстоятельствами.
Таким образом, складывается впечатление, что конструкт жизнестойкости, выделенный С. Мадди в ходе психологических исследований, проведенных в соответствии с естественнонаучным подходом, дает возможность операционализировать одно из базовых понятий экзистенциальной философии и психологии, которое П. Тиллих обозначил как экзистенциальное мужество, или «мужество быть». Такая операционализация также позволила С. Мадди разработать систему психотехник — специальных упражнений и тренингов — которые способствуют формированию жизнестойкости и, тем самым, росту экзистенциального мужества и соответствующей ему способности человека находить смысл [Maddi, 2002].
Если Р. Мэй и И. Ялом в своих теоретических построениях уделяли внимание обоим полюсам интенционального акта, то в концепции Дж. Бьюдженталя основное место занимает субъективность, внутренний мир переживаний человека. Сущность человека есть непрерывный процесс дорефлексивного невербального осознавания своего бытия, пишет он. Это субъективное осознавание бытия и представляет собой подлинную природу человека, его настоящее Я. «Я — исключительно процесс моего бытия — например, процесс написания этих слов, — но я не содержание слов или идей, которые они выражают. Я — тот, кто осознает процесс письма, выбирает способы выражения мыслей, надеется на понимание, наслаждается возникновением мыслей и образов своих переживаний» [Бьюдженталь, 1998а, с. 33]. Я как субъективный центр человека есть центр не в виде некоторой фиксированной точки, но центр процесса переживания, или Я-процесс. Вследствие того, что содержания, с которыми человек соотносится в своих интенциональных актах, постоянно меняются, его Я также представляет собой непрерывно изменяющийся процесс, который, однако, если убрать его содержательное наполнение, в своей сердцевине открывает ничто. Очевидно, что в своих рассуждениях о сущности человека как о процессе нерефлексивного осознавания бытия Дж. Бьюдженталь практически воспроизводит известные положения философской концепции Ж.-П. Сартра.
Процесс внутреннего осознавания, или «внутреннего видения» (аналогично этому Ж.-П. Сартр говорил о дорефлексивном «сознании-зрении» [Сартр, 2002, с. 354]) имеет следующие свойства, или характеристики: «Внутреннее осознание — это действительно выражение всего моего бытия, так же, как чувство любви, гнева, голода или эмоциональной вовлеченности в какое-либо занятие. В этом своем качестве внутреннее видение информирует меня, насколько то, что я переживаю в данный момент, соответствует моей внутренней природе. Поскольку оно является основой моего знания — где я и как обстоят дела в моем субъективном существовании — оно служит мне примерно так же, как мое внешнее видение. Оно дает мне ориентацию и помогает выбрать нужное направление внутри меня… Органом внутреннего осознания является все мое бытие, паттерн или гештальт, заключающий в себе смысл того, кто я есть. Однако будет полезно говорить о внутреннем осознании всего моего бытия, как если бы для этого существовал определенный орган чувства» [Бьюдженталь, 1998а, с. 22]. Внутреннее зрение открыто множеству сигналов — восприятию происходящего во внешнем мире, предвидению будущего, памяти, фантазиям, желаниям и всем остальным формам внутренней жизни. При этом существенно, что в результате внутреннего осознавания возникает нечто новое — то, появление чего нельзя объяснить простой актуализацией прошлого опыта или рекомбинацией предыдущего научения. Внутреннее видение — это творческий процесс, не только охватывающий то, что уже имеется в наличии, но и предлагающий новое понимание, новые возможности, новые способы поведения.
Итак, внутреннее осознавание выполняет следующие функции:
- — показывает человеку, какие возможности перед ним открыты;
- — позволяет почувствовать, насколько аутентичным является сделанный выбор и то или иное поведение;
- — творчески переосмысливает внутреннюю и внешнюю реальность;
- — непрерывно осуществляющийся процесс внутреннего осознавания дает человеку ощущение неуничтожимой внутренней опоры.
Однако если внутреннее осознавание является столь непосредственным выражением истинной природы человека, почему же мы не используем свое внутреннее видение постоянно? Дж. Бьюдженталь указывает на два момента, препятствующие этому:
- — раннее воспитание по большей части учит ребенка игнорировать сигналы своего внутреннего чувства; родители и учителя из лучших побуждений стремятся социализировать ребенка так, чтобы его собственные желания, чувства и склонности не привели к конфликту с окружающим миром;
- — объективирующий способ мышления, принятый в естественнонаучной психологии, навязывает обществу искаженный образ человека.
Относительно первого пункта Дж. Бьюдженталь пишет, что в процессе воспитания и социализации у человека формируется расщепление между его тайным, истинным Я и Я публичным, общественно одобряемым. Те требования, которые идут изнутри, ребенок рано научается рассматривать как подозрительные, эгоистичные, безответственные и безнравственные, а потому подлежащие немедленному строгому контролю и подавлению. Вначале этот контроль осуществляют взрослые, но со временем, в результате формирования Сверх-Я, человек начинает сам выполнять функции собственного надзирателя. Так происходит постепенное блокирование внутреннего опыта, голос истинного Я становится практически неслышным, и человек утрачивает свою индивидуальность и внутреннюю опору, а потому вынужден руководствоваться указаниями извне. Задача состоит в том, чтобы восстановить идентичность: вернуть себе внутреннее осознавание и следовать своему внутреннему чувству, которое было частично или полностью подавлено.
Естественнонаучная психология, которая стремится к тому, чтобы ее объекты можно было предсказывать и контролировать, тоже не помогает человеку почувствовать себя автономным, самоуправляемым существом. «Когда для нахождения всеобщих истин о пяти миллиардах людей берутся выборки размером в тридцать, триста или даже три тысячи человек, логика теряется в суеверии» [Бьюдженталь, 19 986, с. 196], поэтому, пишет он далее, наиболее важные аспекты того, что значит «быть человеком», гораздо тщательнее исследованы литературой, чем формальной психологией.
В соответствии с принципиальным для экзистенциальной и персоналистической философии пониманием бытия человека как отношения Дж. Бьюдженталь подчеркивает, что внутреннее осознавание постоянно взаимодействует с окружающим миром. Каждый человек создает собственную систему конструктов «Я-и-Мир», которые задают направление его жизни. Экзистенциальный кризис представляет собой крушение системы конструктов «Я-и-Мир», которое сопровождается переживанием отчаяния из-за невозможности продолжать быть так, как раньше. В случае конструктивного разрешения экзистенциального кризиса на пределе отчаяния «через осознание смерти своего физического бытия человек может подняться к свободному воздуху жизни-процесса» [там же, с. 60], где приходит осознание абсолютной автономии субъективного, открываются глаза на новые возможности, становится более аутентичным способ бытия в мире.
Важное место в концепции Дж. Бьюдженталя занимает положение о неразрывной связи человека с другими людьми. Эта связь парадоксальна: «каждый человек одновременно является частью других людей и отделен от всех других… Эта постоянная и на первый взгляд противоречивая двойственность лежит в основе всех наших отношений и пронизывает самую суть нашего бытия» [там же, с. 122]. Для обозначения данного парадокса Дж. Бьюдженталь использует выражение «раздельноно-связанно», что фактически представляет собой несколько переиначенное христианское «неслитно и нераздельно».
В контексте взаимоотношений человека с другими людьми Дж. Бьюдженталь, как и И. Ялом, описывает две возможные крайние ситуации: акцентирование одиночества и отделенности vs. концентрация на связи с другими людьми. В первом случае человек сохраняет постоянную настороженность по отношению к внешнему миру, потому что раньше эмоциональная вовлеченность не приносила ему ничего, кроме боли. Опасаясь утонуть в требованиях и ожиданиях других людей, он пытается отгородиться от них непроницаемой стеной, испытывая страх, что если позволит себе стать частью другого, то будет поглощен другим, растворится в нем. И одновременно такому человеку приходится безжалостно подавлять собственные внутренние импульсы, направленные на других. К концентрации на другой стороне парадокса — связи с другими — может приводить переживание собственной беспомощности и уязвимости, в этом случае субъективным условием безопасности является не отделенность от других, а принадлежность им. Отсюда стремление угождать другим, постоянная готовность быть управляемым ими. Однако потеря собственного Я не может привести к глубоким отношениям, потому что близость требует присутствия двух разных людей, двух индивидуальностей. Дж. Бьюдженталь пишет, что важно научиться прислушиваться к своему внутреннему чувству, чтобы регулировать степень и характер вовлеченности в отношения с другими, находя баланс между жизнеутверждающими отношениями и обогащающим человека одиночеством. «Когда мы наиболее аутентичны, мы иногда обнаруживаем, что эти аспекты могут поистине сливаться воедино. В наиболее подлинные моменты близости между мужчиной и женщиной, которые искренне любят и доверяют друг другу, парадокс раздельности-но-связанности преодолевается. Чем больше выполняется одно, тем более верным оказывается другое. Нет больше дающего и получающего; между мной и другим больше не существует пропасти. Напротив, есть радость от реализации индивидуальности, по-новому открывающейся в отношениях и подтверждаемой глубоким внутренним откликом партнера» [там же, с. 160].
Для описания межличностных отношений Дж. Бьюдженталь разработал модель уровней присутствия. Хотя эта модель создавалась для исследования терапевтической эффективности разных типов отношений пациент-терапевт, тем не менее представляется, что она имеет общепсихологическое значение. Термин «присутствие» здесь служит для обозначения качества бытия человека в ситуации или отношении; присутствие имеет две грани — доступность и экспрессивность. Доступность означает степень открытости воздействиям извне, степень того, насколько человек позволяет себе быть затронутым, что, в свою очередь, отражает степень значимости для него происходящего. Экспрессивность означает степень, в которой человек позволяет другому узнать свои действительные переживания в данной ситуации.
Дж. Бьюдженталь достаточно подробно описывает пять уровней присутствия.
- 1. Формальное общение. На этом уровне присутствия доступность и экспрессивность сдерживаются, чтобы ограничить включенность в общение и сохранить определенную маску. Сосредоточивая внимание на своем имидже и избегая переживаний, человек все держит под контролем, пока не определит, что представляет собой другой и что дальше делать ему самому.
- 2. Поддержание контакта. Общение на этом уровне ведется с людьми, с которыми человек встречается достаточно регулярно, но по очень частным вопросам: зубной врач, почтальон, вахтер в подъезде. Такой разговор бывает недолгим, он вращается вокруг непосредственного дела или же представляет собой просто обмен приветствиями. Хотя по сравнению с формальным уровнем здесь существенно меньше озабоченности имиджем, самораскрытия тоже совсем немного.
- 3. Стандартные отношения соответствуют обычно ожидаемому поведению и представляют собой некоторое равновесие между заботами о собственном имидже и вовлеченностью в выражение внутренних переживаний. Разговоры на этом уровне сосредоточены на каком-либо конкретном содержании и предполагают искреннюю, но ограниченную включенность и, как правило, не содержат конфликта. Такое общение бывает, например, между сослуживцами на работе, мужчинами, обсуждающими футбольные новости, и т. п.
- 4. Критические обстоятельства соответствуют узловым моментам в общении, когда один из собеседников или оба сразу сталкиваются с различиями во взглядах, отношениях или проявлениях эмоциональности. Человек, присутствующий на этом уровне, более озабочен выражением своих актуальных переживаний, чем созданием или сохранением имиджа. Общение на уровне критических обстоятельств приводит к серьезным изменениям в самоотношении и в отношениях с партнером — возможно, к конфликту, а иногда к интимности.
- 5. Интимность означает погружение собеседников в общую эмоциональную реальность, психологическое сближение, глубокое взаимопонимание без слов. Интимность не является стойким состоянием отношений. Моменты интимности приходят спонтанно, длятся недолго и неминуемо заканчиваются, однако они навсегда остаются важными вехами во взаимоотношениях и могут приводить к изменениям во внутреннем мире партнеров.
Модель уровней присутствия раскрывает основной метод психотерапии по Дж. Бьюдженталю: углубление уровня присутствия пациента для того, чтобы он смог соприкоснуться с собственным внутренним осознаванием. Главным средством достижения этого является субъективность психотерапевта — говоря языком экзистенциальной философии, терапевт стремится вывести пациента на уровень экзистенциальной коммуникации, где пациент пробуждается к экзистенции, соприкоснувшись с экзистенцией терапевта.
Как и все экзистенциальные психологи, Дж. Бьюдженталь говорит о выборе, свободе и ответственности, но делает это словно бы вскользь, то ли полагая, что эти вопросы уже детально разработаны другими экзистенциальными философами и психологами, то ли не считая их достаточно важными. Драматический аспект человеческого существования, связанный с выбором, и центральное положение экзистенциальной философии «быть человеком — значит принимать решения» в концепции Дж. Бьюдженталя несколько отодвинуты на задний план. В результате создается впечатление, что, как только человек находит свой субъективный центр во внутреннем осознавании и обретает «руководящее им внутреннее знание» [Бьюдженталь, 1998а, с. 312], все складывается само собой: внутреннее осознавание само сделает выбор, на него надо просто положиться и следовать ему. В этом отношении процесс внутреннего осознавания по Бьюдженталю очень напоминает тенденцию к самоактуализации по К. Роджерсу. Видимо, именно поэтому свою концепцию Дж. Бьюдженталь называет «экзистенциальногуманистической», хотя, с нашей точки зрения, его теоретические представления, в отличие от представлений К. Роджерса, имеют очевидные корни в философии экзистенции. Имплицитная близость взглядов Дж. Бьюдженталя к персоналистической тематике связана, на наш взгляд, с тем, что разработанная им модель уровней присутствия и методология углубления уровней присутствия как основного пути к обнаружению субъективного центра во внутреннем осознавании имеют некоторые параллели с процессом актуализации личности.
В завершение обзора теоретических концепций онтологического направления экзистенциальной психологии отметим два момента. Во-первых, психологические модели по большей части производят впечатление парафраза основных идей философии экзистенции, так что оригинальных психологических разработок в онтологическом направлении, на наш взгляд, немного. Вместе с тем сама по себе популяризация философии экзистенции, ее адаптация к сфере психологического консультирования и психотерапии, несомненно, является значительным вкладом в культуру.
Во-вторых, теоретические представления авторов онтологического направления с трудом поддаются систематизации. Обычно в оправдание этого приводится следующее высказывание М. Босса: «Я смею лишь надеяться, что экзистенциальная психология никогда не разовьется в теорию в ее естественнонаучном понимании. Все, что может сделать для психологии экзистенциальная психология, — это научить ученых оставаться при пережитых и доступных переживанию фактах и феноменах, давать этим феноменам раскрывать перед учеными свои смыслы и свои связи — и так составить суждение о встречающихся объектах» [цит. по Прохазка, Норкросс, 2005, с. 81]. Опасность теории видится в том, что она может привести к стремлению подгонять поведение и переживания человека под задаваемые теорией категории, — и тем самым будет элиминирована свобода и уникальность конкретной экзистенции. Однако опасность бессистемности — в сосредоточении внимания на случайном, атрибутивном, в трудностях согласования взглядов разных специалистов на одни и те же феномены. С нашей точки зрения, отсутствие структурированности и целостности в теоретических концепциях авторов онтологического направления можно объяснить тем, что они основной упор делают на существование, изменяющееся вместе с ситуацией, в которой находится человек, и пренебрегают сущностью, которая при любых переменах во внешней ситуации остается неизменной.