Философская основа иронического модуса повествования в литературе постмодерна
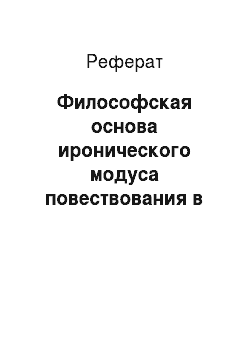
Таким образом, можно сказать, что именно стратегия иронического и максимально неоднозначного повествования позволяет соединить «нравственную проповедь» и «игровую свободу», что является характерным для современной философии. При этом сам повествовательный дискурс становится одним из основных средств дидактического воздействия на читателя, стремясь не только «перестроить» его мышление, но и на… Читать ещё >
Философская основа иронического модуса повествования в литературе постмодерна (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Анализ особенностей постмодернистского дискурса в контексте современных философских установок. Ирония рассматривается как особое средство реализации авторской позиции и способ дидактического воздействия на читателя.
The analysis of post-modernist discourse’s features in the context of modern philosophical ideas has been reviewed in this paper. Irony has been viewed as a particular tool of the author’s opinion realization and the didactic influence upon the reader.
Философия и наука ХХ века характеризуются созданием особой модели нелинейного непостижимого мира, главной чертой которого становится множественность и релятивизм, причем не только физических величин — времени и пространства, но и духовных — Истины, Добра, Бога. Стремление избежать догматизма и негативное отношение к любой моносемии провоцируют современный духовный кризис: нравственные категории теряют статус авторитетов, превращаясь в объект игры, дробясь в бесчисленных интерпретациях и становясь предметом сомнения в самом факте их существования.
Недоверие к позитивистскому знанию, установка на плюрализм и релятивизм наиболее ярко выражаются в литературе постмодерна, создающей полисемичную модель текста, разрушающего линейность повествования, направленного на игру с читателем и активное сотворчество с ним. Главным принципом построения текста становится смысловая неопределенность [8], в соответствии с этим меняется суть отношений автора и читателя — они вместе пытаются поймать ускользающую истину текста, которая теряет свой статус Абсолюта, превращаясь в результат языковой игры. Следствием данных игровых отношений становится провозглашаемый антидидактизм литературы, утрата ситуации нравственного учения и духовного катарсиса читателя, демифологизация и инверсия традиционных символов культуры.
С этим связана и актуальность данной статьи: предлагаемая работа посвящена одной из самых значимых проблем современных гуманитарных наук — содержанию и перспективам постмодернистской риторики, активно осваивающей дискурсы предшествующих эпох с целью преодоления власти классических метарассказов.
Объект исследования — художественные тексты русской (Ю.Мамлеев, В. Пелевин, Вик. Ерофеев и др.) и зарубежной (Б. Виан, М. Павич, К. Фуэнтес, Д. Бартельми и др.) малой прозы ХХ века, объединенные постмодернистским типом мироощущения.
Предмет исследования — уровень художественного повествования, играющий основополагающую роль в формировании структуры иронического модуса произведения.
Сам предмет обуславливает новизну исследования: рассмотрение текстов постмодернистской прозы как особой иронической модели реализации современной философии в полном объеме не предпринималось в литературоведении, несмотря на то, что существует ряд серьезных исследований, посвященных рассмотрению феномена постмодерна (работы И. Скоропановой, Н. Маньковской, В. Курицына, М. Эпштейна, И. Ильина и др.). Подавляющее большинство литературоведов анализирует лишь внешнюю форму строения текстов постмодернизма, не признавая философского, а тем более дидактического подтекста подобных произведений.
В связи с этим целью данной статьи становится определение философской основы иронической повествовательной модели постмодернистских текстов. Поставленная цель предполагает решение ряда задач: систематизацию приемов реализации иронического модуса в постмодернистских рассказах, выявление особенностей героя и сюжетной ситуации, изучение композиционного своеобразия текстов, анализ стилистики данных произведений в контексте современной философии и др.
Теоретические и методологические основы исследования: 1) методы теоретической поэтики (С.Н. Бройтман, В. И. Тюпа, Н.Д. Тамарченко), позволяющие оценить становление новых сюжетно-жанровых отношений в литературном процессе; 2) методы философской критики (Ж. Деррида, М. Бланшо, У. Эко), рассматривающие художественные произведения в широком культурологическом контексте; 3) лингвопоэтические методы, призванные раскрыть внутренний мир произведения в единстве составляющих его знаков, подлежащих интерпретационной деконструкции.
Научно-практическая значимость. Данные исследования могут быть использованы при теоретическом изучении повествовательных моделей, а также феномена постмодерна как философского и литературного направления. Интерпретация самих художественных текстов может быть включена в лекционно-практические курсы, посвященные литературе ХХ века. Кроме того, работа, остающаяся в рамках литературоведения, апеллирует к таким областям гуманитарного знания, как философия и лингвистика, а значит, может представлять определенный интерес для междисциплинарных исследований.
Структура предлагаемой работы соответствует поставленной цели исследования: вначале рассматриваются особенности героев и сюжетостроения постмодернистских текстов, затем — фрагментарная композиция, построенная на принципах иронии, игры и пастиша, после этогохарактерные черты стилистики данных произведений.
Определяющим элементом построения постмодернистского текста становится принцип игры и корректирующая ирония, подчеркивающие относительность любого высказывания и действия. Следствием игры является абсурдность событий, поведения героев (Б. Виан) и внешняя шизофреничность повествователя (Вик. Ерофеев, Ю. Мамлеев, В. Сорокин). Так, многие герои постмодернистских рассказов и русских, и зарубежных авторов представлены как маргиналы с точки зрения обыденного сознания: Фидель учится в школе могильщиков (Б.Виан, «Пустынная тропа» [3]), Отто является начальником концлагеря (Х.-Л. Борхес, «Немецкий реквием» [2]), Велуча торгует собой (М.Павич, «Долгое ночное плавание» [10]), студенты строят стихотворение из камня (М.Павич, «Два студента из Ирака» [10]), герой пытается понять кошку (В.Пелевин, «Ника» [11]), сестры живут жизнью умершего брата, описывая ее в дневнике (М.Павич, «Сводный брат» [10]) и т. д. При этом некоторых героев объединяет стремление отгородиться от других людей, они замыкаются в себе: «Я не люблю выходить из своего номера в отеле, а когда выхожу, предпочитаю бродить в одиночестве. Если случается с кем-нибудь встретиться, стараюсь быстрее отделаться от спутника» (К. Фуэнтес, «Устами богов» [9, 331]); «Он терпеть не мог, когда не зашторено окно, а шторы просто ненавидел и помянул теперь недобрым словом косность архитекторов: вот уже которое тысячелетие жилые дома стоят с продырявленными стенами» (Б. Виан, «Печальная история» [3, 361]).
Аутичная манера поведения постмодернистских персонажей, как и их противопоставленность «норме» поведения или занятия, ставит героя повествования в положение юродивого, который, «…смеясь, плачет и пеpевоpачивает сущности, чтобы их обновить» [6, 78]. Так и во фрагментированных сознаниях постмодернистских героев смещены и слиты противоположные сущности: истина, пародия на нее, любовь, жестокость, убийство, жалость к ребенку, влечение к смерти. К примеру, в рассказе Б. Виана «Золотое сердце» герой, убивший священника, чтобы завладеть его сердцем («Беднягу, правда, довелось слегка выпотрошить — в частности, вспороть ножом грудную клетку, но когда выпадает случай заполучить золотое сердце, не приходится колебаться в выборе средств» [3, 373]), говорит водителю такси: «Поезжай теперь по правой стороне, а то еще, не дай Бог, ребенка задавим» [3, 375].
В целом юродивость героя и самого автора становится своеобразным средством апофатической подачи истины и своеобразной негативной дидактики: как пишет В. Курицын, «…позиция юpодивого как нельзя лучше соединяет в себе оба беpега — и нpавственную пpоповедь, и игpовую свободу» [6, 78]. Таким образом, жестокость современной цивилизации и современного человека, необходимость ее преодоления показаны через призму абсурдного сознания, через совмещение игры и проповеди.
Ярким примером подобного совмещения также может служить оттеснение истины текста на периферию: в рассказах В. Пелевина часто кажущиеся абсурдными фрагменты радиоречи, обрывки плаката передают основное содержание авторской мысли. Так, повторяющаяся в нескольких рассказах идея об уничтожении сакральной сущности смерти в идеологизированном советском социуме сформулирована в нарочито трагических и как бы нацеленных на ироническое восприятие словах радио: «О ужас советской смерти! В такие странные игры играют, погибая, люди!» [11, 188]. Между тем за этой иронией скрывается серьезность авторской мысли.
Ярким выражением иронической игры с читателем, направленной на активизацию его творческого восприятия текста, становится также создание образов-симулякров, трансформация архетипических символов и мотивов, а также нелинейность повествования, фрагментированность текстовой структуры, как, например, в текстах М. Бланшо или Д. Бартельми: «72. Мимо меня пролетела стайка соловьев со светофорами в лапках. 73. Надо мной появился рыцарь в бледно-розовых латах. 74. Рыцарь падал, его латы скребли по стеклу, издавая негромкие, режущие ухо звуки. 75. Пролетая мимо, он скосил на меня глаза. .77. Я отлепил первый квач. 78. Мои знакомые обсуждали вопрос, кому из них достанется моя квартира» (Д.Бартельми, «Стеклянная гора» [1, 234]). Фрагментация и нелинейность повествования создают эффект самоорганизующегося хаосапостмодернистский текст превращается в игровое моделирование мира.
Действенным средством разрушения стереотипов человеческого сознания и сохранения игровой свободы восприятия становится и стиль повествования. В ХХ веке меняется само представление о языке: являясь определенной структурированной системой, обладающей совокупностью норм, язык в свете всеобщей множественности начинает восприниматься как «тоталитарная система», формирующая высказывания, «…претендующие на истинность, хотя сводится к определенному означаемому (подразумеваемому, понимаемому)» [12, 15]. Это своеобразное «навязывание» истины воспринимается как не отвечающее современному представлению о мире, поэтому, как пишет И. С. Скоропанова, «закономерно стремление освободиться от тоталитаризма языка и непосредственно связанного с ним мышления» [12, 15]. Средством освобождения становится разрушение моносемии текста и отдельного высказывания при помощи их децентрации: ни некая высшая «Истина-Первоначало», ни тем более автор не могут предписывать тексту определенное фиксированное значение, вместо «господствующих метанарративов» в процессе языковых игр появляются «конкурирующие между собой микронарративы, ни одному из которых в обществе не принадлежит доминирующая роль, что должно способствовать раскрепощению сознания» [12, 18]. В результате доминантой стиля текста становится языковая игра, находящая свое воплощение на различных уровнях его структуры через интертекстуальность, пастиш, иронию, бриколаж, шизоанализ.
Интертектуальность подразумевает включение в текст фрагментов из других текстов, в результате чего современное произведение начинает соотноситься с заимствованными источниками, вписываясь в общий гипертекст культуры. При этом происходит репрезентирование претекста при помощи знакового культурного кода, отсылка к нему за счет вкрапления его фрагмента в современное произведение. «Цитата» превращается в открытое образование, допускающее перекодировку в соответствии с реалиями текста. Так, в рассказе Пелевина «Вести из Непала» начало надписи над входом в дантовский ад помещается на советский производственный плакат — за счет этого происходит совмещение ада и советской действительности, идеологически исключающей его. В другом рассказе слова Пушкина обращены к двойнику Ленина, разрушающему дореволюционный мир с его культурными ценностями: «- Мадам, успокаиваясь и пряча шашку, заговорил Николай, — … вам следует немедленно вернуться домой, к мужу и детям. Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте, наконец, вина. Но не выходите на улицу, умоляю вас» [11, 156], а ситуация грозящей гибели мира, нависшей над ним опасности, передается при помощи еще одной пушкинской цитаты: «Х-х-х-а! За ним повсюду всадник медный! — закричал он и с тяжело-звонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной Шпалерной» [11, 147]. Пушкинские цитаты постоянно присутствуют в сознании героев и проступают в тексте как знак дореволюционной культуры, даже в стилевом отношении противостоящей революционном миру. Фрагменты из других текстов, помимо переноса в иной контекст, могут подвергаться иронической перекодировке, деконструирующей смысл цитаты: «Оля подняла глаза, слабо улыбнулась и произнесла: — Возьми ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг к другу нас, того гляди, вдруг бросит ненароком… — Это у нее хахаль электромонтажником работает, — вздохнув, пояснила Настя» [11, 184] и т. д. Таким образом, за счет введения в ткань повествования фрагментов чужих текстов, с одной стороны, разрушается единство авторского стиля, он становится открытым для проникновения «чужих» элементов. С другой стороны, сами используемые фрагменты теряют жесткость традиционного значения, попадая в поле интерпретации современного текста. Их перекодировка, часто в ироническом ключе, производит эффект обманутого ожидания, способствуя расшатыванию культурных стереотипов сознания читателя.
Ироническая деконструкция текста может строиться и на основе «оригинальной», авторской полистилистики, то есть соединения в пределах одного рассказа публицистического, научного, канцелярского и художественного стилей, иронически представленных. В текст рассказа Виана «Печальная история» включается научный стиль: «Идти было приятно: поднимаясь по носовым перегородкам, воздух промывал извилины мозга, ослабляя прилив крови к этому увесистому, объемному, двуполушарному органу» [3, 157]. При этом нарочитая «научность» изложения не только вызывает комический эффект, но и апеллирует к шизофреническому дискурсу, одной из черт которого является «наукообразность». Павич, воспроизводя мольбу героини рассказа «Долгое ночное плавание», имитирует стиль народного заговора с его фольклорной образностью и ритмическими повторами, добавляя, тем не менее, в него децентрирующие элементы абсурда: «Она молила Западняк, или Горник, на котором пишут то, что хотят забыть; и Бурю, при которой продают честь слева, чтобы сохранить ее справа… И Юго, женатый ветер, который может узлом завязать башню… и Чух, дитя ветров, который может во сне освободить горбуна от горба и повесить тот на ветку клена…» [10, 29−30]. У Пелевина в рассказах неоднократно присутствуют образцы публицистического стиля, представленного радиоречью. Подобно этому в рассказе Сорокина «Открытие сезона» своеобразным комментарием к происходящему служит звучащая магнитофонная запись песен Высоцкого.
Таким образом, интертекстуальность, а также имитация или присутствие в одном тексте нескольких стилевых пластов, знаковые коды которых подвергаются ироническому переосмыслению, создают фрагментированную структуру современного текста, причем места стилевых разрывов и взаимопереходов могут специально акцентироваться в повествовании. За счет этого осуществляется децентрация текста, преодолевается «тоталитаризм» одного стиля, а сам текст превращается в воплощение стилевой игры, пастиш — «пародийно-ироническое использование различных художественных кодов (стилей, манер), подвергаемых деконструкции, соединяемых как равноправные» [12, 54].
Ирония и самоирония служат одним из самых ярких средств преодоления моносемии, так как при их использовании появляется двойственность восприятия интертекстуальных фрагментов, слова, фразы, текста: «Но ведь ремесло убийцы не из легких» ([3, 376], Б. Виан); «Больше всего он боялся, что корова, обнаружив у себя разум, запьет» ([7, 186], Ю. Мамлеев); «И вообще в нашем городе много хороших достопримечательностей… Есть, например, Лобное место в стиле „ренессанс“» ([5, 49], Вик. Ерофеев) и др. При этом происходит децентрация фразы за счет соединения в ней бинарных оппозиций — прямой смысл высказывания оказывается противопоставленным переносному, ироническому значению: «Ты мне умно не говори, — сказал Василий Маралов, гуманитарий на пенсии. — Я сам умный, три книги написал…» [11, 280].
Той же цели служит пародирование и самопародирование, становящиеся яркими чертами постмодернистского дискурса. Примечательно, что в качестве объекта пародирования выбираются основные категории и ценности классического, «линейного», мира, в частности архетип учителя (и автора текста как учителя), воина-защитника, учеников и т. д. За счет этого происходит расшатывание их установок в сознании читателя, они лишаются абсолютной значимости.
Ирония может строиться на эффекте обманутого ожидания, когда продолжение фразы не соответствует подсказываемому синтаксическим построением фразы или клише: «Скорее всего она умерла натощак — что ж, тем лучше для здоровья» [3, 397]; «От стыда бедняга скончался под наркозом еще до операции» [3, 480]; «Такие лица нравились Маше — правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле, но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности» [11, 274] и т. д. В последних случаях происходит разрушение традиционной формулы из-за помещения ее в неожиданный контекст. В целом присутствие иронии и пародии подчеркивает релятивизм любого высказывания, а также служит формированию особого «игрового сознания» [14] читателя, лишенного довлеющих над ним установок и стереотипов.
Другим не менее ярким способом деавтоматизации мышления служит воспроизведение в тексте фрагментов шизофренического дискурса, характеризующегося прежде всего распадом причинно-следственных связей, порождающим внешний алогизм высказываний: «Кто умеет перекреститься, тот и саблю получит, а если вам мое письмо сначала покажется смешным, то вы себе смейтесь на здоровье, немного смеха за ушами никогда не повредит, а вот от громкого смеха воздерживайтесь, не то пропадет голод и вы не сможете есть» [10, 5]; «Левой рукой она работала карандашом и линейкой, а правой ногой под столом записывала в тетрадь имена всех тех, с кем когда-либо ела» [10, 177] и др.
Однако чаще слова соединяются по принципу свободной ассоциации, при этом может использоваться зевгма как выражение смыслового алогизма: «Ноэми — ее отец был инспектором, а мать прекрасно сохранилась…» [3, 479]; «Это был юноша из хорошей семьи: его отец заведовал отделом в Компании трубопроводов, а его мать весила шестьдесят семь килограммов» [3, 477] и т. д. философский постмодернистский персонаж ассоциация Некоторые предложения построены не просто на разрыве или инверсии причинно-следственных связей, но и на абсурдности самой ситуации с точки зрения реальности или обыденного мышления: «С бульвара, проникая сквозь решетку, дул легкий ветерок, и он старался держаться в безветренных полосах за железными прутьями» [3, 481]; «Затем заперся на два поворота ключа в телефонной будке, однако из-за неисправности диска пол не выдержал его веса и провалился» [3, 486].
В русле шизофренического и психоделического дискурсов находится и неразличение абстрактных и вещественных понятий: «Студенты смеялись таким примерам, чувствовали себя странно, ходили среди смеха своих товарищей, как ходят по лесу или на ветру, и продолжали блуждать по своим чертежам» [10, 170]; «Проходили месяцы, казалось, недели крошились в чашки для кофе с молоком, и оставалось только ополоснуть их» [10, 60]. Однако овеществление метафоры в постмодернистских текстах не только имитирует шизофренический дискурс, но и имеет более глубокие истоки в философской постмодернистской концепции метафоры. Этот троп наделяется особым значением как «…один из возможных механизмов игры смыслоозначения» вследствие способности метафоры «…самым прихотливым образом объединять различные и различающиеся значения» [4, 39]. Но с течением времени многие метафоры в результате долгого употребления становятся «стертыми», «мертвыми», «погасшими» (по терминологии Деррида), превращаясь в штамп, поэтому для деавтоматизации восприятия становится необходимой ее деконструкция, возвращение статуса игры с «двумя дистанцированными, несходными областями значения» [4, 39]. Средством деконструкции становится буквализация, овеществление метафоры: «Деревце диссертации погибло. Я распилил его ствол и вынес на помойку» [5, 130]; «О Богдановиче говорили, что он из тех, кто пальцем показывает своей дороге, куда ей идти, а о его учениках — что они свою дорогу сматывают в клубок и кладут в себе в карман» [10, 163] и др. Языковая игра с метафорой осуществляется и в ином направлении — овеществлении или олицетворении абстрактных понятий: «…Коринна разглядывала пейзаж за окном — тот об этом догадался и скромно спрятался в кроличьей норке» («Путешествие в Хоностров», Виан [3, 480]); «Она жалела также свои мысли, которые вились вокруг ее лба, как бабочки…» (Мамлеев [7,30]); «Затем, похлопывая себя мыслями, принимала больных» ([7, 57], Мамлеев). В ряде случаев буквализация значения служит звеном сцепления фраз и одновременно средством деконцептуализации устоявшихся формул: «На золотистом песке лежала фотография Ноэми, в резной рамке, под стеклом, прелестная, как роза. Розу он вдел в петлицу и поднял портрет, потом положил его обратно в песок» [3, 482]. М. Эпштейн дает определение подобным тропам, характерным для постмодернизма: «Такой поэтический образ, в котором нет раздвоения на „реальное“, „иллюзорное“, „прямое“ и „переносное“, но есть непрерывность перехода от одного к другому, их подлинная взаимопричастность, мы, в отличие от метафоры, назовем „метаболой“ …» [13]. Метабола является ярким символом постмодернистской деконструкции, ускользающего, взаимоисключающего и множественного значения.
Таким образом, можно сказать, что именно стратегия иронического и максимально неоднозначного повествования позволяет соединить «нравственную проповедь» и «игровую свободу», что является характерным для современной философии. При этом сам повествовательный дискурс становится одним из основных средств дидактического воздействия на читателя, стремясь не только «перестроить» его мышление, но и на уровне формальной организации произведения донести мысль о мире-хаосе, о принципиальной нон-иерархичности, об относительности любого высказывания и недоверия ко всем провозглашаемым авторитетам. С другой стороны, через маску юродивого фрагментированного сознания, через «негативный катарсис» отталкивающих сцен автор все же старается привести читателя к осознанию неких нравственно-философских истин, однако при этом снимается жесткость дидактики — видимое ее отсутствие, игровой иронический или апофатический дискурс, абсурдность «учителя» разрушают догматичность этого учения, в результате чего текст превращается в систему подвижных «заповедей», рассчитанных на активную работу читателя.
- 1. Бартельми Д. Шестьдесят рассказов. СПб., 2000. 752 с.
- 2. Борхес Х. Л. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения: Пер. с исп. / Сост., вступ.ст. Вс. Багно. СПб., 1992. 644 с.
- 3. Виан Б. Осень в Пекине. Рассказы. Киев, 1997. 678 с.
- 4. Гурко Е. Фрейд и сцена письменности // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск, 2001. 258 с.
- 5. Ерофеев В. Пупок: Рассказы красного червяка. М., 2002. 150 с.
- 6. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000. 458 с.
- 7. Мамлеев Ю. Изнанка Гогена. М., 2002. 210 с.
- 8. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодерна. СПб., 2000. 336 с.
- 9. Мистические рассказы. Сб: Пер. с исп. / Сост. М. И. Былинкина. М.; Харьков, 2002. 386 с.
- 10. Павич М. Страшные любовные истории. СПб., 2002. 172 с.
- 11. Пелевин В. Желтая стрела. М., 1999. 394 с.
- 12. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. М., 1999. 544 с.
- 13. Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна // Философский портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://philosophy.ru/library/epstein/ epsht.html.
- 14. Locus Solus: Антология литературного авангарда ХХ века / Пер. В. Лапицкого; Под ред. Б.Останина. СПб., 2000. 256 с.