Восточно-христианское искусство в литургическом контексте: пространственно-временной аспект
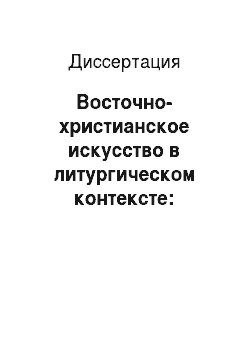
Дворжак также видит в художественной форме раннехристианского искусства воплощение трансцендентного бытия, «субстанции божественного», как он сам выражается («Живопись катакомб как начало христианского искусства» (1919 год)), которое должно превратить художественное произведение в «духовное видение» и дать возможность приобщения к сверхчувственному11. Он употребляет такие выражения как «полет… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Литургическая сущность пространства и времени восточно-христианского искусства
- 1. 1. Византийский эстетический онтологизм и пространственно-временная организация восточно-христианского литургического образа
- 1. 2. Гносеологические и эстетические тенденции средневековья в парадигме теории литургической художественной формы
- 1. 3. Возвышенное на периферии и в центре литургического искусства
- Глава II. Литургическая функция пространства и времени восточно-христианского искусства
- ПЛ. Многомерность Божественной Литургии как сфера эстетических проблем художественного пространства и времени: исторический, космологический и богослужебный планы
- П. 2. Художественное пространство и время как основа литургического синтеза искусств
Восточно-христианское искусство в литургическом контексте: пространственно-временной аспект (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Данная работа посвящена исследованию эстетической специфики разных видов византийского и древнерусского церковного искусства, исторически составлявших художественное измерение православного богослужения и создававших под сводами храма целостное и уникальное эстетическое явление, своеобразие и онтологическая глубина которого сформированы Литургией — центром и целью всей православной богослужебной жизни.
Внимание автора сконцентрировано преимущественно на анализе пространственно-временной организации церковного искусства рассматриваемого периода.
Художественное пространство и время средневекового искусства представляет собой интегральную характеристику, совокупность формообразующих элементов разных видов искусств (церковной архитектуры, живописи, пения, движения? священнослужителей)' поскольку они создавались для совместного общелитургического синтеза и не существовали вне церковных стен, а значит — вне объединяющего их богослужебного действия.
Поэтому очевидно, что подлинную эстетическую специфику пространства и времени восточно-христианского искусстваможно выявить лишь в богослужебном контексте, что говорит о необходимости постановки именно такого вопроса, который сформулирован в теме данной диссертации;
Смысловое подчинение всего богослужения центральной службе — Литургии требует учесть и необходимое участие в формировании богослужебного художественного пространства целостного пласта сконцентрированного в Литургии богословского содержания, причем содержания строго соответствующего православной догматике, использование которого представляется необходимым условием корректного анализа восточно-христианского художественного пространства, что еще раз обосновывает выбранную тему.
Предлагаемая тема представляется особенно актуальной в связи с тем, что существовавшая до сих пор традиция изучения художественного языка средневекового искусства византийского ареала рассматривала его в отрыве от полноты богослужебной жизни, и лишь недавно широким научным сообществом было осознано, что для православной культуры квинтэссенция эстетического опыта сосредоточена в литургическом действе и его духовном наполнении.
Целью исследования является поиск и раскрытие литургических оснований эстетического своеобразия художественного пространства и времени восточно-христианского искусства, с точки зрения его. значения для личного литургического преображения и для целостного литургического функционирования. Достижение данной цели осуществляется в ходе решения следующих задач:
— анализ византийских святоотеческих текстов и установление связи > (с выявлением ее эстетической природы) между художественной спецификой пространства и времени восточно-христианского искусства и богословским смыслом Литургиисравнение характера эстетического воздействия художественного пространства и времени на молящегося и духовных задач, поставляемых.
Литургией;
— сопоставление и выявление философского и духовного различия в специфике и происхождении восточного и западного христианского художественного символизма с точки зрения православной теории литургического символарассмотрение эстетического эффекта возвышенного как основы художественного воздействия пространства и времени восточно-христианского искусства и анализ его литургического значения;
— осмысление способов достижения практических задач Литургии с помощью пространственно-временной организации церковного искусства и исследование выражения исторического и космологического литургического измерения в ее художественном пространстве и времени;
— проведение параллельного пространственно-временного анализа, различных видов восточно-христианского богослужебного искусства для установления наличия сходных элементов в организации их структур и выяснения литургического происхождения этих особенностей.
Научное изучение пространства и времени средневекового искусства началось на рубеже XLX-XX веков и было связано, во-первых, с «художественной революцией», ознаменовавшей этот период, а, во-вторых, с характерным для этого времени отходом от метафизической нормативности классической эстетики. В связи с этим условность форм средневекового искусства (в основном — живописи) хотя и привлекла впервые всеобщее внимание, вызвавшее множество ее истолкований, но рассматривалась преимущественно в релятивном отношении: из нее извлекалась информация культурологического, физиологического или антропологического характера. О подлинной эстетической природе этого искусства речи не шло. Соревновавшиеся на этой почве формальный, психологический и ментальный подходы отказывали средневековому художественному пространству и времени в выражении абсолютной духовной ценности, они видели в нем лишь выражение либо исторических законов последовательной смены художественных форм в зависимости от психологического наполнения эпохи, ее мироощущения (линия Вельфлина1 и л.
Воррингера), либо экзотической специфики зрительного и тактильного восприятия реальности (Гильдебранд3, Ригль4), либо (несколькими десятилетиями позже) популярности абстрактных философских идей, структурных особенностей мышления эпохи и определенного культурного мировоззрения (Э.Панофский). Для Панофского, к примеру, основной содержательной предметностью готического архитектурного пространства является западное средневековое стремление сознания к четкому разъяснению и педантичному подразделению мысли на составные части («Готическая архитектура и схоластика» 1951 года)5. А смысл.
1 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства (1915).
2 Воррингер В. Абстракция и вчувствование (1907).
3 Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искуустве (1893).
4 А. Ригль. Позднеримская художественная промышленность (1901).
5 Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992. С.66−70. ранневизантийского живописного пространства с его отказом от выражения оптической реальности он видит в неоплатоническом понимании мира как «гомогенезирутощего, но неизмеримого флюида» («Перспектива как символическая форма» 1925 года)6.
Прямой противоположностью этим направлениям явился «метафизический» подход, вернувший идеалы классической эстетики на новом этапе. Главными его представителями можно считать П. Флоренского и М. Дворжака. Сюда же можно отнести очерки Е. Трубецкого7 и ранние заметки Н.М. Тарабукина8. Основными принципами, позволяющими объединить столь различные фигуры в одно методологическое направление являются: 1) Онтологизация той духовной предметности, которая стоит за художественной формой и теория ее репрезентации в процессе эстетического восприятия. Флоренский начинает «Обратную перспективу» (1919 год)9 с критики философского антифундаментализма и утверждает воплощение объективной духовной реальности в иконописном художественном пространстве. В «Иконостасе» (1922 год) он утверждает этот онтологизм как обязательное условие эстетического, узнаваемого во все века по причастности свойствам абсолютного бытия10.
6 Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 2004. С. 56.
7 Трубецкой Е. Умозрение в красках.(1915), Два мира в древнерусской иконописи (1916), Россия в ее иконе (1918).
8 Тарабукин Н. М. Философия иконы (написана в 1916).
9 Флоренский П., свящ. Обратная перспектива // Флоренский П., свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 24−25. Также и в: «Анализе пространственности и времени в художественно-изоразительных произведениях» (1924 год). См. Флоренский П., свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии // Флоренский П., свящ. Собр. соч. Философское наследие. Т. 131. М.: Мысль, 2000. С. 81−391.
10 Флоренский П., свящ. Иконостас // Флоренский П., свящ. Избранные труды по искусству. С. 116.
Дворжак также видит в художественной форме раннехристианского искусства воплощение трансцендентного бытия, «субстанции божественного», как он сам выражается («Живопись катакомб как начало христианского искусства» (1919 год)), которое должно превратить художественное произведение в «духовное видение» и дать возможность приобщения к сверхчувственному11. Он употребляет такие выражения как «полет в трансцендентное», «божественное воздействие» и называет свой метод «спиритуальным». Интересно, что те же особенности готической художественной формы, которые впоследствии Панофский трактовал исключительно рационалистически, у Дворжака рождали духовно — эстетическое понимание — как прерывистости и переживания ступенчатости в движении души к абсолюту («Идеализм и натурализм в готической скульптуре: и живописи» (1917 год))12. 2) Следующий принцип, заимствованный у классической эстетики — нормативизация художественной формы с точки зрения выражения истины бытия. Флоренский, например, трансформирует плотиновскую, а затем — шеллинговскую дихотомию «сущностной» линии, выражающей объективное идеальное начало, и «преходящей», «случайной» светотени, привносимой духом времени, перенося акцент с античного искусства на средневековое. Культ плоскостности и критика воздушной или линейной перспективы здесь имеет характер онтологической нормативности.
11 Дворжак М. Живопись катакомб. Начала христианского искусства // Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001. С. 26−28.
12 Дворжак М Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи // Дворжак М. История искусства как история духа. С. 88−89, 94, 130.
У Дворжака, хотя и в меньшей мере, но тоже присутствует единая эстетическая точка отсчета: он говорит, что «форма должна быть наделена такими качествами, которые ставят перед глазами зрителя субстанцию божественного, ее действие, ее трансцендентную закономерность» («Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи» 1917 год)13.
3) Характерным для этого подхода становится и использование всех остальных ступеней анализа как подсобных. К примеру, в своем наиболее знаменитом «топике» о противопоставлении прямой и обратной перспективы Флоренский прослеживает все традиционные уровни осмысления и дополняет их высшим, метафизическим: и та и другая выражают собой и различие психологии зрительного восприятие мира.- и мировоззрение эпохи (геоцентризм и антропоцентризм, далее чего не идет, например, Панофский), но главное — наличие или отсутствие определенного' духовного, опыта общения с трансцендентным. Или, у Дворжака специфика лаконичного раннехристианского художественного пространства объясняется и психологически (помогает сосредоточиться на главном и не отвлекаться на внешнее), и ментально (отражает идеи христианской аскетики, исюпоченность из предметной взаимозависимости) и духовно-эстетически (являет в нашем мире метафизический дух).
Важно отметить, что для этого направления характерно отсутствие желания связывать онтологический анализ иконной формы с жесткими реалиями православной догматики.
13 Там же. С. 76.
Вторая волна" научного интереса к пространственно-временной проблематике средневекового искусства, пришлась на 60−70-е годы XX века, однако на девяносто процентов она стала преемницей ментального подхода с его идеей представленности мышления и структур сознания в художественной форме. Возникла она вокруг исследований тартуской семиотической школы и издания «Трудов по знаковым системам» Тартуского университета. Такие фигуры как Борис Успенский14, Жегин15, впоследствии Раушенбах16 подвергли византийское и древнерусское искусство строгому рационалистическому анализу со знаковой интерпретацией правых и левых частей композиции, вычислению масштабов, геометрическому измерению поворотов фигур и т. д. В своем желании упорядочить историю искусства по схеме пространственных структур они продолжали более ранние исследования в этом направлении Фаворского17 и поздние работы Тарабукина18.
14 Успенский Б. А. «Правое» и «левое» в иконописном изображении // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, Успенский Б. А. О семиотике иконы //Труды по знаковым системам. Т. 5. (Уч. Зап. ТГУ. Вып. 284). Тарту, 1971.
15 Жегин Л. Ф. Иконные горки. Пространственно-временное единство живописного произведения // Труды по знаковым системам. Т. 2. (Уч. Зап. ТГУ. Вып. 181) Тарту, 1965, Жегин Л. Ф. Некоторые пространственные формы в древнерусской живописи // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964, Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства).М., 1970.
16 Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975, Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986, Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.
17 Фаворский В. А. Лекции по теории композиции 1921;1922 // Фаворский В. А. Литературнотеоретическое наследие. М., 1988. С. 71−195.
18 Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи (1930) // Вопросы искусствознания. М., 1993. Вып. 1. С. 170−208., Вып. 2−3. С. 245−264., Вып. 4. С. 334−366- 1994. Вып. 1. С. 311−360.
Образцами также скорее культурологического, чем эстетического подхода к византийскому и древнерусскому искусству стали и «Поэтики» Д. С. Лихачева и С.С. Аверинцева19, в которых наряду с анализом литературных источников в параллельном культурологическом сопоставлении пространственных организаций литературы и искусства рассматриваются и особенности изобразительной художественной формы. Связующим звеном между искусствами в культурном синтезе становится единое восприятие действительности: отсутствие четкой авторской позиции, а следовательно — отсутствие единой временной перспективы, попытка охватить взглядом все мироздание, а отсюда — соединение разновременных и разнопространственных моментов, изображение бытия как такового, а не переживания бытия и т. д.
Последним шагом на пути отдаления от классической эстетики в междисциплинарную область стали культурно-антропологические исследования сакрального, продолжающие.
ОП направление Элиаде". В своей борьбе с онтологической теорией первообраза художественной формы X. Бельтинг21 находит себе последователей и в российском современном теоретическом искусствоведении в лице, например, С. Ванеяна или А. Лидова, для которого теория литургического синтеза Флоренского, основанная.
19 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы (1967), Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы (1977). А также: Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973. С. 43−52, Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изученшо средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 371−397.
20 Элиаде Мирча. Священное и мирское (1956).
21 Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства (1990).
22 Ванеян С. С. Симвология, археология, иконография и архитектура. М.: Изд-во Моск. Унив-та, 2006. на выражении абсолютной духовной реальности, лишь примитивная «сакрализация эстетического в духе неоромантических идеологем», где «божественное и эстетическое рассматриваются как единая стихия» вне сложности ментального наполнения той или иной эпохи23.
Однако рассмотренный выше метафизический подход тоже имел свое продолжение. В богословской среде русской эмиграции в течение всего XX века жил интерес к проблемам философской и богословской глубины художественной формы церковного искусства. Постепенно эта проблематика стала связываться с обращением к учению о богопознании святителя Григория Паламы и с теорией «логосов вещей» преподобного Максима Исповедника. В результате, было осознано, что именно чувственная форма может оказываться энергийным явлением божественных свойств и возможностью внерационального богопознания. К художественному изображению (в том числе иконописному) этот ракурс рассмотрения применил С. Булгаков24 и в процессе вызванных его работами споров эта проблематика приняла вид богословско-литургического направления в искусствознании, кульминацией которого стали.
ЛС работы JI.A. Успенского и В. Н. Лосского «Смысл икон» и «Богословие иконы православной церкви"26, в которых немного внимания уделено и пространственно-временной проблематике. С точки зрения методологии этот подход основывается на гуу.
Лидов.А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Исследование сакральных пространств. Материалы международного симпозиума. М., 2004. С. 18.
Икона и иконопочитание" (1931 г.).
Ouspensky L and Lossky V. The Meaning of Icons. Olten. 1952. вышеперечисленных позициях метафизического направления, но развивает их в сторону богословской конкретизации: 1) онтология художественной формы форматируется здесь в рамки православной догматики как явление божественной славы 2) эстетическая нормативность доходит до теории абсолютизма византийской и древнерусской художественной формы (как единственного выражения идеала божественного бытия и святости). 3) Третьим и существенным постулатом здесь становится стремление к осмыслению всех особенностей художественной формы исходя исключительно из литургического контекста и в связи с этим принципиальный отказ обосновывать литургическую художественную форму какими-либо историческими философскими концепциями (неоплатоническими или, иными) помимо непосредственных философско-богословских оснований самой Литургии:
Последняя тенденция имела и несколько иное практическое развитие, независимое от этого направления, в искусствоведении. О. Демус в своей работе «Мозаики византийских храмов» (1948 год)27 разрабатывает тему единства и взаимодействия изобразительного церковного искусства со зрителем в целостном контексте храмового пространства. А. Грабар разрабатывал теорию христианской.
Об иконографии на основе ее богослужебного смысла". А. А. Салтыков посвящает несколько статей проблеме соотношения пространственного построения иконописного изображения с.
26 Ouspensky L. La Theologie de l’lcones dans l’Eglise Orthodoxe. Paris, 1980.
27 Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. Aspekt of Monumental Art in Byzantium. London,-1948.
28 Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origins. The National Gallery of Art. Washington D. C. Princeton University Press. Princeton P. J., 1968. молящимся в храме человеком". Частично к литургическому направлению можно отнести и работу П. Евдокимова «Искусство иконы. Богословие красоты» (1970 год)30, где много внимания уделяется храмовому богослужебному пространству. Однако ни одной монографической работы, которая была бы полностью посвящена эстетическому или богословскому анализу пространственно-временной проблематики искусства восточно-христианского храма до сих пор так и не появилось.
Важность этого направления для исследований в области академической философской эстетики и специфики эстетического восприятия произведений искусства доказывается пристальным вниманием к нему с этой стороны. В этом ряду центральными являются работы В. В. Бычкова, посвященные философским, эстетическим, святоотеческим и богословским предпосылкам византийского искусства и раскрывающие связь с классическим з 1 эстетическим пониманием художественного образа. .
Из, отдельных эстетических исследований византийского искусства следует выделить труд П. Михелиса «Эстетические исследования византийского искусства» (греч. изд. 1946 года) .
AQ.
Салтыков А.А. О некоторых пространственных отношениях в произведениях византийской и древнерусской живописи // Древнерусское искусство XV—XVII вв. М., 1981. С. 32−55, Салтыков А. А. О пространственных отношениях в византийской и древнерусской живописи // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 398−413.
30 Evdokimov P. L’art de l’icone: Theologie de la beaute. Paris, 1972.
31 Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977, Бычков В. В. Aesthetica Patrum. Эстетика отцов Церкви. М., 1995, Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica: в 2 т. СПб., М., 1999, Бычков В. В. Икона в свете религиозно-эстетической мысли XX века // Полигнозис. 2002. № 2. С. 114−134.
Английское издание: Michelis P. An Aesthetic Approach to Byzantine Art. London. 1955.
Разработанные им связи средневекового пространства и времени с теорией возвышенного Канта и выход на проблему эстетического восприятия трансцендентного, хотя и находятся в отрыве от литургического обоснования, но имеют большие перспективы в применении к этому направлению.
Таким образом, следует признать необходимость и своевременность обращения к проблеме пространства и времени восточно-христианского искусства, которая до сих пор так и не получила подробной и целостной философско-эстетической разработки в литургическом ключе.
Практические вопросы богослужебного синтеза искусств после фактически единственной эстетической работы в этой области Флоренского («Храмовое действо как синтез искусств» (1922) в последнее время нередко поднимаются в области музыковедения. Они преимущественно сосредоточены на восстановлении и анализе пространственной структуры византийского и древнерусского церковного пения и иногда на конкретном сравнении его с организацией изобразительного пространства. Здесь следует выделить работы В.И. Мартынова34, Н.Б. Захарьиной35, Е.И. Коляды36, А.Н. Кручининой37, М.Г. Карабань38.
Флоренский П., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П., свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 199−213. Следует упомянуть также небольшие работы Ю. А. Олсуфьева: Олсуфьев Ю. А. Заметка о церковном пении и иконописи как видах церковного искусства в связи с учением церкви. Тульский отдел общества сохранения памятников искусства. 1918, Олсуфьев Ю. А. Иконописные формы как формулы синтеза. Сергиев посад, 1926, Олсуфьев Ю. А, Параллельность и концентричность в древней иконе, как признаки диатаксической организованности. Го суд. Сергиевский исторшсо-худож. Музей, 1927.
34 Мартынов В. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М., 2000.
Эти разработки вплотную подводят к постановке и дают возможность анализа проблемы взаимодействия художественного пространства восточно-христианской иконы и церковного пения, что позволяет на данном этапе раскрыть тему литургического художественного синтеза во всей ее полноте.
За методологическую основу диссертации взят философско-эстетический принцип исследования. В силу своеобразия предмета изучения он дополняется богословско-литургическим и культурологическим подходом. В работе используются также элементы сравнительного искусствоведческого и музыковедческого анализа.
Источниками исследования являются живописные, архитектурные и восстановленные музыкальные произведения византийского и древнерусского искусства, а также реалии богослужебной жизни современной православной Церкви, носящие характер церковного предания и сохраняющие древний порядок богослуженияос.
Захарьина Н. Б. Музыкальное время в песнопениях • в честь Успения Богородицы // Музыкальная культура православного мира: Традиции, теория, практика. Материалы научных конференций / РАМ им Гнесиных. М., 1994. С. 162−169.
Коляда Е. И. Древнеруская • гимнография и иконопись: некоторые общие закономерности формирования жанров // Музыкальная культура православного мира: Традиции, теория, практика. Материалы научных конференций / РАМ им. Гнесиных. М., 1994. С. 34−44.
37 Кручинина А. Н. О композиционных закономерностях древнерусского чинопоследования // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры. Поэтика древнерусского певческого искусства. СПб., 1992. С. 11−41,.
38 Карабань М. Г. «Умозрение в звуках» (распевы в единстве православного храмового действа) // Проблемы развития художественного мышления: Межвузовский сб. науч. трудов. Вып. 1 СПб.- Волгоград, 1998. С. 110−121, Карабань М. Г. Древнерусский распев в проекции целостного «мифически-художественного» восприятия //Искусство, образование, наука в преддверии 111 тысячелетия: Материалы международного научного конгресса. Волгоград, 1998. С. 164−175.
Литературными источниками являются тексты Священного Писания, богослужебные тексты, духовные и эстетические сочинения византийских и западных средневековых авторов, византийские экфрасисы, а также письменные свидетельства духовного и эстетического опыта современных православных богословов.
Научная новизна работы состоит в следующем: впервые осуществлено многостороннее раскрытие литургического значения художественного пространства и времени восточно-христианского искусства и в модусе его индивидуального эстетического воздействия и в модусе широкого выражения многомерности литургической жизни.
— проведен подробный философско-эстетический анализ богословия литургической сущности византийского художественного пространства и времени.
— выявлены онтологические и гносеологические причины различия эстетической специфики восточно-христианского и западного средневекового художественного пространства в ракурсе теории литургического символа.
— проанализировано литургическое значение связи эстетического феномена возвышенного с художественным пространством восточно-христианского искусства.
— многоаспектно рассмотрено функциональное значение эстетической составляющей богослужебного пространства и времени.
— проведен подробный параллельный анализ структурной организации иконописного и церковнопевческого художественного пространства, в результате которого выявлено ее эстетическое значение в контексте литургического синтеза На защиту выносятся следующие положения и выводы:
— художественное пространство и время восточно-христианского искусства являются эстетическим средством достижения литургического богообщения и богоуподобления (обожения) благодаря выражению в своей художественной специфике определенных свойств божественного бытия и организации возможности приобщения им через акт эстетического восприятия.
— актуализация божественного плана бытия в восточно-христианском литургическом пространстве является не гностическим окном в трансцендентальный мир преобразовательных божественных идей, что характерно для западного средневековья и искусства Возрождения, а преодолевающим структуры тварного сознания прорывом души в трансцендентное, то есть обнаружением не эйдетического божественного горизонта, а совокупности личностных божественных свойств духовное воздействие художественного литургического пространства как откровения, области трансцендентного основано на эстетическом феномене возвышенного, то есть, целиком зависит от глубины эстетического восприятия реципиента, а поэтому полностью лишено магически-содержательного элемента, что подчеркивает его подлинно литургический, а не мистериальный характер
— все остальные особенности художественного пространства восточно-христианского искусства являются его литургической функцией, то есть транслируют в эстетическое переживание многомерность богослужебной литургической природы, приобщая молящегося историческому, космологическому и другим измерениям Церкви, а также координируют практическую сторону богослужебной жизни.
— структура художественной организации пространственных (живопись) и временных (пение) восточно-христианских литургических искусств сходна и по своему эстетическому воздействию. соответствует общелитургическим задачам, что позволяет считать богослужебное художественное пространство внутренней основой литургического синтеза искусств.
Результаты исследования могут быть полезны для чтения соответствующих разделов курсов по истории и теории искусства, эстетике, для подготовки спецкурсов, а также для современных церковных художников и осознания ими важности и значимости эстетической составляющей богослужебной жизни. Содержание работы отражено в публикациях автора. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии.
Заключение
.
Анализ художественного пространства и времени восточно-христианского искусства в его целостном литургическом контексте (включающем все виды искусства, формирующие храмовое богослужебное пространство, богослужебные действия, а также богословское наполнение Литургии) показывает, что эстетическое своеобразие данного феномена базируется именно на литургических основаниях: 1) и в модусе индивидуального эстетического воздействия (которое помещается в рамки анализа возвышенного и совпадает с основной целью Литургии — теофаническим откровением и обожением) — что молено считать литургической сущностью богослужебного пространства и времени- 2) и в модусе выражения исторического и космологического литургического измерения (которое отражает многоаспектность литургической жизни Церкви), а также практической стороны богослужебной жизни — что можно считать литургической функцией богослужебного пространства и времени.
И в первом, и во втором случае художественное пространство и время функционируют именно эстетически. Здесь молено выделить несколько аспектов:
1) Главной чертой эстетического своеобразия рассматриваемого феномена является мощно действующая на всех уровнях богослужебного синтеза выразительность возвышенного, объединяющая пространство архитектуры, храмовой живописи, церковного пения, конкретных реалий богослужебных действий (благодаря особенностям их построения) в целостный трансцендирующий механизм, актуализирующий в богослужении присутствие энергийного уровня божественного бытия (то есть апеллирующий к онтологическим основаниям литургической художественной выразительности) и организующий возможность приобщения ему через акт эстетического восприятия. Такие божественные свойства как Вечность, Беспредельность, Неделимость, Неизмеримость становятся ощутимыми благодаря воздействию пространственно-временной организации церковного искусства, которая при этом моделирует эстетическое переживание этих свойств как уподобление им, трансформируя по принципу художественной адекватности воплощение благодатной бездвижности, мирности, покоя и неизменной духовной полноты божественного бытия в образ духовного совершенства и в опыт личного приобщения ему как особому качеству духовного покоя «будущего века» — бесстрастию, что и является основной целью Литургии и ее таинств — обожением, богоуподоблениемчеловека.
2) Эстетический характер функционирования художественного пространства и времени восточно-христианского искусства заключается также в способе трансляции исторической и космологической многомерности церковно-литургического бытия в сознание верующего. Это связано с совокупностью пространственных решений организации всех уровней Литургии: структуры росписи (например, соединение разновременных моментов в иконном образе), элементов священнодействий (например, частое использование дверного проема, входа и выхода из него и торжественного его открытия как переживания трансцендентного перехода), строения богослужебных текстов и песнопений — эти и другие специфические особенности преобразует в эстетическом переживании историческую координату Церкви в торжество вневременного литургического единения всех времен и всего космоса.
3) Эстетический характер воздействия литургического художественного пространства и времени проявляется также и в координации практических богослужебных действий и принципов использования предметов церковного обихода. Например, богослужебная практика употребления икон тех или иных иконографических типов оказывается в эстетической зависимости от различия, с одной стороны, пространственного построения самих изображений, а с другой стороны, композиционного решения организации поклонения им в храме, поскольку иконный образ обретает художественную композиционную законченность лишь через ответное движение к нему молящегося и в этом случае имеет значение, прямолинейно ли организовано движение этого взаимоотношения или оно имеет центросремительный круговой характер. В богослужебном пространстве храма молитвенное участие зрителя и совершаемые ради этого литургические действия становится необходимым условием достижения композиционной полноты и законченности произведения.
4) Художественное пространство и время восточно-христианского искусства благодаря сходным структурным особенностям построения пространственных (архитектура, живопись) и временных (пение, движение священнослужителей, парение кадильного дыма) искусств (открытая композиция, полицентровостъ, ненаправленное движение, пространственное и временное суммирование) оказывается внутренним эстетическим стержнем, позволяющим всем художественным уровням богослужения функционировать в единстве и созвучии и, резонируя друг другу, способствовать целостному литургическому переживанию и вневременному покоящемуся созерцанию.
5) Эстетическая специфика воздействия богослужебного пространства и времени, то есть его подчиненность субъектному фактору — способности эстетического восприятия человека, а не каким либо магическим закономерностям художественной формы определяет свободный, не детерминированный характер ее взаимоотношений с самой Литургией как таинством. В результате можно сделать вывод, что литургическое художественное пространство и время не может являться условием совершения таинств, а лишь вспомогательным средством литургического трансцендирования.
Таким образом, можно заключить, что литургические основания художественного пространства и времени восточно-христианского искусства имеют эстетическую природу и заключаются в концентрации и реализации на эстетическом уровне основных смыслов, значений и особенностей православной Литургии.
Список литературы
- Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973. С.43−52.
- Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 371−397.
- Аверинцев С.С. У истоков поэтической образности византийского искусства // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977. С. 421−455.
- Альберти Л-Б. Три книги о живописи // Альберти Л-Б. Десять книг о зодчестве. В2-хтг. Т. 2. М., 1937.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Бакупшнский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства // Искусство. 1923. № 1. С. 213−261.
- Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. 1990.
- Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное. М.: Мартис, 1998.
- Булгаков С. Икона и иконопочитание // Булгаков С. Первообраз и образ. Т. 2. М СПб., 1999. С. 241−310.
- Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.
- Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
- Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII вв.ека. М., 1992.
- Бычков В.В. Aesthetica Patrum. Эстетика отцов Церкви. М., 1995.
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Sub specie aesthetica: В 2-х тг. М-СПб., 1999.
- Бычков В.В. Икона в свете религиозно-эстетической мысли XX века // Полигнозис. 2002. № 2. С. 114−134.
- Вагнер Г. Художественный язык древнерусской живописи // Искусство. 1972. № 3. С. 63−68.
- Ванеян С.С. Симвология, археология, иконография и архитектура. М.: Изд-во Моск. Унив-та, 2006.
- Васильева Н.В. Типовые музыкальные формы и логос времени-пространства. Дис. к-та искусствовед. М., 1996.
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. M-JI., 1930.
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
- Виппер Б.Р. Проблема времени в изобразительном искусстве // 50 лет ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1962. С. 134−150.
- Витело. Перспектива // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962.
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
- Волошин М.А. Культура, искусство, памятники Крыма // Волошин М. А. Коктебельские берега. Симферополь, 1990.
- Время, пространство и ритм в музыке. М., 1981.
- Габричевский А.Г. К 100-летию со дня рождения. Сб-к материалов. М., 1992.
- Габричевский А.Г. Пространство и время // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 134−154.
- Гегель. Г. Эстетика: в 4-хт.т. М., 1968.
- Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной Литургии. Нижний Новгород: Изд-во Братства св. Александра Невского, 1995.
- Гильдебранд. А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. М., 1914.
- ГроссетестР. Сочинения. М., 2003.
- ГТГ. Каталог собрания. Т.1. Древнерусское искусство X — нач. XV в. М., 1995.
- Данилова И.Е. Искусство Средних веков и Возрождения. М., 1984.
- Данилова И.Е. О категории времени в живописи средних веков и раннего Возрождения // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 157−175.
- Дворжак М. Живопись катакомб начала христианского искусства // Дворжак М. Очерки по искусству Средневековья. М.-Л., 1934. С. 37−73.
- Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
- Демус О. Мозаики византийских храмов. М., 2001.
- Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. М., 2000.
- Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии / Основания христианской культуры. СПб.: Глагол, 1994.С. 10−340.
- Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин: Христианская жизнь, 2005.
- Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: Мартис, 2003.
- Жегин Л.Ф. Иконные горки. Пространственно-временное единство живописного произведения // Труды по знаковым системам. Т.2. Тарту, 1965. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 181).
- Жегин Л.Ф. Некоторые пространственные формы в древнерусской живописи // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964.
- Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). М., 1970.
- Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М.: Наука, 1982. С. 108−127.
- Захарьина Н.Б. Интонационный словарь и композиция песнопений-осмогласников знаменного распева. Дис. к-та искусствед. СПб., 1992.
- Захарьина Н.Б. Музыкальное время в песнопениях в честь Успения Богородицы // Музыкальная культура православного мира: Традиции, теория, практика. Материалы научных конференций / РАМ им. Гнесиных. М., 1994. С. 162−169.
- Зедльмайр X. Искусство и истина. М., 1999.
- Зеньковский В.В. Проблема космоса в христианстве // Живое предание. Православие в современности. Paris, 1937. С. 63−81.
- Идеи эстетического воспитания. Антология: в 2 т. М.: Искусство, 1973.
- Иеротопия. Исследование сакральных пространств. Материалы международного симпозиума. М., 2004.
- Илларион, схимонах. На горах Кавказа // Имяславие. Антология. М., 2002.С. 183−215.
- Иоанн Кронштадский, св. Моя жизнь во Христе. СПб., 1893.
- Кавасила Н. Семь слов о жизни во Христе. М.: Паломник, 1994.
- Канон великий, творение святого Андрея Критского Иерусалимского // Триодь постная. М., 1992. Т. 1. С.294−314.
- Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. в 6 тт. Т. 5. М.: Мысль, 1966.
- Карабань М.Г. «Умозрение в звуках» (распевы в единстве православного храмового действа) // Проблемы развития художественного мышления: Межвузовский сб. науч. Трудов. Вып. 1. СПб.-Волгоград, 1998. С. 110−121.
- Карабань М.Г. Древнерусский распев в проекции целостного «мифически-художественного» восприятия // Искусство, образование, наука в преддверии 111 тысячелетия: Материалы международного научного конгресса. Волгоград, 1998. С. 164−175.
- Карабань М.Г. Логико-метафизические аспекты исследования лада в области православной музыкальной культуры. Дис. к-та искусствовед. М., 1999.
- Киприан (Керн), архим. Антропология Св. Григория Паламы. Киев, 2005.
- Коляда Е.И. Древнерусская гимнография и иконопись: некоторые общие закономерности формирования жанров // Музыкальная культура православного мира: Традиции, теория, практика. Материалы научных конференций / РАМ им. Гнесиных. М., 1994. С. 34−44.
- Кручинина А.Н. О композиционных закономерностях древнерусского чинопоследования // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры. Поэтика древнерусского певческого искусства. СПб., 1992. С. 11−41.
- Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986.
- Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
- Лидов А.М. Мандилион и Керамион как образ-архетип сакрального пространства // Восточнохристианские реликвии. М., 2003. С. 249−280.
- Лидов. A.M. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия.
- Исследование сакральных пространств. Материалы международного симпозиума. М., 2004.С. 15−32.
- Лиманская Л.Ю. Эстетика зрения и теория языка изобразительных искусств. Дисс. докт. М., 2005.
- Лозовая И. Е. Самобытные черты знаменного распева. Дис. к-та искусствед. М., 1984.
- Лозовая И.Е. Церковно — певческое искусство // Художественно — эстетическая культура Древней Руси XI — XVII века. М.: Ладомир, 1996.
- Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик // Вопросы философии. 2000. № 3.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980.
- Лосев А.Ф. Первозданная сущность // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 233−263.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982.
- Лосский В.Н. Боговидение. М.: Свято-Владимирское братство, 1995.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
- Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
- Лотман Ю.М. Заметки о художественном пространстве // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам. Уч. зап. ТГУ. Вып. 720. Тарту, 1986.
- Макаровская М.В. Категории пространства и времени в организации богослужебных песнопений знаменного распева. Дис. к-та искусствовед. М., 2000.
- Малков Ю.Г. Апофатизм и развитие средневекового восточно-христианского символизма // Вопросы искусствознания. 1994. Вып.2-З.С. 94−114.
- Малков Ю.Г. Некоторые аспекты развития восточно-христианского искусства в контексте средневековой гносеологии // Советское искусствознание. 1977. Вып.2. М., 1978. С. 93−121.
- Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М., 2000.
- Мартынов В.И. Пение, игра и молитва в русской богослужебнопевческой системе. М., 1997.
- Мейендорф И., прот. О литургическом восприятии пространства и времени // Труды XVIII международного конгресса византинистов. М. 8−15 авг. 1991. // Литургия, архитектура и искусство Византийского мира. Т.1. Спб., 1995. С. 1−10.
- Мейендорф И., прот. Жизнь и труды свт. Григория Паламы. Спб., 1997.
- Мейендорф И., протопресвитер. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000.
- Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
- Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982.
- Невидимая брань. Блаженной памяти старца Никодима Святогорца. Перевод с греч. епископа Феофана. Изд. 4. М., 1904.
- Недович Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств // Труды ГАХН. М., 1927.
- Некрасов А.И. Данное и мыслимое в пространственных искусствах с точки зрения восприятия пространства // Труды Секции искусствознания ИАИРИНИОН. 111. М., 1928.
- Никитина И.П. Художественное пространство средневековой живописи (социокультурная детерминация). Дис. к-та философ, наук. М., 1995.
- Никитина И.П. Пространство мира и пространство искусства. М., 2001.
- Нисенбаум М. Персонажи и предметный фон. Взаимоотношения личности и мира в древнерусской живописи // Вопросы искусствознания. 1994. Вып. 2−3. С. 115−131.
- Нисселыптраус Ц.Г. О проблеме синтеза искусств в культовом зодчестве средневековья // Проблемы взаимодействия искусств в художественной культуре зарубежных стран. Сб. науч. тр. М.: Академия Художеств СССР, 1987.
- Олсуфьев Ю.А. Заметка о церковном пении и иконописи как видах церковного искусства в связи с учением церкви.: Тульский отдел общ-ва сохранения пам-ков искусства, 1918.
- Олсуфьев Ю.А. Иконописные формы как формулы синтеза. Сергиев посад, 1926.
- Олсуфьев Ю.А. Параллельность и концентричность в древней иконе, как признаки диатаксической организованности. Госуд. Сергиевский историко-худож. Музей, 1927.
- Орем Н. Трактат о соизмеримости или несоизмеримости движений неба // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962.
- Осташенко E.JI. Пространственные отношения в некоторыхпамятниках московкой живописи как отражение развития стиля //j
- Древнерусское искусство. XTV-XV вв. М., 1984.
- Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992. С. 49−79.
- Панофский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до наших дней. СПб., 1999.
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
- Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 2004.
- Пилипенко Е. Богословие восприятия иконы в контексте православной эпистемологии // Учение Церкви о человеке. Богословская конференция РПЦ. Москва, 5−8 ноября 2001 г. Материалы. М., 2002. С. 174−181.
- Пилипенко Е. Святоотеческое богословие символа // Альфа и Омега. М., 2001. № 1(27). С. 328−349- № 2 (28). С. 310−333-
- Последование Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа // Триодь постная. М., 1992. Т. 2. С. 436−447.
- Прокопий Кесарийский. О постройках. Перев. С. П. Кондратьева // Вестник древней истории. М., 1939. № 4 (9). С. 203 283.
- Пространство и время в искусстве. JL, 1988.
- Пространство и время в музыке / Российская академия музыки. Сборник трудов. Вып. 121. М., 1992.
- Псевдо-Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. М.: РМ, 1994.
- Рамазанова Н.В. Музыкальная драматургия древнерусского певческого цикла (на примере цикла Михаилу Черниговскому и болярину его Феодору). Дис. к-та искусствед. JT., 1987.
- Раппопорт С. Природа искусства и специфика музыки // Эстетические очерки. М., 1997. Вып. 4. С. 39−78.
- Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.
- Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
- Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.
- Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие.М., 1994.
- Раушенбах Б.В. Четырехмерное пространство // Раушенбах Б. В. Пристрастие. М., 2000. С. 158 167.
- Салтыков А.А. О значении ареопагитик в древнерусском искусстве. (К изучению «Троицы» Андрея Рублева) // Древнерусское искусство XV—XVII вв. М., 1981. С. 5−24.
- Салтыков А. А. О некоторых пространственных отношениях в произведениях византийской и древнерусской живописи // Древнерусское искусство XV XVII вв. М., 1981. С. 32−55.
- Салтыков А.А. О пространственных отношениях в византийской и древнерусской живописи // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 398 413.
- Святитель Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. М.: Канон+, 2003.
- Скребкова Филатова М. О художественных возможностях музыкального пространства // Пространство и время в музыке / Российская академия музыки. Сборник трудов. Вып. 121. М., 1992. С. 64−76.
- Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи // Вопросы искусствознания. М., 1993. Вып.1. С. 170−208., Вып.2−3. С. 245−264., Вып.4. С. 334−366.- 1994. Вып. 1. С. 311−360.
- Тарабукин Н.М. Смысл иконы. М., 2001.
- Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900.
- Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения: Изд-во Псково -Печерского монастыря Паломник, 1994.
- Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. I, II. М.: Мартис, 1993.
- Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991.
- Урс фон Бальтазар X. Вселенская Литургия. Преподобный Максим Исповедник // Альфа и Омега. 1998. № 2(16).
- Успенский Б.А. «Правое» и «левое» в иконописном изображении // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.
- Успенский Б.А. О семиотике иконы // Труды по знаковым системам. Т.5. (Уч. Зап. ТГУ. Вып.284). Tapiy, 1971.
- Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
- Успенский Л. По поводу иконографии Сошествия Святого Духа. М., 1992.
- Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. М., 1989.
- Флоренский П. А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам. Т. 3. Тарту, 1967. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 198). С. 381−416.
- Флоренский П., свящ. Иконостас // Флоренский П. свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 73−199.
- Флоренский П., свящ. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания // Флоренский П. свящ. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3 (2). Философское наследие. Т. 129. М.: Мысль, 2000.
- Флоренский П., свящ. Обратная перспектива // Флоренский П. свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 7−73.
- Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной антроподицеи) // Флоренский П., свящ. Собр. соч. Философское наследие. Т. 133. М.: Мысль, 2004.
- Флоренский П., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 199−217.
- Хайрулов Ж.Р. Анализ пространственности в конкретной метафизике П.А. Флоренского и искусствознании 20-х гг. Дис. к-та филос. наук. М., 1997.
- Хоружий С. О старом и новом. Спб.: Алетейя, 2000.
- Художественные модели мироздания. В 2-х тт. 1997.
- Чулков О. А. Метафизические концепции зеркального отражения. Дисс. канд. Спб., 2002.
- Шалина И.А. Боковые врата иконостаса. Символический замысел и иконография // Иконостас. Происхождение — развитие — символика. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 559−586.
- Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С. 136−163.
- Шеллинг.Ф. Философия искусства. М., 1966.
- Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики. М., 1979.
- Шмеман А., прот. Богослужение и Предание. М.: Паломник, 2005.
- Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
- Элиаде М. Священное и мирское. Перев. Н. К. Гарбовского. М.: Изд-во Моск. Унив-та, 1994.
- Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные исследования. М., 1972.
- Яннарас X. Схоластическая аналогия как теологическая гносеология // Яннарас X. Избранное: Личность и эрос. М.: РОССПЭН, 2005.
- Bunim М. Space in medieval painting and the forerunners of perspektive. N.J., 1940.
- Demus O. Byzantine Mosaic Decoraton. Aspekt of Monumental Art in Byzantium. London, 1948.
- Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origins. The National Gallery of Art. Washington D. C. Princeton University Press. Princeton P .J., 1968.
- Grabar A. Deux monuments Chretiens d’Egypte. Le sens des images frontales chretiennes. De Part pharaonique a Fart copte // Synthronon. Art et archeolgie de la fin de l’antiquite et du moyen age. Recueil d’etudes. Paris, 1968.
- Grabar A. Plotin et les origines de 1 esthetique medievale // Cahiers archeologiques. Fin de 1 antiquite et Moyen Age. Vol. 1. 1945. P. 15−34.
- Mathew G. Byzantine Aesthetics. London, 1963.
- Meyendorff J. Spiritual Trends in Byzantium in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries // Underwood P.A. The Kariye Djami. V. 4. Princeton, 1966.
- Michelis P. An Aesthetic Approach to Byzantine Art. London, 1955.
- Ouspensky L. and Lossky V. The Meaning of Icons. Olten, 1952.
- Ouspensky L. La Theologie de l’lcones dans l’Eglise Orthodoxe. Paris, 1980.
- Panofsky. E. Die Perspektive als «symbolische Form» // Vortrage derBibliothek Warburg 1924−1925. Berlin Leipzig, 1927.
- Riegl A. Historiche Grammatik der Bildenden Kiinste. 1978.
- Schapiro M. On Some Problems in the Semiotics of Visual Art. Field and Vehicle in Image-Signs // Semiotica. 1969. Vol. 1. № 3. 223 242.
- Wulf O. Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicht // Kunst wissenschaftliche Beitrage. Leipzig, 1907.