Вербализация психоэмоциональных состояний в речевой деятельности
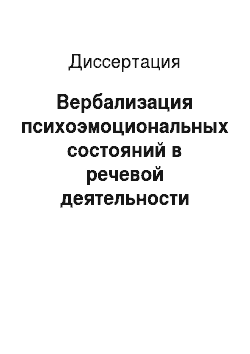
75). Особенностью базовых эмоциональных концептов является син-кретичность структуры, отсутствие четких зонных границ, «а их семантика субъективна и может быть представлена не значениями, а смыслами» (Ви-нарская, 2001: 11). Концептосфера каждого языка имеет свои возможности обозначать переживания, что создает предметную основу культурных различий. Продолжая идею Дж. Лакоффа о выделении… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Концептуальные подходы к интерпретации категорий аффективности в речевой деятельности
- 1. 1. Методологические основы лингвистического поиска
- 1. 2. Психологическая интерпретация категории аффекта
- 1. 3. Лингвистическая интерпретация концепта эмоции
- 1. 4. Психолингвистические принципы описания психоэмоциональных состояний
- Выводы
- ГЛАВА 2. Конфликтные психоэмоциональные состояния в языковом воплощении
- 2. 1. Экспериментальные возможности исследования аффекта в лингвистике
- 2. 1. 1. Описание выборки
- 2. 1. 2. Диагностические процедуры изучения психоэмоциональных состояний
- 2. 2. Языковая репрезентация аффективной категории
- 2. 2. 1. Ассоциативный эксперимент
- 2. 2. 2. Лингвистические предпочтения
- 2. 2. 3. Семантика образа в TAT
- 2. 3. Дискурсивные возможности отражения психоэмоциональных состояний
- 2. 1. Экспериментальные возможности исследования аффекта в лингвистике
- Выводы
Вербализация психоэмоциональных состояний в речевой деятельности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Проблема соотношения аффективного в языке на протяжении всей истории лингвистических и психологических поисков всегда привлекала внимание, что нашло выражение в создании специальных областей исследования: в лингвистике — эмотологии, а в психологии — психологии эмоций. Таков интерес не беспочвенен, так как соотношение иррационального (эмоциональной сферы) и рационального (языка) является одной из центральных проблем антропологических наук.
Объективная сложность и неоднозначность понимания эмотивности заключается в разных теоретических посылках в лингвистике и психологии. Так, в лингвистике эмотивность понимается как факультативный компонент лингвистического значения, при этом «эмотивность не укладывается в рамки лингвистической теории значения и не поддается описанию с помощью традиционно применяемых в этой области методов исследования» (см. Мягкова, 1988: 124). Для психологии эмотивность (эмоциональная оценка) выступает первичной исходной в формировании и построении образа мира (Артемьева, 1999; Петренко, 1983; 1988). На их принципиальное различие в свое время указал Ж. Вандриес, отмечая, что чувства только тогда приобретают значение для лингвиста, когда они выражены языковыми средствами (1937:136), в то время как для психологии существенным оказывалось само содержание и форма переживания, опирающиеся на единство мышления и аффекта.
Для лингвистики проблема эмотивности получает свою актуальность в связи с наметившейся антропоцентрической тенденцией исследований в лингвистике. Интегративные импульсы в научном поиске проявляются в синтетических моделях лингвистики (о попытке построения интегративных моделей см. Сухих, 1998). Лингвокультурология акцентирует приоритет употребления языковых знаков: «.правила употребления приведут в самое сердце теории эмоций» (Вежбицкая, 1997: 344). Интегративность как тенденция лингвистического поиска проявляется в лингвопсихологических моделях, где утверждается идея специфической связи психологических переменных со способами языкового конструирования (Зимняя, 2001; Сухих, 2001; Кулишо-ва, 2001).
Актуальность избираемой проблемы обусловлена возможностью применения интегративного подхода к пониманию процесса порождения речи, на конструктивные особенности которого оказывает влияние аффективный заряд. В нашем исследовании интерпретация этого влияния опирается на антропный принцип.
Категория аффективного в языкознании — одна из самых исследуемых сфер. Наиболее изученными являются речевые характеристики эмоциональных состояний. При этом супрасегментальные средства играют главную роль, «так как эмоциональность не всегда выражена средствами других уровней» (Величкова, 1991). К средствам выражения эмоциональных состояний относятся такие паралингвистические комплексы, как вегетативные, интонационные, мимические, жестикулярные, пантомимические- «чувства и волеизъявления личности, теряя свой синкретизм, в речи все чаще выражаются только интонационно: комплексами различных просодических средств (громкостных, звуковысотных, длительностных, тембровых и пр.» (Винар-ская, 2001: 9). Для выражения эмоций используются единицы всех уровней (Ильюшина, 1999:49).
Для многих лингвистов очевидным является то, что эмоциональность входит как составная часть в коммуникативный и смысловой аспекты высказывания (Торсуева, 1979). Как отмечает Шаховский, «человеческое мышление проявляется в речевых и эмоциальных поступках .» (1988:194). Особо важную роль эмоционального компонента отмечают в структуре косвенных речевых актов, которая составляет «ментальные и эмоциональные пресуппозиции» (Василевская, 1989: 31). Л. А. Пиотровская предлагает выделять эмо-тивные высказывания в особый коммуникативный тип (1994:143). Эмоциональный компонент, по мнению Н. А. Бесединой, является непосредственной основой коммуникативной целеустановки (1999:125). Более того, «обозначения эмоций не только участвуют в передаче имплицитной эмоциональной, оценочной информации, но и самым непосредственным образом создают прагматическую установку» (Баженова, 1993: 150). Аффективные высказывания отличает полифункциональность, они используются как средство фокусировки внимания адресата и как средство воздействия на читателя, собственно призваны выполнять «аппелятивную и симптоматическую функции», считает Г. П. Пальчун (1989). Перед лингвистом встает проблема различения средств называния, описания, выражения эмоций. Однако при этом подчеркивается, что «лексика обозначения эмоций не есть эмоциональная лексика, так как обозначить эмоцию, назвать ее — еще не значит выразить» (Торсуева, 1979:41).
Значимость эмоционального компонента отмечается не только в продуктивной, но и в рецептивной речевой деятельности, т. е. «знание речевых особенностей языка влияет на понимание эмоциональных нюансов — особенно активных позитивных эмоций» (Лаур, 1988).
Главный акцент в исследовании эмоциональных значений был сделан на лексико — грамматический аспект, конкретно на его репрезентацию на материале разных языков. Делается допущение о существовании двух типов мышления: собственно логического и эмоционального. Различаются разные способы интенсификации эмоционального мышления. Это могут быть грамматические значения времени (подробнее см. Самитулина, 2000: 36), а также значения, выражаемыми наречиями (Штатская, 1993). Некоторые лингвисты выделяют в их ряду особую семантику, наблюдаемую у фразеологизмов, выражающих эмоциональные состояния (Дудка, 1994).
Конструктивный подход к анализу знаковых структур, описывающих эмоциональные состояния, был в центре внимания в связи с проблемой соотношения семантики и синтаксиса, субстанционального и формального уровней. Особо дискуссионными оказывались компоненты семантической структуры. Отмечалась общая тенденция наличия у имен психических состояний разнонаправленной семантики с пропозитивным значением (Другова, 1984). Г. П. Пальчун предлагает понимать семантическую структуру как конфигурацию актантов с семантическими функциями: экспериенсера, аффектива, кон-тенсива, каузатива, отмечая при этом, что в одной синтаксической позиции могут совмещаться содержание источника и причины аффекта благодаря пропозитивному характеру имен (Пальчун, 1984). Конструкции с предикатами аффекта представляют собой особый семантический тип, состоящий из предикатного ядра и двух актантов. «Аргумент (субъект аффекта) совмещает в своем содержании значение носителя эмоциональной реакции и объекта воздействия, второй аргумент (объект аффекта) — значение источника психической реакции и побудительной силы» (Пальчун, 1984). Проблема включения значения каузации эмоционального состояния по-разному решается лингвистами. С. М. Хуболов включает дополнительный элемент каузации в значение конструкций, описывающих значение эмоциональных состояний (2000).
С точки зрения падежно-ролевой грамматики, в конфигурацию актантов входят только предметные референты, однако, специфика конструкций с эмотивным значением, видимо, заключается как раз в событийной природе одного из аргументов аффективного предиката (ср. «признаки аффективно-сти каузации», Дудина, 1988). В рамках ролевой грамматики значение каузатива в падежной рамке или матрице нарушало стройность теории. Тогда как это значение органически вписывалось в концептуальный подход.
В рамках концептуального подхода выделяют концепт объекта, вызвавшего состояние переживаний, который может осмысляться как их причина, как стимул, как источник, как повод для переживаний. При этом «.единого концепта „мир эмоций“ в русской концептосфере нет. Есть тенденция к формированию концепта „эмоциональные переживания/состояния“ и есть несколько отдельных концептов эмоциональных отношений (страха, враждебного отношения, высокомерного отношения» (Попова, Кривошеева,.
1999: 75). Особенностью базовых эмоциональных концептов является син-кретичность структуры, отсутствие четких зонных границ, «а их семантика субъективна и может быть представлена не значениями, а смыслами» (Ви-нарская, 2001: 11). Концептосфера каждого языка имеет свои возможности обозначать переживания, что создает предметную основу культурных различий. Продолжая идею Дж. Лакоффа о выделении универсальных ядерных предикатов, А. Вежбицкая, учитывая разновидность структур концептуальных зависимостей, предлагает с помощью сценариев описывать способы фиксации в языках эмоциональных переживаний. Она делает важное замечание, касающееся смешения некоторыми лингвистами эмоционального переживания и языковых форм репрезентации этих состояний (Вежбицкая, 1997: 344). Данный подход позволяет более продуктивно решать проблемы контра-стивного анализа разных языковых ментальностей (Казанцева, 1999). При этом учитывается социокультурное пространство и время, так как под эмоциональным концептом понимают «этнически, культурно обусловленное, структурно-смысловое, лексически и/или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя помимо самого понятия, образ и оценку, и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов, вызывающих пристрастное отношение к ним человека» (Красав-ский, 2000:66).
В качестве следующего подхода можно выделить функциональный подход. Особенности функционирования аффективных значений в текстах изучались И. А. Морозовой. Автор приходит к выводу о сложности разграничения эмоциональной семы от оценочной, единицей языковой семантики эмоций, по её мнению, является эмоционально-оценочная сема, которая «может быть как архисемой, так и дифференциальной семой или потенциальной семой, а также может актуализироваться в контексте» (Морозова, 1999: 5). Значимость контекста для актуализации эмоционально-оценочных сем отмечает Красавский H.A. (1993), сравнивая функционирование терминов эмоций в научном и художественном текстах. Автор иллюстрирует идеи В. И. Шаховского о наведении эмосем в художественных текстах эмоционально-экспрессивной лексикой. Данное положение делает позицию лингвистов более мягкой в отношении первичности или приоритетности денотативного значения над коннотативным. В. Н. Телия выражает сложившуюся лингвистическую традицию, когда говорит, что «эмотивно-субъективная модальность, дополняя денотацию выражения, составляет коннотацию» (1985: 86).
Психосемантический подход учитывает идеографичность переживаний, что находит свое выражение в фактах феноменологии сознания в форме интроспективных отчетов испытуемых или в форме собственных переживаний исследователя. Результаты исследования указанного подхода позволяют сделать вывод о том, что «каждому слову, обозначающему эмоциональное состояние, соответствует размытое поле значений. т. е. различные слова, употребляемые испытуемым для обозначения своих эмоциональных состояний, не всегда относятся к различным эмоциональным состояниям и наоборот» (Архипкина, 1981:39).
Изучение специфики ранжированности, т. е. глубинных факторов, лежащих в основе этого процесса, и установление на этой базе семантического пространства эмоциональных значений в субъективном сознании показало, что ответ касается только лексических средств, а это крайне сужает реальный диапазон соотнесенности эмоциональных состояний с вербальными структурами.
Так, М. А. Котик и A.M. Емельянова (1983) изучают значимость тревожности при оценке информации без учета факторов сопряженности состояния тревоги с коррелирующими языковыми формами. В психологии речи отмечается, что тревожность коррелирует с увеличением в речи местоимений, а оценивание других происходит по крайним оценочным шкалам (Дашкова, 1982). Изучение эмоциогенного воздействия с помощью списка Ноулиса позволило сделать вывод о том, что эмоциогенное воздействие влияет на структуру высказываний. В результате изменяется словарь испытуемых, возрастает число слов, выражающих отрицательные эмоции, уменьшается число слов, отражающих социальные реакции, увеличивается число слов, выражающих интеллектуальные действия (подробнее см. Рейковский, 1979). Лазарус объясняет это вербальное поведение потребностью ослабить неприятные эмоции посредством принятия интеллектуальной установки или как проявление защитных механизмов (Lazarus, 1959).
Относительное выравнивание представлений лингвистов и психологов осуществлено в концепции В. И. Шаховского (1987). При этом эмотивность опирается на понятийные признаки денотата, которые выступают в качестве стимула для эмоциональности говорящего. Важной для нашего исследования является гипотеза В. И. Шаховского о бесконечности состава речевых, т. е. некодифицированных эмотивов, базой которых является потенциальная бесконечность и открытость лингвистических множеств (1987: 10). Автор четко различает два уровня: эмоция — психологическая категория, а эмотивностьязыковая. Однако переведенное субъектом эмоциональное состояние до уровня понятия лишается своего аффективного заряда, т. е. тогда мы имеем дело с эмотивностью. На это указывал еще Э. Сепир: «что касается эмоций, то для них в языке значительно меньше выхода. возглас страдания или радости сам по себе не указывает на эмоциюон. служит средством сообщения о том, что испытывается та или иная эмоция"(1993: 29). Эту идею продолжает Е. В. Улыбина, отмечая, что, «когда происходит утрата эмоциональности, символ становится сообщением о гневе как таковом и подготовительной ступенью к чему — то вроде языка» (2001: 42).
Итак, как показывает анализ исследовательских усилий лингвистов и психологов, изучались преимущественно способы выражения и описания эмоциональных состояний. Это детерминировано самой сложностью объекта, так как эмоциональное состояние слабо осознается или рефлексируется субъектом, а как только осознается, то превращается в категорию эмотивно-сти. По этой причине исследование эмоциональных состояний в их проекции на лингвистическую сферу оказывается практически вне поля зрения ученых. «Эмоциональные характеристики личности проявляются в интонации в большей степениписьменный текст передает эти характеристики в меньшей мере» (Торсуева, 1979: 40).
Объектом настоящего исследования является письменная языковая личность в эмоциональном измерении.
Предмет изучения представляют конфликтные психоэмоциональные состояния (агрессивности, депрессивности, невротичности) языковой личности, реализованные в письменной речи.
Цель исследования — установление взаимосвязи между аффективными комплексами (агрессивности, невротичности, депрессивности) и языковыми структурами. Поставленная цель определила решение ряда задач:
— произвести построение концептуальной базы исследования;
— произвести экспериментальную проверку гипотезы;
— обобщить полученные данные для приближения к смежным сферам.
Для достижения поставленных задач был проведен эксперимент, который опирался на гипотезу, согласно которой аффективные комплексы блокируют продуктивное использование языковых структур и активизируют процесс знакового конструирования в направлении ригидности, статичности, абстрактности при использовании субъектом языковых средств.
Эксперимент состоял из трех этапов. На первом этапе была проведена диагностика 87 человек, студентов 1−2 курсов. На оснований данных были получены две группы: контрольная группа (49 человек), где показатели соответствовали норме, и экспериментальная (38 участников), группа с выраженными показателями. На втором этапе обе группы решали лингвистические задачи. На третьем этапе устанавливались корреляционые зависимости между психологическими переменными и языковыми структурами.
Методы исследования включали как психологические диагностические процедуры, так и лингвистический анализ данных. Для выявления искомых показателей применялась методика БР1 — Фрайбургский вариант личностного опросника (Крылов, 1−990), диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки (Райгородский, 1999). Лингвистические данные получены с помощью опросника лингвистических предпочтений, описания серии картинок TAT (Рубинштейн, 1999), пересказа рассказа О. Генри «Чародейные хлебцы», ассоциативный тест.
Научная новизна данного исследования состоит в самой возможности обнаружения связи глубинных факторов психоэмоциональных состояний с механизмами знакового конструирования письменных дискурсов, что открывает возможность проверки действенности исследовательских процедур на широкой выборке с целью создания лингвистических способов измерения состояний субъекта.
Теоретическая значимость полученных результатов позволяет развивать идею влияния аффективных комплексов на языковую креативность, продуктивность вербализации внутреннего мира. А методологическая основа исследования отражает возможность применения требований антропного принципа к исследованию динамических систем в лингвистике.
Практическая ценность работы состоит в возможности диагностировать психоэмоциональные состояния языковой личности по продуктам речевой деятельности, в данном случае по письменным дискурсам, что может использоваться в психолингвистической экспертизе, а также в дидактических курсах по проблемам языковой личности.
Методологический аппарат проводимого исследования составляют представления об антропном принципе целостной организации языкового субъекта и его речевой деятельности, который предполагает вероятностную связь между лингвистическими и психологическими факторами. При этом основу лингвистических процедур составляют: интерпретация значения предложений через элементарные пропозиции, ассоциативный анализ, има-гогика (анализ образов).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Эмоциональные состояния представлены в языке категорией эмотивности, а в речи категорией аффекта. Эмоции обеспечивают взаимодействие между уровнем восприятия и уровнем абстрактного мышления. Аффективный заряд образует когнитивно-эмоциональные структуры, а вытесненные в подсознание аффективные переживания влияют на процесс вербализации, задают атрибутивный процесс при оценке социальных фактов. Категория аффекта представлена тремя взаимосвязанными формами реализации: невротичностью, агрессивностью, депрессивностью.
2. Для целостного подхода к изучению категории аффекта в письменной речи релевантным оказывается понятие «семиотическая личность», позволяющее совместить текстои автороцентрические подходы, реализующее тем самым фундаментальный принцип единства сознания и деятельности. Приемлемым оказывается принцип нелинейной парадигмы, открывающей возможность трактовать соотносимость лингвистических и психологических данных в вероятностном, а не каузальном режиме.
3. Аффективность влияет на организацию языкового сознания. Это проявляется в доминировании значений отрицательной оценки, эмотивной лексики, в абстрактности значений лексических единиц, репродуктивности (клишированности) употребления лексических структур с ориентацией на переживания, связанные с событиями прошлого, на значения, указывающие на внутренний мир человека, на значения угрозы, помех и преград.
4. Невротическая форма аффекта коррелирует с конфигурацией значений «пассивность», «абстрактность», «статальность», а синтаксическое конструирование опирается на паратаксис. В основе метафорического переноса лежат понятия различных уровней и значений: агрессии, ригидности, престижа, непригодности, регресса. Семантический образ аффекта в невротической форме аморфен, в нем синкретично представлены значения агрессии и замкнутости, тревоги, тенденции избавления от эмоционального переживания. При доминировании темы вины в дискурсах, где преобладает номинативный стиль с дискретной стратегией изложения, семантическая коге-ренция имеет тенденцию к нарушению.
5. Агрессивная форма аффекта имеет корреляции с конфигурацией двух признаков — пассивность, паратаксис. В основе метафорического переноса лежит значение силы, отрицательной оценки, ригидности. В дискурсе тематизируются вероятные причины формирования этих значений. Преобладает номинативный стиль изложения с нарушением формальнологической связности (когезии).
6. Депрессивная форма аффекта обуславливает доминирование языковых форм со значением пассивности, статальности, абстрактности лексики, сочинительности связи в тексте. Основу метафорического переноса составляют значения напряженности, пассивности, негативизма. Главная тема в текстах связана со значением вины, страдания и одиночества.
Материал исследования составляют данные респондентов, полученные лингвистическими процедурами — 92 дискурса, 460 ассоциаций.
Апробация результатов исследования.
Результаты исследования апробированы на научных конференциях в Кубанском аграрном госуниверситете в 2002 г., на межвузовской конференции в Курском госпединституте в 2002 г., на межвузовской конференции в Пензенском госпединституте в 2002 г.
Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Во введении определяется область исследования, формируются цели и задачи. В первой главе определяется методология и концептуальный аппарат исследования. Во второй главе излагаются основные результаты эксперимента. В заключении подводятся итоги и намечаются перспективы использования исследовательской технологии.
Выводы ко второй главе.
1. Категория аффекта представлена тремя взаимосвязанными формами: невротичностью, агрессивностью, дерпрессивностью. При этом невро-тичность выступает наиболее общей формой (метафактором) по отношению к другим. Эмоциональные состояния влияют на восприятие, переработку информации. Эмоционально значимые языковые единицы плохо распознаются, опускаются из-за действия механизма психологической защиты.
2. Для выявления психоэмоциональных состояний использовались личностный опросник Басса-Дарки и Фрайбургский опросник. В качестве лингвистического стимульного материала выступали картинки тематического апперцептивного теста, набор из десяти слов для получения ассоциаций, опросник лингвистических предпочтений и рассказ О. Генри. Лингвистические методики позволили описать лексикон, особенности синтаксирования и нарративной компетенции, имплицитную систему смыслов.
3. Данные ассоциативного эксперимента указывают на тот факт, что в основе ассоциатов лежат факторы, организующие семантику языкового сознания. Этими факторами являются отрицательная оценка, эмоциональность, абстрактность, репродуктивность, ориентация на прошлое, внутреннее, угроза, помехи и преграды. Наличие аффективного комплекса блокирует непосредственное переживание, что проявляется в доминировании абстрактной лексики.
4. Данные опросника лингвистических предпочтений (ОЛП) позволяют еде лать вывод об особенностях языкового конструирования. Так, невротическая форма аффекта коррелирует с конфигурацией языковых черт, определяющих выбор вербальных структур со значением пассивности, абстрактности, паратаксиса, статики. Основание метафорического переноса составляют значения престижа, агрессии, ригидности, непригодности или неполноты жизни, регресс, потребность близости.
Агрессивная форма аффекта проявляет себя через значения пассив ности, паратаксиса. Оппозиция абстрактность-конретность для данной формы нерелевантна. В основе метафорического переноса лежат значения силы, застревания, обесценивания.
Депрессивная форма аффекта коррелирует с таким набором языковых черт, как пассивность, абстрактность, паратаксис, статика. При этом абстрактность наиболее выражена именно у этой формы аффекта как способа защиты от дискомфортного переживания. Основу метафорического переноса составляют значения пассивности, напряженности, избегание страха, негативизм. Данная форма не препятствует проявлению языковой креативности. Семантическое ядро категории аффекта по лингвистическим данным составляют ригидность, негативизм, искажение реальности, что вполне согласуется с клиническими данными.
5. Анализ семантических образов позволяют сделать тексты, полученные с помощью TAT (тематического апперцептивного опросника). Так, для агрессивной формы аффекта характерно доминирование номинативного стиля изложения при описании. Номинативный стиль является показателем ригидности, связанности энергии сознания. Стиль изложения приближается к телеграфному с преобладанием аграмматизмов и частым употреблением предикатов пропозициональной установки. Семантические образы имеют негативную эмоциональную окраску. Для агрессивного состояния характерен также негативный исход сюжета. При описании картинок получает выражение блокировка потребности совместного бытия (аффилятивный мотив). У депрессивных в текстах преобладают образы одиночества, подчеркиваются внутренние переживания. Главной темой интерпретации картинок выступает переживание вины и страдания. Стиль изложения номинативный. Невротическая форма репрезентируется-в текстах — описаниях картинок в темах виновности, обиды, страха, ревности, боязни быть разоблаченным. Значение вины обусловлено переживанием своей слабости, а номинативный стиль сигнализирует о ригидности переживания. Семантический образ аффекта в невротической форме аморфный, в нем синкретично представлены значения агрессии и замкнутости, тревоги, но с выраженной тенденцией избавления от эмоционального переживания.
6. Влияние аффекта на организацию языкового сознания проявляется в опускании терминалов нарративного фрейма при пересказе или в проецировании в текст-пересказ эпизодов, отсутствующих в исходном тексте-стимулё. Невротичное эмоциональное состояние проявляется в тексте через слабую семантическую когерентность, т. е. преобладает дискретная стратегия изложения. При этом в тексте-пересказе акцентируется в 80% тема неудачи чертежника. В 64% отсутствует мораль изложения, т. е. блокировано оценочное отношение. Агрессивное состояние отличает в тексте слабая когезия, т. е. формальная связанность текста нарушена. Мораль отсутствует, акцентируется негативизм описываемых событий. Тематизации подвергаются глубинные причины агрессивного состояния. Депрессивное состояние отличает выраженность в тексте морали и значений жалости, стыда, немощности или слабости. Опускаются эпизоды со значением угрозы. Нарративная компетенция, как и языковая креативность, получает лучшее выражение у депрессивных испытуемых.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Обращение к языковой личности позволяет приблизиться к сущностной природе знаковых структур в процессе опосредовании или объективации сознания, сформированного в результате взаимодействия глубинных структур (архетипов) в памяти и социализованных форм культурного поведения. Учет только рационального побуждает исследователя к использованию ан-тропоцентричного принципа, который утверждает каузальный, линейный вид зависимости. Но при этом изучаемое явление видится лишь с одной стороны. Пропадает целостность, т. е. вторая составляющая компонента — иррациональное — плохо поддается описанию.
В качестве представителя иррационального выступает аффект. Исследование его функционирования в письменной речи, в отличие от описания его в языке, предполагает иную методологическую базу, а именно нелинейную парадигму, где взаимосвязь факторов, влияющих на то или иное явление, носит вероятностный характер. При этом принцип антропности, т. е. целостности, когда в единстве представлены дискурс как вещество, в которое превращается энергия языкового сознания, задаваемое глубинным мотивом (идеей).
Такое понимание соотношения идеи — энергии — вещества, заимствованное из теории систем, позволяет по-новому взглянуть на процесс коммуникации, когда информация не воспринимается механично, а перекомбинирует языковое сознание коммуниканта в иную текстуальную форму ее существования. В таком случае коммуникация осуществляется на двух уровняхэксплицитном и имлицитном. Имплицитный уровень коммуникации включает обмен (взаимодействие) между сознательной и бессознательной сферами психики и процесс проецирования вытесненной части информации в бессознательное и проецируемое на другого.
Понятие аффективности включает разные эмоциональные состояния невротичность, агрессию и депрессию. Эти состояния влияют на образование ассоциативных связей, опирающиеся на аффективную играмму, которая обладает потенциалом конструирования языкового пространства сознания. Внешняя репрезентация лингвистических гештальтов составляет означающее или симптом того означаемого, которое вытеснено из сознания субъекта.
В лингвистике описывались языковые средства со значением эмотив-ности, опираясь на два подхода — теорию номинации и когнитивный подход. В теории номинации эмоционально-оценочное значение представлено категорией экспрессивности, в когнитивном подходе — концептом. Рассматривая данные категории в отрыве от самого субъекта, мы имеем дело с абстрактными схемами, а не с функционированием в коммуникации.
Психоэмоциональные переживания континуальны и при переводе их на язык описания утрачивается сам заряд данного состояния. Поэтому здесь при описании переживания аффекта сталкиваются два подхода — номотетиче-ский, т. е. поиск обобщений и абстракций и идеографический, т. е. постижение неповторимого, уникального для субъекта переживаний.
Невротические переживания выступают как недифференцированное по отношению к агрессивности и депрессивности состояние. Поэтому невро-тичности присущи такие же языковые черты поведения, как у агрессивных и депрессивных. Сочетая лингвистические и психологические методы описания, можно получить возможность устанавливать корреляции между их данными.
Наличие данных состояний как устойчивые черты личности позволяют выявить языковые способы их манифестации. Это касается лексикона, син-таксирования, стратегий построения дискурса. Общими лингвистическими признаками, характеризующими аффективные переживания, являются: склонность к употреблению конструкций со значением пассивности, абстрактности лексических единиц, сочинительности в связывании языковых структур, номинативным стилем изложения, слабой языковой креативностью (за исключением депрессивных переживаний). Основу метафорического переноса составляют значения негативной оценки, указание на преграды, поме.
105 хи, агрессию, престиж, ригидность, слабую семантическую когерентность темы изложения или описания.
Процедура переноса позволяет выявить бессознательные, скрытые причины аффективного поведения. Однако данная проблема нуждается в дальнейшем изучении того, как бессознательное или неосознаваемое находит выражение в языковых структурах. Для этого необходима разработка исследовательских процедур. Получила подтверждение общая идея об аффекте как блокирующем свободное и спонтанное циркулирование психической энергии, проецирующуюся на процедуру манипулирования коммуниканта вербальными средствами. Однако полученные данные имеют вероятностный характер, так как требуется учет всех факторов, позволяющих увеличить возможность соотношения языковых и психологических переменных. Однако этого рамки данного исследования не предусматривают.
Список литературы
- Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001.
- Александров И.А. Космический феномен человека. М., 1999.
- Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2000.
- Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М., 1999.
- Архипкина О.С. Реконструкция субъективного семантического пространства, означивающего эмоциональные состояния//Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1981 № 2. С. 39−45.
- Аувяэрт Л. Эмоции и речевая деятельность//Теория и модели знаний: Теория и практика создания систем искусственного интеллекта. Тарту. 1985. С. 40−51.
- Баженова И.С. Прагматическая установка обозначений в художественном тексте//Проблемы функциональной лингвистики и активные формы преподавания иностранных языков. Астрахань. 1993. С. 13−15.
- Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
- Баранов А.Г. Уровни когнитипичности в текстовой деятельно-сти//Когнитивная парадигма: тезисы международной конференции. Пятигорск. 2000 с. 24−27.
- Ю.Барысина Е. В. Языковая личность и знаковая семантика// Языковая личность: проблемы обозначения и понимания. Волгоград. 1997. С. 24−25. П. Белик A.A. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология. М., 2001. с
- Беллак Л. Клиническое применение тематического апперцептивного теста/проективная психология. М/, 2000. С. 136−170.
- Бендлер Р., Гриндер Дж. Структура магии. СПб. 1993.
- Беседина H.A. Коммуникативность эмоциональных состояний// Филология и культура. Тамбов. Ч. 1. С.125−126.
- Бескова И.А. Эволюция и сознание: Новый взгляд. М., 2002.
- Бехтерев В.М. Объективная психология. М., 1991.
- Блонский П.П. Память и мышление. СПб. 2001.
- Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996.
- Будянская О.О., Мягкова Е. Ю. Сопоставление средств описания эмоций в английском и русском языках (на примере страха)//Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж. 2002. С. 79−87.
- Буянова Л.Ю., Рыбникова В. А. Языковая личность как текст: проблема образов сознания.// Языковое сознания: Содержание и функционирование. М., 2000. С.42−43.
- Бэрон Р., Ричарсон Д. Агрессия. СПб. 1997.
- Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
- Василевская Л.И. К вопросу о роли эмотивного компонента в речевом общении//Семантика и прагматика языковых единиц. Тюмень. 1989. С. 30−31.
- Васильев С.А. Уровни понимания текста//Понимание как логико- гносеологическая проблема. Киев. 1972.
- Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: синергетика и теория социальной организации. СПб. 1999.
- Валлон А. Психическое развитие ребенка. СПб. 2001.
- Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческой коммуникации. М., 2000.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
- Величкова Л.В. Попытка системного взгляда на интенциональные признаки эмоционально окрашенной речи// Прагматические аспекты функционирования языковых единиц. М., 1991. С. 45.
- Винарская E.H. К проблеме базовых эмоциональных концептов/ТВестник Воронежского государственного университета: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж. 2001. № 2. С. 9−12.
- Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых средств. М., 1980.
- Воркачев С.Г. Две доли- две концепции счастья//Языковая личность: проблемы креативной семантики. Волгоград. 2000. С. 54−61.
- Выготский JI.C. Учение об эмоциях//Собрание сочинений. М., 1984. Т.6 с. 92−317.
- Генри О. Короли и капуста: рассказы. М., 1982.
- Гербер Р. Вибрационная медицина. М., 1997.
- Грайс Г. П. Логика и речевое общение//Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16 Лингвистическая прагматика. С. 217−237.
- Графова Смысловая структура эмотивных предикатов// Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 67−98.
- Гридин В.Н. К вопросу о систематизации эмоциональной лексики// Переводная и учебная лексикография. М., 1972 с. 112−124.
- Гроф С. За пределами мозга. М., 1993.
- Гуггенбюль-Крейг А. Анализ современных мифов. СПб. 1997.
- Дашкова С.С. Устная речь как источник информации о человеке. АКД. Л., 1982.
- Дейк ван Т. Вопросы прагматики текста//Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8. С. 259−336.
- Джеймс У. Психология. М., 1991.
- Долинин К.А. Стилистика французского языка. Л., 1978.
- Донцов В.И. Биоэнергетика человека. М., 1994.
- Дридзе Т.М. Сознание и текст //Психология и психоанализ рекламы: Лич-ностно-ориентированный подход. Самара. 2001. С. 192−203.
- Другова Г. Л. Предложения с субъектами -именами психических состояний// Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин. 1984. С. 6774.
- Дубров А.П., Пушкин В.Н. .Парапсихология и современное естествознание. М., 1990.
- Дудина Н.Г. Модальный компонент конструкций с глаголами кауза-ции//Вариативность в германских языках: Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной конференции. Калинин. 1988. С. 241−242.
- Дудка В.И. Особенности становления семантики фразеологизмов немецкого языка, выражающих Эмоциональное состояние радости и го-ря//Принципы функционального описания языка. Екатеринбург. 1994. С. 5354.
- Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М., — Воронеж. 2001.
- Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
- Ильюшина Е.С. Эмоции и их выражение в языковой картине ми-ра//Филология и культура. Тамбов. 1999.4.1. с. 48−49.
- Казанцева Е.А. Когнитивно сопоставительное описание синонимических парадигм с доминантой to frighten и пугать. АКД. Краснодар. 1999.
- Канчер М.А. Языковая личность телеведущего в рамках русского риторического этоса. АКД. Екатеринбург. 2002.
- Капра Ф. Дао физики. СПб. 1994.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Козьмина В.Н. Языковая реализация гибких коммуникативных тактик в английском диалоге. АКД. СПб. 2001.
- Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности. М., 1996.
- Котик М.А., Емельянов A.M. Метод оценки информации по уровню ее значимости- тревожности//Методологические проблемы искусственного интеллекта. Тарту. 1983. С. 111−129.
- Красавский H.A. О семантике терминов эмоций, функционирующих в научном и художественном текстах//Проблемы функциональной лингвистики и активные формы преподавания иностранных языков. Астрахань. 1993. С. 7072.
- Красавский H.A. Эмоциональная концептосфера немецкого языка (этимологический анализ базисных номинатов эмоций)//Языковая личность: проблемы креативной семантики. Волгоград. 2000 с. 65−72.
- Краткий психологический словарь. М., 1985.
- Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей. М., 1995.
- Крыжановская J1.M. Психология мышления. М., 1996.
- Крылов A.A. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии. Л., 1990.
- Крюгер П. Психические образы как мост между субъектом и объек-том//Кембриджское руководство по аналитической психологии. М., 2000 с. 121−142.
- Куликов Л.В. Психология настроения. СПб. 1997.
- Кулишова Н.Д. Языковая личность в аспекте психолингвистических характеристик. АКД. Краснодар. 2001.
- Лазарус P.C. Неопределенность и однозначность в проективных методи-ках//Проективная психология. М., 2000 с. 94−97.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
- Ланге П.П. Психический мир. М., -Воронеж. 1996.
- Лаур М. Уровень владения языком и понимание эмоций, передаваемых в устной речи// Тезисы 9 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации: «Языковое сознание». М., 1988. С. 100−101.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001.
- Либин A.B. и др. Ретроспектива-интроспектива-перспектива//Стиль человека: психологический анализ. М., 1998. С. 278−287.
- Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта//Психология эмоций: тексты. М., 1984 с. 228−234.
- Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1998.
- Лучинская E.H. Постмодернистский дискурс: семиологический и лингво-культурный аспекты интерпретации. Краснодар. 2002.
- Майерс Д. Социальная психология. СПб. 1997.
- Мальцева O.H. Описание языковой личности: конструктивный подход. АКД. Краснодар. 2000.
- Манин Ю. И. К проблеме ранних стадий речи и созна-ния//Интеллектуальные процессы и их моделирование. М., 1987. С. 154−178.
- Маслова В.А. Параметры экспрессивности текста//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991 с. 179−204.
- Матвеева Т.В. Лексическая экспрессивность в языке: Учебн. Пособие. Свердловск. 1986.
- Матурана У. Биология познания// Язык интеллекта. М., 1996. С. 95−142.
- Менегетти А. Образ и бессознательное. М., 2000.
- Мерлин B.C. Психология индивидуальности. М., — Воронеж. 1996
- Могутова Н.В. Основные проблемы использования эмотивных языковых единиц для придания высказыванию естественности и эмоциональности(на примере английских междометий)//Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж. 2002. С. 87−93.
- Можейко М.А. «Смерть автора»//Постмодернизм: Энциклопедия. Минск. 2001 с. 771−772.
- Моз де Л. Психоистория. Ростов-на-Дону. 2000.
- Морозова И.А. Языковые средства и способы выражения эмоций в лирике И.А. Бунина. АКД. Воронеж. 1999.
- Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека. М., 2001.
- Моррса Ч. Основания теории знаков// Семиотика. М., 1983.
- Мэй Р. Проблема тревоги. М., 2001.
- Мягкова Е.Ю. О двух подходах к исследованию эмоциональной лексики/ЛГезисы 9 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации: «Языковое сознание». М., 1988.
- Найсер У. Познание и реальность. М., 1981.
- Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. Тбилиси.1989.
- Носенко Э.Л. Особенности речи в состоянии эмоционального напряжения. Днепропетровск. 1975.
- Пальчун Г. П. Предложения с предикатами аффекта. АКД. Л., 1984.
- Пальчун Г. П. Предложения с предикатами аффекта, включающми частично имплицитный объект//Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин. 1984. С.62−67.
- Пальчун Г. П. Прагматические функции аффективных высказыва-ний//Личностные аспекты языкового общения. Калинин. 1989. С. 155−159.
- Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб. 1999.
- Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: Исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.
- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988.
- Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск. 1997.
- Пиатровская Л.А. Коммуникативный статус эмотивных высказыва-ний//Принципы функционального описания языка. Екатеринбург. 1994. С. 143−144.
- Попова З.Д., Кривошеева И. В. Есть ли синтаксический концепт «мир эмоций» в концептосфере русского языка?// Филология и культура. Тамбов. 1999 ч.1. с. 74−76.
- Попова З.Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж. 2001.
- Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1999.
- Пузырев A.B. Многослойность языковой личности// Языковая личность: Проблемы обозначеничя и понимания. Волгоград. 1997. С. 113−114.
- Пушкин A.A. Способ организации дискурса и типология языковых лич-ностей//Язык, дискур и личность. Тверь. 1990. С. 50−59.
- Пушкин A.A. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности //Личностные аспекты языкового общения. Калинин. 1989. 45−53.
- Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. Самара. 1999.
- Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979.
- Рейнвальд Н.И. Психология личности. М., 1972.
- Рибо Т. Болезни личности: Опыт исследования. М., 2001.
- Романов A.A. Политическая лингвистика. М., — Тверь. 2002.
- Романов A.A., Черепанова И. Ю. Языковая суггестия в предвыборной коммуникации. Тверь. 2002.
- Росс Л., Нисберт Р. Человек и ситуация. М. 2000.
- Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 1999.
- Рубинштейн С.Л. Эмоции//Психология эмоций. М., 1984. С. 152−161.
- Самитулина Ф.Г. Эмоциональное мышление и коммуникативная функция языкаУ/Филология на рубеже тысячелетий. Ростов -на- Дону. 200. С. 35−37.
- Сандомирская И.И. Эмотивный компонент в значении глаго-ла//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М. 1991с. 114−135.
- Сартр Жан-Поль. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб. 2001.
- Сельчонок К. В. Архетипы коллективного бессознательно-го//Психология психоанализ рекламы. Самара. 2001. С. 699−726.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Серль Дж. Открывая сознание заново. М., 2002.
- Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации. М., 2002.
- Смирнов С.Д. Психология образа: Проблема активности психического отражения. М., 1985.
- Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. СПб. 2000.
- Субботин В.Е. Мотивация и эмоции//Современная психология. М., 1999. С. 346−362.
- Сусов И.П. Лингвистика между двумя крутыми берегами//Языковое общение: Единицы и регулятивы. Калинин. 1987. С. 9−14.
- Сухих С.А. Полипредикатные конструкции//Прагматические и семантические аспекты синтаксиса. Калинин. 1985. С. 54−62.
- Сухих С.А., Зеленская В. В. Репрезентативная сущность личности в коммуникативном аспекте реализаций. Краснодар. 1997.
- Сухих С.А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса. АДД. Краснодар. 1998.
- Сухих С.А. Принципы и методы интегративного подхода в лингвисти-ке//Принципы и методы исследования в филологии: конец 20 века. СПб Ставрополь. 2001. С. 37−40.
- Сухих С.А. Картина мира и семиотическое конструирование//Человек. Сообщество. Управление: Научно-информационный журнал. № 1. Краснодар. 2001. С. 24−32.
- Сухих С.А. Личность в научном дискурсе//Лингвистический вестник. Ижевск. 2002. № 4 с. 95−100.
- Сухих С.А. Этноспецифические помехи в деловой межкультурной коммуникации. 2002. (рукопись).
- Тайгер П., Тайгер Б. Читать человека как книгу. М., 2000.
- Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. 1986.
- Телия В.Н. Семантика экспрессивности// Семантические категории языка и методы их изучения. Уфа. 1985. С. 85−86.
- Телия В.Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 5−35.
- Тиллих П. Бытие, небытие и тревога// Тревога и тревожность. СПб. 2001. С. 82−78.
- Торсуева И.Г. Интонация и смысл высказывания. М.1979.
- Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
- Тхорик В.И. Языковая личность: лингвокульторологический аспект. АДД. Краснодар. 2000.
- Уилбер К. Никаких границ. М., 1998.
- Уилсон Р. Психология эволюции. Киев. 1998.
- Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М., 2001.
- Филатова Е.С. Соционика для вас: наука общения, понимания и согласия. М., 1994.
- Чейф У. JI. Значение и структура языка. М., 1975.
- Шахнарович A.M. Экспериментальное исследование реализации эмо-тивности в речевой деятельности// Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.С. 99- 113.
- Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж. 1987.
- Шаховский В.И. Эмоции в структурах сознания и языка лично-сти//Тезисы 9 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации: «Языковое сознание». М., 1988 с. 194−195.
- Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980.
- Шенк Р. Интегральная понимающая система // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. С. 401−449
- Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону. 1998.
- Шкуратова И.П. Когнитивный стиль и общение. Ростов-на- Дону. 1994.
- Шкуратов В.А. Историческая психология. Ростов-на-Дону. 1994.
- Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику: теоретико-методологические основы и психодиагностические возможности. М., 1983.
- Штангл А. Маятник, рамка, сенсор. СПб. 1998.
- Штатская Т.В., Сулимовский Б. Н. Особенности функционирования аффективных интенсификаторов глагольного действия// Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания. Краснодар. 1993. С. 32−33.
- Франц M.JI. Психология сказки: Толкование волшебных сказок. СПб. 1998.
- Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М., 1993.
- Фромм Э. Здоровое общество// Психоанализ и культура. М., 1995. С. 273−564.
- Фромм Э. Революция надежды/УПсихоанализ и этика. М., 1993. С. 218 357.
- Холодная Я. М. Когнитивные стили: парадигма «других» интеллектуальных способностей//Стиль человека: психологический анализ. М., 1998. С. 52−63.
- Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М., 1993.
- Хорни К. Наши внутренние конфликты//Психоанализ и культура. М., 1995. С. 5−190.
- Хуболов С.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке (на материале фразеологии карачаево-балкарского языка)// Когнитивная парадигма: тезисы международной конференции 27−28 апреля 2000 г. Симпозиум 1. Пятигорск. 2000 с. 179−181.
- Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. 1997.
- Юнг К. Г. Архетип и смысл. М., 1991.
- Юнг К. Г. Подход к бессознательному//Человек и его символы. СПб.1996.
- Юнг К. Г. Психологические типы. СПб. 1995.
- Bohm D. Die implizite Ordnung und die supra-implizite Ordnung/Wissenschaftler und Weisen. Hamburg. 1992 s. 51−92.
- Fisce S. Schema-triggered Affect: Application to Social Perception// Affect and Cognition. The Seventeenth Arnual Carnegie Symposium on Cognition. N.Y., 1982.
- Kortweg Hanneke, Kortweg Hans. Dem inneren Licht folgen. Muenchen, 1991.
- Kovecses Z. Emotion consepts. N.Y. 1990
- Lazarus R.S. Program of Research in Psychological Stress. 1959.
- Loeffer H. Zur Natuerlichkeit kuenstlicher Studio-Gespraeche// Sprache und Pragmatik. Stokholm.1983.