Новообразования-наименования лица в современном русском языке рубежа XX-XXI веков: Мотивированность.
Семантика.
Структура
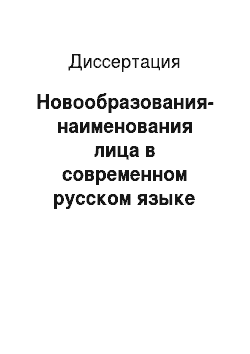
Новые имена существительные-названия лица, образованные контаминацией и междусловным наложением, имеют общую отличительную черту — в их производстве используется не одна, а несколько лексем. Словообразовательная шутка в таких окказиональных образованиях основана на неожиданном, не всегда оправданном, с точки зрения узуса, соединении двух слов в.одно. По определению Н. АЛнко-Триницкой… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. СЕМАНТИКА И МОТИВИРОВАННОСТЬ СУФФИКСАЛЬНЫХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ-НАЗВАНИЙ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ РУБЕЖА XX-XXIВВ
- 1. Отечественные лингвисты о специфике выражения словообразовательного значения в производных именах существительных-наименованиях лица
- 2. Имена существительные-наименования лица на -ец
- 3. Имена существительные-названия лица на -щик (-чик)
- 4. Имена существительные-наименования лица с суффиксом -ник (-шник)
- 5. Имена существительные-наименования лица с суффиксом -ик
- 6. Имена существительные-наименования лица с нулевым суффиксом
- 7. Имена существительные-названия лица на -ист.'
- 8. Имена существительные — наименования лица на -ер
- Ф § 9. Выводы. т
- Глава 2. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НОВЫХ ДЕРИВАТОВ-НАЗВАНИЙ ЛИЦА
- W В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ РУБЕЖА XX-XXI ВВ
- 1. Имена существительные-названия лица, созданные путем аббревиации
- 2. Неологизмы-названия лица, образованные путем усечения по аббревиатурному способу
- 3. Имена существительные-наименования лица, образованные сложением
- 4. Семантическая классификация сложных наименований лица
- 5. Словообразовательная структура композитов-названий лица. щ
- 6. Выводы.'
- Глава 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИЦА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ РУБЕЖА XX-XXI ВВ
- 1. Чередование фонем при образовании неологизмов-названий лица
- 2. Вопрос об интерфиксации в современной лингвистической науке. Роль интерфиксов в образовании неологизмов-названий лица. л
- 3. Усечение производящей основы при образовании неологизмов-названий ж лица в русском языке рубежа XX—XXI вв.
- 4. Наложение морфем в структуре производных имен существительныхнаименований лица
- 5. Акцентологические особенности неологизмов-названий лица в русском языке рубежа XX—XXI вв.
- 6. Выводы
Новообразования-наименования лица в современном русском языке рубежа XX-XXI веков: Мотивированность. Семантика. Структура (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Лексическая система как наиболее динамичная и чувствительная часть языка в первую очередь откликается на малейшие изменения в жизни общества. Подчеркивая неразрывную связь языка с социальной действительностью, Г. Н. Скляревская обращает внимание на то, что в периоды социальной и исторической стабильности процессы языкового развития протекают размеренно, постепенно, языковые изменения затрагивают незначительные участки системы. В пору же исторических и социальных потрясений и революций процессы развития ускоряются, новые производные слова образуются и входят в употребление стремительно, одномоментно [207. С. 7−8]. XX век принес с собой изменения во всех сферах жизни: политической (преобразования в государственном и партийно-политическом устройстве), экономической (переход на рельсы рыночной экономики), финансовой (появление новой кредитно-финансовой системы), технической' (развитие видеотехники, компьютерной техники, Интернет), бытовой (влияние в стиле одежды, времяпрепровождении), в сфере искусства, спорта, предпринимательской деятельности. Все эти события 80−90-х гг. XX века не могли не отразиться в языке и, в частности, в словообразовании. Свобода средств массовой информации, стремление журналистов и писателей расширить привычные рамки общения с читателем также в немалой степени способствовали возникновению и распространению в русском языке новых слов. Современная пресса стала средоточием процессов, происходящих в нем.
Изучение современного состояния русской речи, специфики словообразования новых лексических единиц в русском языке представляется важной задачей, стоящей перед современными языковедами, писателями, литераторами, поскольку именно они призваны непредвзято и всесторонне исследовать процессы, которые происходят в языке.
В русском словообразовании рубежа XX—XXI вв. одной из наиболее интересных, разнообразных лексико-семантических групп, представленных большим числом новообразований, являются имена существительные-названия лица.
Теоретическая разработка вопросов русского словообразования началась еще в работах М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева [144]. Эта проблема нашла отклик и продолжение в трудах Н. И. Греча, описавшего словопроизводство имен существительных, — именно он предложил оригинальную классификацию основ: первообразных, состоящих из корня и окончания {муж, жена), производных, созданных от другой части речи {пылкость, имение), сложных, состоящих из двух корней {мореход), второобразных, производных от первообразных {россиянин, девица) [62. С. 131−153, 63]. Особое внимание он уделил описанию различных способов возникновения женских соответствий к мужским в наименованиях лиц — в его определении этот процесс получил название «движимости имен».
Начало подлинно научного изучения словообразовательной структуры слова в современном русском языке, предполагающего рассмотрение морфем в их связях и соотношениях, четкое разграничение фактов современного языка, с одной стороны, и фактов предшествующих эпох его развития, с другой, было положено работами И. А. Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского, В.А.Богоро-дицкого, Ф. Ф. Фортунатова. Особенное, методологическое значение имела концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ: он считал, что необходимо строго различать синхронный и исторический подходы к описанию языкового материала, а явления современного русского языка следует рассматривать с точки зрения продуктивности [214. С. 288].
Многие важнейшие проблемы словообразования затронул Н.В.Кру-шевский. Особо следует подчеркнуть его интерес к изучению не только целых слов в системе материально и семантически связанных лексических единиц, но и к проблеме связи частей разных слов в единое целое. Н. В. Крушевский едва ли не первым в лингвистической науке предпринял попытку классифицировать «разновидности морфологических элементов» слова, исследовать возможности фонетического варьирования корней, суффиксов и префиксов [128].
В начале XX века словообразование еще не было выделено в самостоятельный раздел науки о языке. В работах 20−30 годов деривационная проблематика, как правило, не была выделена из общей морфологической. Грамматические курсы этого периода, включая сведения по словообразованию, уделяли его вопросам незначительное место в разделе «Морфология» — чаще всего в виде выборочного перечня отдельных словообразовательных типов [15- 179].
К середине XX века словообразование все чаще привлекает к себе внима-* ние языковедов. Так, более полно вопросы словообразования нашли отражение в работе Л. А. Булаховского «Курс русского литературного языка»: в ней этот раздел выделен в виде особой главы, пусть даже включенной в рамки раздела «Морфология» [28].
В 30-х годах XX века вышли в свет некоторые исследования, посвященные конкретным вопросам русского словообразования. Заметным явлением среди них были работы Г. О. Винокура. Еще не завершив описания основ своей теории в исследовании конкретных словообразовательных типов отглагольных имен существительных, Г. О. Винокур продемонстрировал оригинальные приемы анализа словообразовательных явлений — сопоставительный анализ синонимических «словообразовательных категорий», разных способов выражения близких значений. Особое место в развитии отечественной деривации занимает работа Г. О. Винокура «Заметки по русскому словообразованию», в которой, пожалуй, впервые были изложены принципы словообразовательного анализа [43]. Подчеркнув необходимость в практической работе различать диахронический и синхронный аспекты, в качестве основного критерия членимости слова автор предложил устанавливать в языке «соответствующую первичную основу», материально и семантически связанную с изучаемым словом. Исходя из этого положения, он изложил конкретные принципы установления «первичной основы». Главным из них .Г. О. Винокур считал одновременный учет и материальных, и семантических факторов. Большое значение для дальнейших исследова-" ний по словообразованию имели высказанные Г. О. Винокуром мысли о вариантах и вариациях основ, о связанных основах, об омонимии словообразовательной формы.
Фундаментальные труды В. В. Виноградова значительно обогатили науку о словообразовании разработкой целого ряда проблем, касающихся продуктивности и непродуктивности словообразовательных типов, специфики образования разных частей речи, омонимии и синонимии в словообразовании и др. [34- 35- 37]. В. В. Виноградову принадлежит заслуга решения многих теоретических вопросов деривации, определения места словообразования в системе языка и среди других лингвистических дисциплин. Развивая мысль о взаимосвязи формообразования и словообразования, В. В. Виноградов пришел к выводу о тесной связи последнего с грамматическим строем русского языка, с одной стороны, и с его словарным составом, с другой. Словообразование, по его мнению, — это особая область языка, которая имеет свои закономерности и является вместе с тем смежной и внутренне связанной с лексикой, грамматикой и семантикой [36]. Этот подход позволил 'В.В.Виноградову выделить и рассмотреть такие способы русского словообразования, как морфологический, морфолого-синтаксический (явление перехода слов и форм в другую часть речи), лексико-синтаксический («сращение» словосочетания в одно слово), лексикосемантический (развитие омонимов на основе многозначности слова). Логическое завершение трудов В. В. Виноградова проявилось в блестящей разработке вопросов русского словообразования в первом томе академической «Грамматики русского языка» [60]. Описание словообразовательных типов разных частей речи, систематизированных по семантико-словообразовательным категориям, пусть даже и включенных по традиции в раздел морфологии, тем не менее ознаменовало собой новый этап в развитии отечественной науки словообразования.
Во второй половине XX’века, когда словообразование уже оформилось в самостоятельный раздел науки о языке, лингвистами отмечено наиболее интенсивное его развитие, выразившееся в обобщении достигнутых ранее результатов: были описаны закономерности словопроизводства разных частей речи, определены методы лингвистического анализа (морфемный, словообразовательный, этимологический), выделены аспекты изучения языка (диахронический, синхронный, семасиологический, ономасиологический), поставлены многие теоретические проблемы деривации, разрабатывающиеся и сейчас.
Исследованиям второй половины XX века свойственно стремление выделить и разграничить собственно языковые и внеязыковые (экстралингвистические) причины изменений в словообразовании, обозначенные самими названиями фундаментальных исследований: «Развитие современного русского языка» (М., 1963), «Развитие грамматики и лексики современного русского языка» (М., 1964), «Развитие словообразования современного русского языка» (М., 1966), «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» (М., 1968) и др. [196- 193- 195- 202- 191- 192].
Многочисленные теоретические изыскания, практический анализ богатейшего языкового материала предопределили выход в свет «Грамматики современного русского литературного языка» 1970 года (далее — АГ-70) [61]. Принципиальным отличием ее от предыдущей академической грамматики является выделение новых разделов: «Введение в морфемику», в котором рассматриваются принципы выделения морфов в словоформах и отождествления слов и морфем, а также виды морфем- «Словообразование» (авторами которых стали В. В. Лопатин и И.С.Улуханов) — «Ударение в словоизменении» и «Альтернации в словоизменении» (автор — В.А.Редькин). Раздел «Словообразование» предваряется характеристикой основных понятий и терминов деривации, многие из которых введены впервые: словообразовательное значение, мотивированность, типы мотивации, словообразовательный тип, словообразовательная регулярность, продуктивность словообразовательного типа, способы словообразования, морфонологические явления. Среди способов деривации авторы впервые выделили чистые: суффиксация (в том числе и нулевая), префиксация, постфиксация, суффиксация в сочетании с постфиксацией, префиксация в сочетании с постфиксацией, префиксация в сочетании с суффиксацией, субстантивация прилагательных и причастий, сложение, сложение в сочетании с суффиксацией, сращение, аббревиация — и смешанные, занимающие незначительное место в системе русского словообразования: префиксально-суффик-сально-постфиксальный, префиксально-сложный, префиксально-суффиксально-сложный, сращение в сочетании с суффиксацией — а также явления, промежуточные между аббревиацией и сложением. Впервые было предпринято подробное описание языкового материала с одновременной его классификацией по частям речи, а в рамках каждой части речи — по способам словообразования — в зависимости от частеречной принадлежности мотивирующего слова. В предисловии к АГ-70 авторы высказали мысль о назревшей необходимости в поиске ответов на многие теоретические, порой дискуссионные, проблемы словообразования, в той или иной степени экспериментальные, — именно они десятилетием позднее своими исследованиями в этом направлении обусловили выход в свет «обновленной», усовершенствованной, «Русской грамматики» 1980 г. (далее — РГ-80) (авторы разделов «Введение в морфемику», «Словообразование» — В. В. Лопатин и И.С.Улуханов) [199].
Внимание дериватологов привлекли проблемы исследования производности, членимости и оформленности основ, множественности мотиваций производных слов, морфонологических процессов, связанных со словообразованием, вопросы определения специфики словообразовательного значения, изучения семантической структуры производного слова.
В разработку вопроса о производности основ огромный вклад внесли Н. А. Крылов, Е. А. Земская, М. В. Панов, Н.А.Янко-Триницкая. Лингвисты обратили внимание на то, что не все слова в русском языке одинаково четко членятся на значимые части. Так, К. А. Левковская предложила отличать основы типа жених, рисунок с единичными элементамиих, -унок от производных основ и впервые обозначила их новыми терминами — членимые единичные (идиоматичные) основы [142]. Более основательное рассмотрение этого вопроса находим в работах Н. А. Крылова, разграничившего основы производные, оформленные и членимые. К производным, по его мнению, следует относить только такие, которые, наряду с семантической производно-стью, характеризуются большей формальной сложностью, чем соотносительные с ними основы производящие. Следуя за Г. О. Винокуром, утверждавшим, что при анализе словообразовательной производности продуктивность словообразовательного аффикса (будь то даже единичные элементы) не имеет существенного значения, Н. А. Крылов, хотя и не называет такие единичные элем^ы аффиксами, все же слова с ними считает производными: «Языковое сознание подсказывает, что какой-то элемент оформленности в пас-тух все-таки есть, производность как-то'выражена» [130. С. 37]. Оформленными Н. А. Крылов считает основы, имеющие два ряда соотношений: а) с тем же корнем, б) с тем же аффиксомчленимыми — основы, делящиеся на значимые материальные.
J • части. Таким образом, в его представлении, понятия производности, оформлен-ности и членимости основ выступают как самостоятельные, не зависящие друг 9 от друга свойства основ.
Существенный вклад в исследование столь важного вопроса внесла Е. А. Земская — с ее точки зрения, понятия членимости, оформленности и производности внутренне связаны и соподчинены: членимыми она признает основы, хотя бы одна часть которых повторяется в других, соотносительных с данной по значениюоформленными — основы, находящиеся в двусторонних соотношениях с другими: включающими либо а) ту же основу, либо б) тот же аффикс. По Е. А. Земской, при синхронном подходе к словообразованию наиболее сложной по характеристике представляется производная основа. Вот «почему для теории словообразования важно разработанное ею описание основных свойств произвольной основы, которая отличается, во-первых, обязательным наличием производящей основы (или основ, если слово сложное) — во-вторых, семантической мотивированностью производящей основой и большей структурной сложностью по сравнению с производящейв-третьих, обязательной делимостью на производящую основу и словообразовательный аффикс. Е. А. Земская заметила также, что производящая основа может входить в производное не целиком, а в усеченном виде [97. С. 3−7]. Исходя из данных критериев, производными, полагает Е. А. Земская, следует считать лишь такие основы, которые образованы с помощью аффиксальных элементов языка. А слова типа пастух, жених, малина, смородина, в отличие от Н. А. Крылова, она относит к непроизводным [Там же. С. 5]. При таком подходе самым широким в синхронном словообразовательном анализе является понятие членимости, включающее в себя понятия производности и оформленности. У слов членимых, но непроизводных и неоформленных одна из частей является «дефектной» — или их основа выступает лишь в связанном виде, или элемент, присоединенный к основе, является не аффиксом, а единичным наращением. Эти единичные элементы слов, выступающие всегда в связанном, несвободном, значении и не повторяющиеся в других словах, Е. А. Земская предложила называть унификсами, а уникальные, связанные, несвободные корни — радиксоидами [100. С. 49, 57].
Дальнейшая разработка вопросов словообразования связана с учением о степенях членимости основ — в данном направлении наиболее значительны труды М. В. Панова, Е. А. Земской, Н.А.Янко-Триницкой, других языковедов [202. Т. 2- 178- 98- 268- 261].
В последние десятилетия XX в. новым предметом изучения словообразовательной науки стал вопрос о единственности — множественности мотиваций производных слов. Впервые в отечественном языкознании на это явление обратил внимание В. В. Виноградов, рассмотревший примеры двойственной членимости слов [37. С. 163]. Проблема множественности структуры слова привлекла внимание Г. О. Винокура как явление, при котором одна и та же производная основа соотносится с разными производящими в различных ее значениях, — он назвал это явление омонимией словообразовательной формы [43. С. 434].
Значительный вклад в изучение данного вопроса внесли В. В. Лопатин и И. С. Улухановименно они предложили термин множественность мотиваций. Подразделив все производные слова наодномотивированные (характеризующиеся единственной мотивацией) и двумотивированные или полимотивированные (имеющие различные мотивации), они в результате определения специфики разнообразных формально-семантических отношений однокоренных слов в гнезде установили такие виды мотиваций, как непосредственная — опосредствованная, исходная — неисходная, единственная — неединственная, регулярная — нерегулярная [236. С. 238- 234- 238- 150- 151]. Принявший деятельное участие в разработке этого вопроса А. Н. Тихонов предложил термин множественность структуры слова, который помогает разграничивать производные одноструктурные (имеющие только одну производящую основу), от характеризующихся множественностью словообразовательной структуры [216. С. 84].
Исследование вопроса неединственности мотиваций позволило языковедам обозначить принципиально значимое положение: понятия, множественности мотиваций и множественности словообразовательной структуры слова различаются объемом содержания, поскольку не всегда множественность мотиваций обусловлена неединственностью интерпретации словообразовательной структуры [100. С. 67−68- 10. Т. 1. С. 28−29].
Существует и противоположная точка зрения. Так, А. И. Моисеев отрицает возможность множественного членения слов, поскольку лексема «лишается своего производящего», если её считать образованной на основе «каких-то об» щих и недостаточно конкретных языковых ассоциаций" [165. С. 90−91]. Со своей стороны, все же полагаем, что языковые факты заставляют признать множественность мотиваций объективно существующим в языке явлением — не случайно эта позиция разделяется многими языковедами, занимающимися вопросами аффиксального словопроизводства.
Определение специфики мотивированности имен существительных обусловило интерес к изучению производящих (базовых) основ. Возникла необходимость разрешения вопроса о том, от какой основы образуются, например, наименования лиц по отношению к местности, стране, городу, учреждению, организации, общественному движению. Одним из первых, кто обратился к изучению данной проблемы на материале названий жителей населенных дунктов, был А. А. Дементьев [76- 78- 79- 80]. Обстоятельный словообразовательный анализ слов типа новгородец, ростовец, брянец позволил ему рассматривать их в качестве производных от той же основы, от которой образованы и относительные прилагательные наск (ий) со значением «относящийся к данной местности» [75. С. 41]. Разделяющие его мнение А. Г. Лыков,.
B.Н.Хохлачева и др. формально и семантически соотносят такие наименования лица с соответствующими относительными прилагательными: новгородец <�— Новгород (ский) + ец, ростовец <�— ростов (ский) + ец, брянец <�— брян (ский) + ец> полагая их образованными от основ имен прилагательных как раз потому, что наблюдается и общность акцентологии: американский —> американец, мексиканский мексиканец, орловский —> орловец, и наличие одинаковых отрезкован-, -оеперед суффиксамиец иск (ий) [157- 252. С. 24−27].
Другие:*А.В.Суперанская, Е. А. Земская, В. П. Даниленко — в качестве производящей для таких наименований лица называют основу имени собственного или аббревиатуру: американец <�— Америка, толстовец Толстой, вузовец <�— ВУЗ [212. С. 146- 70. С. 77−92] - на том основании, что общность акцентологической характеристики и предсуффиксального отрезка в них не является бесспорным доказательством отношений производности между основами [100.
C. 256−259].
Можем предположить, что различие позиций в решении вопроса о производящей основе для слов типа брянец, орловец обусловлено все же диахрониче-" ским подходом к словообразованию одних лингвистов (А.А.Дементьева, А.Г.Лыкова) и синхронным — других (Е.А.Земской, В. П. Даниленко, А.В.Супе-ранской). Высказанное предположение подкрепляется и тем фактом, что в отечественной дериватологии сформировалось новое мнение: так, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов сочли возможным установление двойственной мотивации для ряда названий лица по месту жительства, национальности: ялтинец, стахановец, толстовец, динамовец, вузовец и т. п., в аспекте их деривации, — от основ относительных имен прилагательных (ялтинский, стахановский, толстовский, динамовский, вузовский и т. п.,), а с точки зрения семантической мотивированности, — от основ имен существительных {Ялта, Стаханов, Толстой, «Динамо», ВУЗ и т. п.- [60. С. 80].
Оригинальные наблюдения о соотношении определенного типа производящей основы (собственное или нарицательное имя существительное) и словообразующего форманта предложили В. П. Даниленко, Е. А. Земская, А.В.Супе-ранская, отметившие тенденцию к специализации словообразовательных средств в области обозначения наименований лица [70- 71- 212]. Заслугой Е. А. Земской является выявление наиболее частотных, социально значимых слов, выступающих в роли базовых основ современного словопроизводства, — так называемых «ключевых слов» нашего времени, — к коим она отнесла «слова, обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» , — высокочастотные имена собственные и некоторые нарицательные. Из последних ею, в частности, выделены, во-первых, слова, получившие высокую частотность и словообразовательную активность на короткий период времени (месяц и менее): путч —> путчист, ГКЧП —> гэкачепиство-вторых, лексемы, глубже характеризующие эпоху и потому активные в языке длительное время (год и более): лобби лоббист, рынок —>рыночник [105. С. 92−94].
Ценные морфонологические наблюдения, отнесенные к фактам русского языка, высказывали еще Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Е. Д. Поливанов, другие лингисты. Однако глубокое и детальное исследование морфоно-логических явлений, сопровождающих словопроизводство, было предпринято лишь в XX столетии. Их полное описание представлено в работах Н. С. Трубецкого [232]. Изучение фактов усечения производящей основы, интерфиксации, наложения, различных чередований фонем, происходящих при образовании лексем, определение предмета и понятий морфонологии находит отражение в трудах Е. А. Земской, Н. А. Еськовой, В. Г. Чургановой, Н. А. Янко.
Триницкой, А. А. Дементьева, С. М. Толстой, Д. С. Уорта, А. Н. Тихонова, И. С. Улуханова, других ученых [81- 94- 95- 99- 101- 87- 256- 269- 271- 230- 241- 242- 243- 217- 235].
Одним из наиболее спорных в отечественной лингвистике является вопрос об интерфиксации, суть которой состоит в том, что в результате образования производного слова между двумя морфемами вставляется асемантическая незначимая) прокладка-интерфикс, служащая для взаимоприспособления со> единяющихся морфов. Явление интерфиксации и по сей день не нашло всеобщего признания. По-прежнему не все языковеды одинаково отвечают на вопросы, правомерно ли выделение незначимых (асемантических) элементов в составе слова, какие части слова следует (или логично) считать лишенными значения. Идея выделения в слове незначимых соединительных элементов принадлежит Н. С. Трубецкому [232. С. 75]. Затем этот важный вопрос привлек внимание Г. О. Винокура [43. С. 398]^ В работах Н. С. Трубецкого и Г. О. Винокура понятие соединительных элементов было отнесено к фактам морфологии, в словообразовании оно распространялось только на соединительные гласные в слож9 ных словах. Позже этот термин стал использоваться и в словообразовании (К.Неттеберг, Е. А. Земская, М. Шапиро, В. С. Гимпелевич, А. Н. Тихонов и др.) [276- 277- 94- 217]. Для обозначения незначимых соединительных отрезков предложены различные названия: соединительные морфемы (Н.С.Трубецкой), формативы (Г.О.Винокур), интерфиксы (А.М.Сухотин), przyrostek w funkcji ко nektywnej (К.Неттеберг), concatenator (Шапиро), структема (А.Н.Тихонов), асемантема (В.С.Гимпелевич). Некоторые: А. В. Исаченко, Г. А. Климов — возражают против выделения интерфиксов в отдельную группу и введения нового термина [275, 122]. «.
Во второй половине XX века в отечественной лингвистике большое внимание было уделено также вопросам словообразовательной семантики, соотношения мотивированного и мотивирующего слов, определения специфики словообразовательного значения в сравнении с лексическим и грамматическим значениями, явлений семантических ограничений сочетаемости словообразовательных морфем с мотивирующими основами.
Вопрос о специфике словообразовательного значения стал предметом исследования в трудах Е. С. Кубряковой, Е. А. Земской, З. М. Волоцкой, А. Н. Тихонова, В. В. Лопатина, И. С. Улуханова, Л. Д. Зверева, других языковедов [44- 45- 96- 100- 215- 218- 246- 151- 237- 240]. Е. С. Кубрякова отметила ряд отличительных признаков словообразовательного значения, охарактеризовала организацию семантики производного слова, сформулировала свойство двойной рефе-* ренции его смысловой структуры как, с одной стороны, референции к миру действительности, с другой — к миру слов [136], И. С. Улуханов описал семантику способов русского словообразования на основе выработанных в словообразовании понятий и терминов, относящихся к семантике словообразовательных формантов (мутационные, модификационные, транспозиционные, соединительные словообразовательные значениясемантически инвариантные и неинвариантные форманты)^[239].
Отечественные лингвисты выявили и охарактеризовали также дериваты, лексическое значение которых основывается на семах составных частей так, что семантика каждой из них является составным компонентом производного, но вместе с тем не является простой их суммой. Впервые на способность слова выражать в своем лексическом значении нечто большее, чем-то, что содержится в совокупности значений его составных частей, обратил внимание А.М.Пеш-ковский [181. С. 81]. Эту специфику значения производного слова М. В. Панов назвал фразёологичностью семантики [177. С. 146]. Более детальному, основательному исследованию данного вопроса посвящены работы И.Г.Милослав-ского, Е. С. Кубряковой, О. П. Ермаковой, других языковедов [162- 84- 85- 86].
И.С.Улуханов, В.А.Кудрявцева' особое внимание при этом обратили на источники возникновения скрытых компонентов семантики производного [236. С. 100−101- 137].
Идея о производном слове как результате синтаксических преобразований все активнее разрабатывается современными учеными — З. М. Волоцкой, Е. Л. Гинзбургом, В. А. Кудрявцевой, Л. И. Плотниковой, Р. И. Тихоновой, Т. П. Грицковой и др. 55- 137- 182- 68]. Новое слово рассматривается ими как соотносимое с синонимичным словосочетанием и/или опосредованным предложением и описывается в понятиях актуального синтаксиса. Идея о производном слове как результате синтаксических преобразований в науке не нова. Синтаксическую деривацию начали рассматривать в связи с построением трансформационной модели предложений, которая устанавливает отношения произ-водности одной схемы предложения от другой. К синтаксической деривации обращалась и так называемая логическая грамматика. Так, Ф. И. Буслаев говорил о сокращении придаточного в сложном предложении, возможности замены его одним словом: кто сеял, ожидает жатвы = сеятель ожидает жатвы [Цит. по 182. С. 75]. В работах современных ученых представлены различные подходы к явлению синтаксической деривации. Так, Е. С. Кубрякова по характеру источника деривации выделяет три типа словообразовательных процессов: аналогический (лексический), корреляционный (морфологический) и дёфиниционный (синтаксический), ограничивая создание производного слова на синтаксической основе рамками третьего типа, при котором производное слово возникает путем преобразования исходной дефиниции обозначаемого в его название [136]. Более широко это явление понимают Е. Л. Гинзбург, Л. И. Плотникова, полагающие, что каждое производное слово следует считать своеобразным конденсатом, возникшим в результате синтаксических преобразований [55- 182].
На рубеже XX—XXI вв. многие лингвисты обратились к исследованию инноваций в словообразовании имен существительных. Они отметили такие значительные для словопроизводства процессы, как расширение круга производящих основ за счет иноязычной и просторечной / жаргонной лексики (Ю.Н.Ка-раулов, Л. П. Крысин, В. М. Лейчик, Т. В. Попова, И. Н. Обухова, Г. В. Павленко и др.) [120- 133- 134- 140- 184- 173- 176- 138- 219]- резкое повышение продуктивности тех или иных словообразовательных моделей (Е.А.Земская, В. Г. Костомаров, Р. Н. Попов, Е. В. Говердовская, Р. И. Тихонова и др.) [104- 106- 126- 127- 183- 58- 225- 227- 229].
Применительно к словообразованию имен существительных в русском языке рубежа XX—XXI вв. лингвисты пришли к выводу об активизации некоторых способов деривации: суффиксации (в том числе нулевой суффиксации), префиксации, аббревиации, усечения по аббревиатурному способу, словосложения, лексико-семантического способа [16- 17- 19- 29- 30- 46- 59- 91- 109- 116- 121- 186- 254- 260- 264-]. Анализ специфики данных способов словопроизводства в русском языке представлен в трудах В. В. Виноградова, Е. А. Земской, Д. И. Алексеева, М. В. Панова, В. В. Лопатина, И. С. Улуханова, Н.А.Янко-Триниц-кой, В. Г. Костомарова, Р. И. Тихоновой, других языковедов. При этом нельзя не отметить того факта, что, несмотря на большое число общих работ по проблемам современной дериватологии, огромное количество ценного языкового материала остается еще вне поля зрения исследователей. До сих пор еще нет и специальных монографических исследований, посвященных комплексному.
I ¦ изучению словопроизводства наименований лица в русском языке рубежа XX—XXI вв.
Актуальность темы
диссертации определяется необходимостью восполнить этот пробел, ибо разработка вопроса о способах деривации новых имен существительных-наименований лица в синхронном аспекте актуальна как для изучения теории словообразования — в частности, для описания разновидностей способов словообразования и словообразовательной семантики производных слов, так и для решения практических задач, связанных с изучением вопросов о включении неологизмов в словообразовательные и морфемные словари, о выработке способов и приемов толкования производных слов в словарях разных типов.
Целью предпринятой диссертационной работы является. комплексный лексико-семантический и словообразовательный анализ имен существительных-наименований лица в русском языке рубежа XX-XXI столетий.
Реализация этой цели предусматривает решение следующих частных задач.
1. Выявить наиболее активные для современного русского языка способы и модели словопроизводства наименований лица, проанализировать их структуру и семантику.
2. Определить специфику функционирования неологизмов-названий лица в языке и речи.
3. Охарактеризовать стилевую принадлежность новообразований.
4. Систематизировать языковой материал в структурно-семантическом аспекте.
5. Установить наиболее частотные типы производящих (базовых) основ в словообразовании наименований лица.
6. Исследовать специфику выражения словообразовательного значения в новых производных единицах, особенности их семантической и словообразовательной мотивации, соотношения имплицитных и эксплицитных компонентов значения таких производных.
7. Описать морфонологические особенности, сопутствующие созданию наименований лица в русском языке рубежа XX-XXI столетий, специфику их употребления. 1.
Материалом для наблюдений послужили названия лица, зафиксированные в словарях. русского языка рубежа XX—XXI вв.: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. Спб.": Фолио-Пресс, 1998, Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. Спб.: Фолио-Пресс, 1998 (далее ТСРЯ ЯИ) — Толковый словарь современного русского языка: Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Астрель ACT, 2001 (далееТССРЯ), Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб, 2001, а также лексемы, употребленные в изданиях средств массовой информации, но еще не нашедшие отражения в современной лексикографии, слова, привлекшие внимание отечественных языковедов и отмеченные в работах по словообразованию последних лет. v.
Предметом изучения являются имена существительные — названия лица, возникшие на рубеже XX—XXI вв., кроме них, те лексические единицы, которые, не являясь новообразованиями последнего времени, из узкой сферы применения стали словами широкого функционирования.
Большую часть исследуемого языкового материала составляют узуальные слова (неологизмы), в то время как незначительная часть представлена окказиональными или потенциальными словами. Действительно, исследуемые лексические единицы, отражающие активно действующие словообразовательные тенденции, не всегда отвечают нормам русского литературного" языка, нередко «воспринимаются как нелитературные. Очевидно, что далеко не все рассмотренные инновации будут приняты системой языка, некоторые из них так и останутся на уровне речи. Однако мы не считали возможным обойти вниманием новообразования-названия лица, ярко характеризующие словообразовательные новшества в русском языке рубежа XX—XXI вв., поэтому в ряде случаев в исследовании анализу подвергаются и так называемые „потенциальные“ и „окказиональные“ слова. Г. О. Винокур писал: „В каждом языке, наряду с употребляющимися в повседневной практике словами, существуют, кроме того, своего рода „потенциальные слова“, то есть слова, которых фактически нет, но которые могли бы быть, если бы того захотела историческая случайность. То, что живет в языке подспудной жизнью, чего нет в текущей речи, но дано как намек в системе языка, прорывается наружу, в подобных явлениях языкового новаторства, превращающего потенциальное в актуальное“ [42. С. 15]. Е. А. Земская, Эр. Ханпира уточняют понятие: потенциальные слова — это лексические единицы, которые могут быть образованы по языковым моделям высокой продуктивности или которые уже возникли по таким моделям, но еще не вошли в язык. Окказиональными они считают слова, произведенные по языковым малопродуктивным или непродуктивным, окказиональным (речевым) моделямсозданные на определенный случай для обычного сообщения либо с художественной целью [100. С. 218−238- 249. С. 153−157]. Неологизмы же, по их мнению, в отличие от потенциальных и окказиональных слов, представляют со» бой факты языка, а не речи — они выполняют главным образом номинативную функцию [там же]. Все же непроходимой границы между новообразованиями, словами потенциальными, окказиональными и неологизмами не существует. Некоторые окказиональные и потенциальные слова уже нашли отражение в названных толковых словарях русского языка рубежа XX—XXI вв. Специфику «статуса» окказионализмов подчеркивает и А. Г. Лыков, обративший внимание на то, что, с одной стороны, они представляют собой некодифицируемые элементы общенародного, языка и не входят в собственно литературную лексику, а с другой — являются функционально оправданными в составе литературных «текстов, нормированной литературной речи: «В силу своих особых свойств окказиональные слова в нормативно адаптированном виде входят как в литературный язык, так и в язык художественных произведений» [156. С. 18,20]. По лагаем, что актуальность семантики, широкое использование в языке современной периодики, радио и телевидения потенциальных и окказиональных слов дает возможность изучать и их, наряду с «полноправными», узуальными лексемами.
Расширение круга производящих основ за счет разрядов заимствованной и жаргонной лексики, увеличение продуктивности некоторых словообразовательных моделей, свойственных прежде разговорной речи, в ряде случаев обусловило и наше обращение к новым словарям иноязычных, жаргонных, разговорных слов: Булыко А. Н. Большой словарь иноязычных слов. М.: Мартин, 2004; Мокиенко В. М, Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб: Норинт, 2001; Моченое А. В, Никулин С. С., Ниясое А. Г., Caeeaumoea М. Д. Словарь современного жаргона российских политиков и журналистов. М.: Олма-Пресс, 2003; Никитина Т. Г, Толковый словарь молодежного сленга: Слова, непонятные взрослым. М.: Астрель ACT- 2003; Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб: Норинт, 2004.
Методы исследования. Исследование проведено на материале современного русского языка в синхронном аспекте с учетом существования и взаимодействия словообразовательных единиц в пределах одного временного среза. Поскольку основная задача предпринятого исследования определяется автором как описание основных инноваций в словопроизводстве имен существительных-наименований лица в русском языке рубежа XX-XXI столетий, в качестве основного был принят метод лингвистического описания. Наблюдение над анализируемыми языковыми фактами, обобщение теоретических изысканий, касающихся вопросов современной деривации, сопоставительное рассмотрение наименований лица, созданных при помощи различных способов словопроизводства, помогло выявить специфику их образования и сферу употребления, классифицировать языковой материал с учетом структурно-семантических признаков.
Изучение словообразования ставит перед исследователем широкий круг проблем, обусловливающих комплексное использование научных методов: кроме описательного, автор счел возможным обратиться к методам компонентного анализа, статистическому. При отборе наименований лица из изданий средств массовой информации был использован статистический метод, позволяющий установить частотность употребления в речи данных языковых единиц. Для выявления особенностей соотношения производящей и производной основ, определения имплицитных и эксплицитных композитов значения производных названий лица был применен метод компонентного анализа, предполагающий расчленение целого на составные элементы для изучения их в «отдельности как частей единого целого.
Теоретическая значимость работы определяется важностью изучения новых имен существительных-названий лица для выявления основных тенденций и направлений развития русской словообразовательной системы (в частности имен существительных) рубежа XX—XXI вв.еков.
Практическая ценность исследования заключается в том, что материалы его могут быть использованы при чтении лекционных курсов по современному русскому языку для студентов-филологов — разделы «Словообразование», «Морфемика», при организации специализированных курсов и специали-" зированных семинаров по словообразованию и лексикологии. Материалы диссертации могут стать базой для организации научно-исследовательской работы студентов в качестве тем курсовых и дипломных работ, могут быть использованы на уроках русского языка, на факультативных и кружковых занятиях в образовательных учреждениях любого типа, особенно в профильных классах с углубленным изучением русского языка, лицеях, гимназиях.
Научная новизна работы во многом определяется экстралингвистическими факторами — появлением новых понятий и реалий, служащих базой для создания в русском языке новых наименований лица, фиксацией их в лексико.
I * графических изданиях, современных газетах и журналах. Исследование выполнено на материале новой лексики с привлечением теоретических сведений по словообразованию последних лет. В работе представлена многоаспектная (лек-сико-семантическая, структурная, словообразовательная) классификация неологизмов-названий лица, созданных различными способами деривации. На материале наименований лица предпринята попытка отметить и описать словообразовательные инновации, ярко характеризующие специфику словообразовательной системы русского языка рубежа XX—XXI вв.
Структура работы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, приложений, библиографии, перечня принятых в работе сокращений, списка словарей и периодических изданий, материалы которых были использованы в процессе исследования.
Содержание работы отражено в следующих публикациях:
1. Зайцева Е. А. О мотивированности имен существительных-названий лица с суффиксомец IIО вы, которых ожидает Отечество. Выпуск 2: Сб. науч. работ молодых ученых, аспирантов и студентов. Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. С. 166−172;
2. Зайцева Е. А. Новые тенденции в названиях лица рубежа XX—XXI вв.еков О вы, которых ожидает Отечество. Выпуск 3: Сб. науч. работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов. Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. С. 196−220;
3. Зайцева Е. А. Изучение словообразования имен существительныхнаименований лица в школе: прагматический аспект // О вы, которых ожидает Отечество. Выпуск 4: Сб. науч. работ молодых ученых, аспирантов и студентов. Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. С. 135−148;
4. Зайцева Е. А. Отечественные лингвисты о специфике деривации имен существительных-наименований лица рубежа второй половины XX — начала XXI вв. // Русский язык и славистика в наши дни. М.: Изд-во МГОУ, 2004. С. 260−264;
5. Зайцева Е. А. О специфическом способе деривации имен существительных-наименований лица в современном русском языке // Язык и мышление:' Психологические и лингвистические аспекты: Материалы 4-ой Всероссийской научной конференции (Пенза 12−15 мая 2004 г.). М. — Пенза, 2004. С. 125−126;
6. Зайцева Е. А. Об универбации как способе образования новых наименований лица наик в русском языке // Русский язык и литература рубежа XX—XXI вв.: Специфика функционирования / Материалы Всероссийской научной конференции языковедов и литературоведов, 5−6 мая 2005. Самара: Изд-во СамГПУ. С. 346−349.
I* т.
§ 2. Выводы по теме исследования.
Анализ изученного языкового материала позволяет сформулировать выводы, касающиеся специфики словообразования имен существительных-наименований лица в русском языке рубежа XX—XXI вв.
1. Коренные преобразования и реформы в жизни российского общества рубежа XX—XXI вв. привели к необходимости создания новых лексем, отражающих происходившие в русском языке изменения, обозначающих новые реалии и понятия современной действительности. В русском словообразовании последних лет одной из наиболее ярких, разнообразных и интенсивно пополняемых лексико-семантических групп оказались имена существительные-наименования лица. Их количественный состав увеличивается как за счет сложившихся в русском языке способов словообразования, имеющих давнюю традицию: суффиксации (кремлёвец, перестройщик, контрактник и др.), сложения (наркобарон, нефтежулик, рекламораспространитель и т. п.), сложения с одновременной суффиксацией (белодомовец, желтопрессник, кремлесиделец и пр.), так и за счет относительно новых способов словопроизводства в русском языке, актуализировавшихся в XX столетии: аббревиации (демлидер, инокор-респондент, JIKH, бомж и т. д.), усечения по аббревиатурному типу (азер, дембель, Жиря, профи и др.), у сечения с одновременной суффиксацией (гомик, дирик, погранец и пр.).
В словообразовании названий лица рубежа XX—XXI вв. в качестве базовых (производящих) основ широко используются социально значимые лексические единицы, оказывающиеся в центре внимания общества, — так называемые «ключевые слова» нашего времени. Это могут быть собственные или нарицательные имена существительные, словосочетания, относящиеся к различным сферам жизни: политической (ельцинист, вертикалестроитель, ЛДПРовец, межрегионал, перестроечник, политледи, энбэпэшник), экономической (рыночник, ваучерист, валютчик, теневик), технической (видеобизнесмен, интернетчик, флэшер, SMS-боец), культурной (пиаровец, пирсер, поп-звезда), спортивной (баггист, триальщик), социальной (ЛКН, БОЗ, HP, загрангость, VIP-гостъ), религиозной (аумовец, адвентист), медицинской (вертебролог, ма-нуалист и др.).
2. Рост продуктивности ряда словообразовательных моделей, характеризующих новообразовайия-названия лица, обусловливается целым рядом факторов. Среди них наиболее частотными следует признать словообразовательные модели, связанные с расширением круга производящих основ за счет заимствованных слов и компонентов (айбиэмер, тантрист, нъюландец, старк-рафтовец, эмтивишник, видеоделец, секс-турист, телекиллер, топ-менеджер и под.). Иноязычное слово в структуре производных наименований лица может быть передано средствами как русской, так и латинской графики (Web-издатель, PR-менеджер, SMS-боёц, VIP-звезда) — последний фактор свидетельствует о незавершенности этапа освоения заимствования русским языком, хотя таковой процесс уже имеет место.
3. Значение большинства суффиксальных неологизмов-названий лица основывается на семах составных частей (производящей основы и словообразующего форманта) так, что семантика каждой из них является составным компонентом производного, но вместе с тем не является простой их суммой. Источником возникновения скрытых компонентов семантики производного может служить как производящая основа, обеспечивающая сохранение значения исходной предикативной конструкции, так и аффикс, закрепляющий приращенное значение, но, кроме них, следует учитывать экстралингвистический и прагматический факторы, привносящие индивидуальное значение в семантику производной лексической единицы. Исследованные суффиксальные единицы обладают различной степенью имплицитности. Так, высокой степенью имплицитности характеризуются имена существительные-наименования лица, возникшие при. помощи суффиксальной универбации и нулевой суффиксации. В названиях лица, образованных посредством суффиксальной универбации, часть семантики производного оказывается не выраженной структурно, ибо формально они соотносятся с основой имени прилагательного, а семантически — с целым словосочетанием (теневик <�— [представитель] тенев (ой) [экономики] + икчастник .<�— [владелец] частн (ок) [собственности] + ик). В названиях лица с нулевым суффиксом наблюдается расширение лексического значения произг * водного слова (криминал <�— криминальный) +0 — «человек,. занимающийся криминальной деятельностью»: экстремал <�— экстремальный) +0 — «любитель экстремальных ощущений»).
Низкой степенью имплицитности характеризуются, например, наименования лица типа кондратенковец, хасбулатовец, авангардист, экуменист, поскольку соединение основы имени собственного (фамилии) с формантомец, основы имени существительного-названия идеологического, политического течения, направления с суффиксмист вполне определенно предполагает формирование в производной лексической единице нового значения — «сторонник какого-либо лица, его деятельности" — «последователь какого-либо течения, направления».
4. Словообразовательная производность неологизмов-наименований лица не всегда совпадает с семантической. Так, многие дериваты-наименования лица характеризуются неединственностью словообразовательной структуры и семантических мотиваций: например, слово вазовец может рассматриваться в значении «вазовский работник» как образованное от основы имени прилагательного вазов (ский)+ец (с усечением суффиксаскпроизводящей основы) — но в своем значении оно может быть соотнесено и со словом ВАЗ — «работник ВАЗа», а следовательно, может квалифицироваться как образованное от этой аббревиатуры с помощью словообразовательного формантаовец. Новые имена существительные-наименования лица, возникшие посредством суффиксальной универбации, также характеризуются расхождением формальной и смысловой производности: газовик <�— газов (ая) [промышленность] + иккровник <�— кровн (ая) [месть]+ икмылъник <�— мыльн{ая) [опера] + икналоговик <�— налогов^ ая) [служба] + икпожизненник <�— пожизненно) [заключение] + ик.
Универбатом считаем такое мотивированное слово, наряду с которым имеется синонимичное словосочетание (с мотивирующим словом в его составе), носящее характер устойчивой языковой номинации. Такие словосочетания являются, как правило, официальными названиями соответствующих понятий, в то время как универбаты представляют собой названия неофициальные и часто стилистически сниженные или употребительные только в разговорной речи. При образовании и употреблении универбатов-названий лица наблюдается взаимодействие различных тенденций. Возникнув под действием тенденции речевой экономии, они подчас оказываются в некоторой степени избыточными языковыми единицами, ибо представляют собой ономасиологические варианты «уже имеющихся номинаций. Благодаря частотности и длительности употребления в современном русском языке некоторые универбаты-названия лица утрачивают разговорную стилистическую окрашенность и фиксируются словарями в качестве нейтральных (аграрник, теневик и под.).
5. В зависимости от частеречной принадлежности мотивирующего слова различаются суффиксальные отымённые и отглагольные производные. Отымённые названия лица, семантическая структура которых строится по формуле «тот, кто (невыраженный предикат), + базовая основа, тем или иным образом связанная с предикатом», способны передавать более широкий спектр значе-" ний, чем отглагольные производные: «тот, кто поддерживает/одобряет.» (ель-цинец, кучмист)', «.работает/состоит в.» (ЛДПРовец, айбиэмщик) — «.живет в.» (штатовец) — «.продает.» (баблгамщик) — «.употребляет.» (кокаин-щик) — «.создает.» (стилист) и т. д. Отглагольные названия лица в своей семантике строятся по формуле «тот, кто производит действие, названное производящей основой» и часто содержат не выраженный материально компонент значения, предполагающий наличие в сознании говорящих определенной экстралингвистической информации (возвращенец — «тот, кто добровольно возвращается на родину из эмиграции», невозвращенец — «тот, кто не вернулся на ро-» дину, остался в другой стране (обычно по идеологическим соображениям или.
6. Семантика суффиксальных имен существительных-наименований лица, образованных от именных основ, во многом обусловлена типом производящей основы и словообразовательного форманта. Производные названия лица наец служат для выражения следующих значений: сторонник какого-либо лица, названного производящей основой (березовец, елъцинец)', член коллектива, возглавляемого лицом, указанным базовой основой (касымовец, чичеринец) — член учреждения, организации, название которой лежит в основе производного (риа-ловец, ЛДПРовец)', житель/ работник, связанный с территорией, обозначенной производящей основой (штатовец, нъюландец). Отыменные имена существительные-наименования лица нащик (-чик) в современном русском языке оказываются наиболее активными в обозначении лиц по объекту/ предмету профессиональной деятельности (пиарщик, сникерсщик) — по месту деятельности ((айбиэмщик, террщик) — по взглядам, пристрастиям (<перестройщик, тусовщик). Наименования лица наник (-шник) чаще всего связаны с обозначением принадлежности человека к определенной партии, организации, учреждению {яблочник, оэртэшник) — с названием объекта деятельности {ваучерник, барсеточ-ник) — с местом жительства/ работы {общажник, эстрадник). Производные наименования лица наик, созданные посредством суффиксальной универбации, в большинстве своем характеризуют человека по сфере его деятельности {газовик, налоговик). Семантика новообразований лица с нулевым суффиксом связана с характеристикой личностных качеств, свойств человека {сексапил, экстре-мал) — принадлежности к той или иной группе людей {муниципал, федерал)', связи со сферой/способом деятельности {индивидуал, криминал). Производные наименования лица наист служат для выражения отношения человека к а) группе, организации {альфист, лоббист), б) какому-либо течению, направлению {концептуалист, тантрист), в) объекту/сфере деятельности {мануалист, граффитист), г) виду спорта, увлечениям {баггист, паркуарист), д) какому-либо лицу {елъцинист, руцкист). Дериваты с суффиксомер проявляют активность в обозначении человека чаще по сфере деятельности (пирсер, флешмобер) t • или месту работы (айбиэм&р), реже — по объекту владения (хотелъер).
1. Открытость русского языка конца XX в. для контактов с-другими западноевропейскими языками повлияла на усиление активности способа аббревиации в отечественном словообразовании имен существительных-названий лица — такие производные семантически тождественны мотивирующему слову (словосочетанию) и отличаются от него структурной организацией этой семантики, мерой эксплицитности в выражении отдельных компонентов значения, стилистической самостоятельностью (ТКВТ <�— тот, кто вызывал такси, JIKH <�— лицо кавказской национальности и под.). В русском языке рубежа ХХ-ХХ1вв наблюдается активное употребление криптонимов — псевдонимов в виде инициальных аббревиатур (АБ, ВВП, БАБ, БГи др.), широко функционирующих в современной периодике. Этап современной аббревиации характеризуется рядом особенностей. Аббревиатуры-названия лица в современном русском языке часто порождают шутливые или каламбурные омонимы (ЗК — 1. заключенный, 2. заведующий кафедрой и под.), создаются с установкой на комический эффект (БАБ, ВОР, ЛОМ и пр.), выступают в качестве производящих основ для лексем, относящихся к разным частям речи (бомжиха, бомжеватъ, бомжов-ский — от БОМЖпиарщик, пиаровский, пиаритъ (от nuap-PR) и т. д.). Кроме тоI го, в целом ряде случаев аббревиация выступает как способ эвфемистической замены (ЛКН, ЛЧН и иные). В современных условиях наибольшее распространение получают названия лица-эвфемизмы, затрагивающие острые социальные темы, общественные сферы деятельности человека, его взаимоотношения с другими людьми, обществом, власть.
8. Как факт словообразовательной инновации отмечается создание наименований лица усечением по способу аббревиации, как правило, сниженных в стилистическом отношении (разговорные: гомосек, скин, парк и под.). В современном словообразовании термин усечение употребляется в двух значениях: во-первых, как морфонологическое явлениево-вторых, как способ словообразования. Названия лица типа гуманитар, индивидуал, образованные способом нулевой суффиксации с усечением суффиксан (ый) производящей основы, отличаются от производных типа док, проф, созданных способом усечения по аббревиатурному типу. Образование существительных способом нулевой суффиксации сбпровождается усечением производящей основы на морфемном шве. В результате возникает производное с системой флексий имени существительного и новым значением носителя признака, выраженным нулевым суффиксом (важно отметить, что подобные дериваты обычно создаются при помощи материально выраженного форманта). Лексемы же, созданные способом усечения по типу аббревиации, характеризуются тем же значением, что и их производящие, отличаясь от последних стилистической окрашенностью, а иногда системой флексий. Такие наименования не имеют нулевого словообразующего аффикса и оказываются сокращенными без учета морфемного шва. В ряде случаев граница усечения случайно совпадает с морфемным швом, поэтому представляется возможным выделить следующие группы усечений: аморфем-ное усечение (дир, тин и под.), усечение, совпадающее с морфемным швом (серж, студ и др.), усечение с одновременной суффиксацией (азик, погранец и т. д.). Большую группу усеченных слов в русском языке составляют производные от заимствованных слов (вундер, профи и пр.). О системе словоизменения таких производных лексических единиц следует заметить, что чаще всего они относятся к той же системе склонения, что и производящие слова (Газман <�— Газманов, Ход Ходырев и под.), хотя некоторые обнаруживают тенденцию к оформлению с иной системой флексий. Так, Киря <�— Кириенко, Лука <�— Лукашенко, Берёза <—Березовский и пр. оформляются по типу склонения наа, хотя производящее слово было несклоняемым (или склоняемым по иному типу),.
Горби <�— Горбачев, Курни <�— Курникова, олиго <�— олигофрен и др. оформляются как несклоняемые, хотя производящие слова были склоняемыми.
9. В русской деривации рубежа XX-XXI столетий актуализировались сложные неологизмы-названия лица, большая часть которых характеризуется подчинительным соотношением основ (ваучеродержателъ — «тот, кто получил от государства ваучер» и под.). Реже компоненты сложных наименований лица оказываются связанными сочинительными отношениями (коммунопатриот — коммунист и патриот и др.).
Многие новые номинации-сложные названия лица обнаруживают тенденцию к вхождению в общеупотребительный словарный запас языка и уже фиксируются толковыми словарями как лексемы нейтральные (белодомовец, биоритмолог, видеоман и др.). А за пределами русского литературного языка оказываются окказиональные и жаргонные композиты-названия лица, используемые в изданиях средств массовой информации (жуликобандит, клиповед, нефтежулик и под.).
10. Прагматический аспект изучения сложных имен существительных-наименований лица представляется весьма актуальным в аспекте их функционирования в русском языке. В настоящее время отсутствует единообразие в написании целой группы сложных слов с заимствованными компонентами (биз нес-вумен и бизнесвумен, секс-бомба и сексбомба, шоу-мен и шоумен и др.). Очевидно, что написание подобных слов нуждается в определенной унификации. Предпочтительным представляется слитное написание таких композитов.
11. Некоторые новообразования-названия лица содержат новый словообразовательный комплексмейкер, выделившийся из состава заимствованных слов типа имиджмейкер, ньюсмейкер в значении «создатель, изготовитель». Поскольку данный компонент приобрёл способность сочетаться с русскими основами и в значительной мере сохранил при этом значение того знаменательного слова, на базе которого возник, полагаем, что на данном этапе освоения русским языком структурного комплексамейкер названия лица типа слухмейкер, татумейкер можно отнести к сложным словам с подчинительным соотношением основ.
12. В русской словообразовательной системе рубежа XX—XXI вв. среди способов взаимоприспособления производящей основы и словообразовательного форманта отмечены такие морфонологические явления, как чередование конечного согласного основы по твердости-мягкости (антикучмист, ваучерист), диспалатализация мягкого конечного согласного основы (индивидуал, криминал), интерфиксация (эртээровец, оэртэшник), усечение производящей основы (галерист, тусовщик), наложение морфем {лоббист, кондратенковег0, которые, не обладая самостоятельной словообразующей функцией, тем не менее используются в качестве вспомогательного средства в деривации. Использование их во многом оказывается обусловленным спецификой производящей основы: при образовании названий лица от аббревиатур {капээрэфовец, соченец), несклоняемых существительных {намедниевец), иноязычных слов {пиаровец, риало-вец), имён собственных {кучмовец, яблоковец) и под. Интерфиксация является универсальным средством взаимоприспособления основ в отаббревиатурном образовании наименований лица. Поскольку аббревиатура по своему замыслу не предназначена для передачи всей информации, содержащейся в развернутом наименовании, и каждое звено аббревиатуры оказывается максимально значимым в смысловой структуре производного, при создании неологизмов от аббревиатур всегда используется интерфиксация {ЛДПРовец, фсошник).
13. В процессе словообразования лексем-названий лица для взаимоприспособления производящей основы и словообразующего аффикса кроме интерфиксации {намедниевец, энбэпэшник), может быть использован приём усечения производящей основы {перестройщик, экологист). Особый интерес представляет совмещение этих явлений в пределах одного производного (радийщик, шойговец, коммунопатриот и под.).
14. Словообразовательная система русского языка содержит в себе большой потенциал в. способах образования названий лица — их реализация никакими факторами практически не ограничена. Бурная эпоха перемен рубежа XX-XXI.
I ' столетий привела к активизации различных способов и приемов образования имен существительных в русском языке. В области деривации наименований лица словообразовательные инновации проявляются в резком повышении продуктивности ряда традиционных и в широком использовании специфических способов словопроизводства, в частом употреблении в качестве базовых основ новых заимствованных и разговорных лексических единиц, в реализации стремления к языковой экономии, в яркой установке на выразительность, экспрессивность номинаций, обусловливающей в ряде случаев порождение окказиональных дериватов — все обозначенные направления могут рассматриваться как фактические асI пекты развития темы исследования в будущей научной работе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
§ 1. Имена существительные-названия лица, созданные при помощи специфических способов окказионального словообразования.
Изучая специфику образования и функционирования новых названий лица в русском языке рубежа XX—XXI вв., мы не могли оставить без внимания окказиональные наименования лица, созданные с установкой на комический эффект. Комическое как эстетическая категория отражает такие явления, которые содержат всякого рода несоответствия, противоречия, несообразность и необычность. Специфика комического может находить свое выражение в использовании лингвистических средств, в частности, за счет нарочитого нарушения общепринятых норм русского литературного языка в образованиях-названиях лица. Для выявления конкретных способов создания комического: объема деривационных моделей и факторов, ограничивающих их функционирование, -изучению подвергались именно окказиональные образования наименований лица, поскольку материал неузуального словообразования особенно важен как «показатель действия механизма словотворчества. Язык периодической печати представляет собою богатейшие возможности для анализа окказиональных названий лица, возникших в русском языке на рубеже XX—XXI вв.
Общепризнанной в современной лингвистике принципиальной особенностью индивидуально-авторских неологизмов является актуализация словообразовательной структуры слова, достигаемая путем разрушения ограничений в построении единиц кодифицированного языка [125. С. 13]. Окказиональные слова отличаются тем, что при их образовании нарушаются законы построения соответствующих общеязыковых единиц, нормы языка. С точки зрения того, как именно нарушаются при окказиональном словообразовании законы действия словообразовательного типа, Е. А. Земская различает три вида окказионализмов, созданных а) с нарушением законов системной продуктивности словообразовательных типовб) по образцу типов непродуктивных и малопродуктивных в ту или иную эпоху, то есть с нарушением законов эмпирической продуктивностив) по образцу отдельного слова [100. С. 229−230].
В окказионализмах первого вида нарушаются условия образования производных слов того или иного типа независимо от того, обладает данный тип эмпирической продуктивностью или нет, — - в таких окказиональных новообразованиях в качестве образца выступают продуктивные типы. В окказионализмах второго вида нарушается общая пассивность, бездеятельность типа в ту или иную эпоху, но условия образования производных слов этого типа не затрагиваются. Третий вид окказионализмов составляют образования по конкретному образцу, обычно по образцу слов членимых, но непроизводных, не входящих в словообразовательные типы [там же. С. 229−230].
Различного рода запреты, налагаемые системой языка и регулирующие производство лексических единиц, подробно рассматривает Т. Х. Каде, выделяя такие разновидности ограничений, как семантические, фонетические, лексические, словообразовательные [114].
I •.
Н.А.Янко-Триницкая относит окказиональное словопроизводство к специфической словообразовательной подсистеме на том основании, что оно порождает не только слова лексически необычные, но и, помимо отдельных слов с необычной структурой, располагает целым рядом образцов и способов, используемых исключительно для создания окказионализмов: междусловное наложение, контаминация, самостоятельное использование деривационных аффиксов и аффиксоидов в функции полнозначных слов [272. С. 466].
В предпринятом исследовании при характеристике узуальных неологизмов-наименований лица в ряде случаев мы обращались к рассмотрению окказиональных образований, оставляя при этом без внимания многие яркие лексемы, созданные при помощи специфических способов окказионального словообразования. В нашем материале окказиональные наименования лица подразделяются на три группы по способу их образования. Они разграничены как образования, созданные способами а) контаминации, б) междусловного наложения, в) по образцу.
Новые имена существительные-названия лица, образованные контаминацией и междусловным наложением, имеют общую отличительную черту — в их производстве используется не одна, а несколько лексем. Словообразовательная шутка в таких окказиональных образованиях основана на неожиданном, не всегда оправданном, с точки зрения узуса, соединении двух слов в.одно. По определению Н. АЛнко-Триницкой, контаминация представляет собой проникновение компонентов одной единицы языка в другую (иногда в виде взаимного проникновения) с непременным вытеснением какого-либо компонента данной единицы [Там же. С. 473−474]. Р. Ю. Намитокова полагает, что в новообразовании после выделения корня оставшаяся часть слова может совпадать со словообразовательным суффиксом или быть унификсом [168. С. 136]. Е. А. Земская считает, что контаминация обычно рассматривается как один из видов аббревиации [103. С. 51]. Исходя из этого положения, Н. В. Коновальцева предполагает, что конечный остаточныйсегмент контаминированного слова можно соотнести с усеченным компонентом аббревиатурного образования [125. С. 51]. При контаминации, как и при аббревиации, происходит устранение определенного отрезка одного из производящих слов, тогда как семантика окказионализма включает значение целого словосочетания. Специфической чертой контамини-рованных лексем является усечение не первого, как при аббревиации, а второго компонента. По-видимому, это позволяет признать синкретичный характер второй части контаминированного образования, совмещающий в себе «суффиксальную классифицирующую функцию с функцией сокращенного компонента сложного слова» [Там же. С. 52]. Усеченный отрезок окказионализма, с одной стороны, относит слово к определенному словоизменительному типу, а с другой — имеет лексическое значение целого слова. Контаминация отличается от междусловного наложения механизмом объединения лексических единиц. Если в базовых узуальных словах отсутствуют общие графические или фонетические сегменты, в таком случае, очевидно, имеет место не наложение одной лексемы на другую, а так называемое скрещивание лексем путем вытеснения одной основой начальной части другой производящей основы. Например, вы-боротень* — выбор (ы) + (обор)отенъ — «оборотень, попавший в органы власти при помощи выборов» (слово образовано с элементом наложения серединных частей производящих лексем), дымохозяйка* <�— дым + (дом)охозяйка — «работница табачного киоска», заботодатель * <�— забот (а) + (работ)одатель — «тот, кто приносит хлопоты, заботы», террактарбайтер* <�— терракт + (гаст)ар-байтер — «наёмный эмигрант, занимающийся подготовкой и проведением тер-рактов». Все названные окказионализмы сохраняют ассоциативную связь с двумя мотивирующими словами, что проявляется, во-первых, в их созвучности, во-вторых, в возникающей паронимии вытесняющей и вытесняемой частей соединяемых слов. Так, в словах выборотень, дымохозяйка, заботодатель, террактарбайтер основа первого слова сохраняется полностью, без изменений: выборы, дым, забота, терракт, но сами наименования лица в сознании читателя соотносятся с привычными лексемами оборотень, домохозяйка, работодатель, гастарбайтер. Эти контаминированные образования в речи могут функционировать уже и вне контекста, ибо являются информативно насыщенными.
Одним из специфических способов создания окказионализмов, затрудняющим линейное членение слова и затемняющим его морфологическую структуру, является междусловное наложение, суть которого в том, что на конец основы одного слова накладывается омонимичное начало другого, — в результате возникает сложное слово особого типа. Оно включает в себя и семантику, и материальные основы обоих производящих слов, но в качестве определяемого выступает второе, а в качестве определяющего — первое слово. К окказионализмам, созданным путем междусловного наложения, можно отнести такие названия лица: винопланетянин*, алкоголодранец*, винтурист*, дегене-рал*, интеллектрик*, тимошенник*. Слова, участвующие в образовании наименований лица способом междусловного наложения, могут сохраняться в производной лексической единице полностью, без усечений: винопланетянин <—вино + инопланетянин.
Междусловным наложением могут быть образованы и такие наименования лица, одна из объединяемых лексем которых входит в слово лишь частично. Если созвучными оказываются середина одного слова и начало другого, соединению препятствует конечный отрезок первого — именно он и отсекается. При этом в производном все же сохраняется материальное присутствие обоих производящих основ с общим сегментом: алкоголодранец <�— алкогол (ик) + голодранец, винтурист <�—вин (о) + интурист, дегенерал <�—дегенера (т) + генерал,^тимошенник <�—Тимошен (ко) + мошенник.
Иногда накладываемые отрезки производящих лексем могут быть омофонами (одинаково звучащими, но отличающимися в графической записи): интеллектрик <�— интеллект + электрик.
Комические неологизмы-названия лица, созданные междусловным наложением, лучше воспринимаются зрительно, чем при прослушивании. Языковая игра основана на узнавании двух слов, объединенных в одно. А такое узнавание возможно при прочтении окказионального образования. Комический эффект, обусловленный данным приемом словообразования, находит свое выражение не только в том, что новое слово отличается необычной структурой, но и в значительной степени в том, что оно мотивировано семантикой новой производной лексической единицы. Ироническая окраска слова интеллектрик возникает как результат неожиданного сближения, объединения лексем, одна из которых обозначает название профессии, другая — уровень умственных способностей: интеллект и электрик. В окказионализмах винопланетянин, винтурист первый компонент — вино, словно конкретизируя вторую часть — инопланетянин, интурист, — своей семантикой привносит сатирический оттенок в производную лексему. В словах алкоголодранец, дегенерал наблюдается совмещение двух просторечных лексем-названий лица с книжными (алкоголик — голодранец, дегенерат — генерал). В лексеме тимошенники — «сторонники Ю. Тимошенко» — комический эффект основан на ассоциативной связи со словом мошенники.
Интересно, что, по наблюдениям Н.А.Янко-Триницкой, в русском языке слова, образованные по способу междусловного наложения, как правило, остаются окказиональными, не входят в язык, и сам способ их образования является специфическим для окказионального словопроизводства, тогда как в других языках (английском, французском) такие лексические единицы проникают и в литературный язык, соответственно и междусловное наложение становится способом для образования обычных слов [272. С. 473].
Неологизмы, возникшие по конкретному слову-образцу, по мнению М. У. Калниязова, отличаются необычностью структуры, высокой экспрессивностью и яркостью, а семантическая емкость окказионализмов позволяет автору наиболее экономно выразить ту или иную мысль [115. С. 138]. Отечественные языковеды вопрос о структуре слова-образца рассматривают с разных позиций. В. В. Лопатин, например, полагает, что в качестве модели для создания окказионализма может выступать непроизводная и не членимая на морфемы лексическая единица русского языка. С помощью произвольно выделенного отрезка в конкретном узуальном слове создаются новые шутливые слова, например: бояр-ышня доярышня [147. С. 126−127]. М. У. Калниязов квалифицирует такие индивидуально-авторские неологизмы как лексемы, созданные либо по образцу непроизводных нечленимых, либо непроизводных членимых лексем. Производная основа, по его мнению, не может служить образцом для возникновения окказионального слова [115. С. 135−137]. Е. А. Земская в качестве модели для образования слова по конкретному образцу тоже выделяет слова членимые, но непроизводные, уточняя все же, что «конкретный образец может быть как производным, так и непроизводным, но вычленяющим какие-то сегменты» [103. С. 194]. Собранный в ходе исследования языковой материал окказиональных образований-названий лица дает основание согласиться именно с такой позицией.
Одним из распространенных способов создания комического эффекта следует признать использование иноязычных лексем в качестве модели для производства сложных окказионализмов. Так, Р. И. Тихонова обратила внимание на то, что обработка иноязычных слов в целях комического эффекта — довольно широко используемый литераторами прием, отмеченный в современной периодике сатирического или юмористического характера [224. С. 120]. Для дерива-тологов особенный интерес представляют окказионализмы, в которых компонент заимствованной лексической единицы меняется на созвучную русскую: плешбой* <�—. плешь + бой (ср.: плейбой), бай-френд* <�— бай + френд (ср.: бой-френд), шаурмен* <�— шаурм (а) + мен (ср.: шоумен). По образцу иноязычных слов типа шоумен, бизнесмен образованы окказиональные наименования лица рэкетмен <�— рэкет + мен, алкмен <�— алк (оголь) + мен (при образовании лексемы алкмен имеет место усечение первого компонента — алкоголь).
А.А.Серебряков считает, что объединение в одном сложном слове семантически далеких, логически трудно соотносимых единиц создает экспрессию, которая выполняет те или иные стилистические функции [206. С. 96]. Логически несовместимыми, противоречащими друг другу являются компоненты шуточного окказионального образования плешбой. Сравним: плейбой — «легкомысленный молодой человек, привыкший к праздной жизни и развлечениям» и плешбой — «старый волокита». В лексеме бай-френд сатирический эффект обусловлен конкретизацией смысла, выраженной первой частью слова — бай-', бой-френд — «друг, приятель, сексуальный партнер» и бай-френд. -«богатенький азиатский хахаль». Вторые пары лексем (плешбой, бай-френд), вызывая в памяти ассоциации с первыми, семантически выступают как более насыщенные. Отметим также, что в названии лица плешбой замена иноязычного компонента русским сопровождается изменением его графического облика: в написании слова утрачивается мягкий знак: плешь — плешбой. Ироничная окраска окказиональных наименований лица рэкетмен, алкмен и шаурмен создается за счет совмещения компонента мен (ср.: мен — шутл. о богатом, преуспевающем мужчинебизнесмен — «организатор бизнеса, предприниматель», шоумен — «организатор, ведущий шоу») со словами конкретно-бытовыми или негативными — рэкет, алкоголь, шаурма. С ориентацией на производное интердевочка — «валютная проститутка» созданы окказионализмы интербаба <�— интёр + баба — «немолодая валютная проститутка», интермальчик <�— интер + мальчик — ссмолодой человек, занимающийся валютной проституцией", а по аналогии с русским словом ширпотреб возникло уничижительное наименование лица женского пола ширпотрёп <- шир (око) потрёп (анная) — «немолодая путана». Комический эффект в данном окказиональном производном достигается за счет созвучия и ассоциативной связи с узуальным словом.
Изучение специфики образования окказиональных образований-наименований лица в русском языке рубежа XX—XXI вв. дает возможность сформулировать два вывода.
1. Русская дериватология предоставляет богатые возможности для индивидуально-авторского словотворчества, которые в полной мере проявляются в со" временном русском языке. Эффект комического, основанный на различного рода несоответствиях, противоречиях, несообразности и необычности, зачастую достигается путем использования таких специфических способов окказионального словообразования, как контаминация, междусловное наложение, создание лексических образований по конкретному образцу.
2. Эффект комического в. индивидуально-авторских образованиях-названиях лица усиливается за счёт ряда факторов: во-первых, неожиданной структурной и семантической организации окказионализмовво-вторых, соединения контрастных компонентов значения, разностилевых лексем и морфем в пределах одного словав-третьих, ассоциации окказионального образования с узуальными лексическими единицами, возникающей в результате омонимии и па-ронимии.
Список литературы
- Булыко А.Н. Большой словарь иноязычных слов. — М.: Мартин, 2004. -703 с.
- Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русскогоязыка. М.: ACT Астрель, 2005. — 636 с.
- Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. — СПб.: Норинт, 2001.-960 с.
- Мокиенко В.М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии.—
- СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 704 с.
- Мокиенко В.М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. —1. СПб: Норинт, 2001. 720 с.
- Моченое А. В, Никулин С. С., Ниясов А. Г., Савваитова М. Д. Словарь современного жаргона российских политиков и журналистов. — М.: Олма-Пресс, 2003. 256 с.
- Никитина Т. Г. Толковый словарь молодежного сленга: Слова, непонятныевзрослым. М.: Астрель ACT, 2003. — 736 с.
- Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевон М.: Русский язык, 1985.
- Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. — М.:1. Русский язык, 1985.
- Тихонова Р. И. Словообразование: Краткий учебный терминологическийсловарь. Самара, 2000. — 68 с.
- Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения /
- Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.
- Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Астрель ACT, 2001 — 899 с.
- Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи.1. СПб: Норинт, 2004. 768 с. 1. Исследования и монографии
- Алексеев Д. И. Аббревиатуры как новый тип слов // Развитие словообразования современного русского языка. М.: Наука, 1966.- с. 13−38.
- Алексеев Д.И. К истории аббревиации личных имен // Антропонимика. —
- М.: Наука, 1970. С. 242−248.
- Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке. Саратов, 1979. 328 с
- Алиева Г. Н. Что скрывают аббревиатуры? // Русская речь. — 2003. № 5.1. С. 69−70.
- Аспекты семантических исследований. М.: Наука, 1980. — 355 с.
- Бакина М.А. Имена прилагательные как производящие основы современного словообразования // Развитие словообразования современного русского языка. М.: Наука, 1966. — С. 55−73.
- Бельчиков Ю.А. «Что было выражено словом, то было и в жизни.» //
- Русская речь. 1993. -№ 3. — С. 30−35.
- Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. Изд-е 5-е. — М.1. Л.:Соцэкгиз, 1935.-358 с.
- Булдакова М.Н. Образования с начальным анти- в русском языке (На материале имен существительных): Автореф. дисс. канд. филол. наук. -Казань, 1993.-17 с.
- Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебноепособие для студентов вузов. — М.: Логос, 2001. — 304 с.
- Василевская Е.А. Словосложение в русском языке.-М:Учпедгиз, 1962.-132с.
- Васильченко Л.В. Некоторые особенности функционирования усеченийаббревиатурного типа // Вопросы русского словообразования. Алма-Ата, 1982.-С. 31−36.
- Верещагина В. С. Активные процессы образования имен существительных в русской разговорной речи: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. -Алма-Ата, 1980.
- Виноградов В.В. Современный русский язык. Грамматическое учение ослове. Вып. 2. -М., 1938.
- Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования всвете трудов И.В.Сталина по языкознанию // Русский язык в школе. 1951.-№ 2.-С. 1−10.
- Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // Вопросы теории и истории языка. -М.: Изд-во АН СССР, 1952. — С.99−152.
- Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования //
- Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975. — С. 155−165.
- Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Виноградов В. В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. — М.: Наука, 1977.-С. 140−161.
- Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Изд-е4.е, испр. М.: Русский язык, 2001. — 720 с. 40. Виноградова В. Н. Стилистический аспект русского словообразования: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. — М., 1986.
- Виноградова В.Н. Словообразовательные средства иронии // Русскийязык в школе. 1987. — № 3. — С. 75−80.
- Винокур Г. О. Маяковский новатор языка. — М.: Советский писатель, 1943−134с.
- Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. — 492 с.
- Волоцкая З.М. Установление отношений производности между словами //
- Вопросы языкознания. 1960. — № 3. — С. 100−102.
- Волоцкая З.М. Опыт описания деривативных значений: Автореф. дисс.канд. филол. наук. -М., 1972.
- Воронина Т. Ф. Семантико-стилистические трансформации имен существительных со значением лица: Автореф. дисс. канд. филол. наук. -М, 1995.-21 с.
- Воронцова К.Б. Продуктивность и новые качества сложных имен существительных в русском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Иркутск, 1961.
- Воронцова В.Л. Процессы развития морфонологических элементов, стоящих на грани морфемы и слова // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М.: Наука, 1964. — С. 93−105.
- Вялкина Л. В. Сложные слова в древнерусском языке (На материале письменных памятников 11−14 веков): Автореф. дисс.. канд. филол. наук. -М., 1965.
- Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык. М.: Учпедгиз, 1958. — 411 с.
- Гимпелевич В. С. Суффиксальные существительные со значением лица //
- Развитие словообразования современного русского языка. М.: Наука, 1966.-С. 142−152.
- Гимпелевич В. С. Асемантические элементы в производных словах русского языка. Вопросы семантики: Тезисы докладов / Ин-т востоковедения.-М., 1971.
- Гимпелевич B.C. О членимости заимствованных слов в русском языке//
- Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Чле-нимость слова. М.: Наука, 1975. — С. 192−198.
- Гинзбург E.JI. Словообразование и синтаксис. М.: Наука, 1979 — 263с.
- Герд А. С. Семантика морфемы: значение или значимость? // Структурнаяи прикладная лингвистика. — JL, 1983. Вып. 1.
- Гловинская М.Я. О зависимости морфемной членимости слова от степени его синтагматической фразеологизации // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. — М.: Наука, 1975.-С. 26−45.
- Грамматика русского языка. Т. 1. М., 1953. — 720 с.
- Греч Н. Пространная русская грамматика. Т. 1. Изд-е 2-е, испр. СПб., 1830.-424с.
- Греч Н. Краткая русская грамматика. СПб., 1853. — 146 с.
- Григорьев В.П. О взаимодействии словосложения и аффиксации // Вопросы языкознания. 1961. — № 5. — С. 71−77.
- Грицкова Т.П. Производное слово в лингво-прагматическом аспекте (Наматериале публицистики М.Е.Салтыкова-Щедрина): Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Самара, 2003.
- Даниленко В.П. Имена собственные как производящие основы современного словообразования // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М.: Наука, 1964. — С. 77−92.
- Дементьев А. А. Агентивные суффиксы -щик, -чик в русском языке // Учен.зап. / Куйбыш. пед. ин-т.—Куйбышев, 1938. Вып. 2. С. 154−174.
- Дементьев А. А. Суффикс -ик и его производные в современном русскомязыке // Учен. зап. / Куйбыш. пед. ин-т. Куйбышев, 1942. Вып. 5. -С. 41−56.
- Дементьев А.А. Наименование лиц по местности с суффиксом -ец II Русский язык в школе. 1946. — № 2. — С. 35−41.
- Дементьев А.А. О продуктивности суффиксов имен существительных // НДВШ: Филологические науки. 1959. — № 3. — С. 37−45.
- Ермакова О.П. Семантическое усечение // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975.-С. 206−210.
- Ермакова О.П. Проблемы лексической семантики производных и членимых слов. М., 1977.
- Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке. — М.: Русский язык, 1984. — 151 с.
- Еськова Н.А. О структурных ограничениях в словообразовании существительных // Вопросы культуры речи. Вып. 5. — М.: Наука, 1964. -С. 137−143.
- Зверев А.Д. О связанных и вариантных (усеченных) основах // Развитиесовременного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. — С. 211−216.
- Зверев А. Д. Выражение направления производности в русском языке //
- Актуальные проблемы русского словообразования. Самарканд, 1972.
- Зеленин А. В. Дезаббревиация в русском языке // Вопросы языкознания. -- 2005.-№ 1.-С. 78−97.
- Земская Е.А. Как делаются слова. М., 1963. — 93 с.
- Земская Е.А. Интерфиксация в современном русском словообразовании //
- Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М.: Наука, 1964. С. 36−62.
- Земская Е.А. Об одной особенности соединения словообразовательных морфем в русском языке // Вопросы языкознания. 1964. — № 2. — С. 84−88.
- Земская Е.А. Заметки по русскому словообразованию // Вопросы языкознания.-1965.-№ 3.-С. 102−110.
- Земская Е.А. Понятия производности, оформленности и членимостиоснов // Развитие словообразования современного русского языка.
- М.: Наука, 1966.-С. 3−12. 98. Земская Е. А. Продуктивность и членимость // Развитие современного ^ русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. — М.:
- Наука, 1975.-С. 216−219. 99. Земская Е. А. К проблеме множественности морфонологических интерпретаций (спорные случаи членения производных основ в современном русском языке) // Развитие современного русского языка. — М.:• Наука, 1972.-С. 69−88.
- Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. — М.: Просвещение, 1973. 304 с.
- Земская Е.А. Язык как зеркало современности (словообразовательныезаметки) // Филологический сборник. М.: Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 1995.-С. 154−163.
- Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства //
- Русский язык конца XX столетия (1985−1995). М.: Языки русской культуры, 1996. — С. 90−141.
- Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. — М.: Языки славянской культуры, 2004. 688 с.
- Зенков Г. С. О словообразовательных типах с суффиксами -щик, -ник и их взаимодействии в современном русском языке // Развитие современного русского языка. АН СССР. М., 1963. — С. 136−145.
- Ильина И. И. Универбаты-названия одежды в русском языке // Функционально-семантический и стилистический аспекты изучения лексики: Межвуз. сб. науч. трудов. Куйбышев, 1989. — С. 80−85.
- Ильясова С. В. Словообразовательная игра как феномен современных
- СМИ. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов, ун-та, 2002. — 360 с.
- Исаченко А.В. Роль усечения в русском словообразовании // International
- Journal of Slavic Linguistic and Poetics. 1972. — T. 15.
- Ицкович В.А. Новые тенденции в образовании аббревиатур (о путяхвключения аббревиатур в систему языка) // Терминология и норма. О языке терминологических стандартов. М.: Наука, 1972. — С. 88−101.
- Каде Т.Х. Словообразовательный потенциал суффиксальных типов русских существительных. — Майкоп, 1993.
- Калниязов М. У. Окказиональные слова, созданные по конкретному слову-образцу // Вопросы стилистики. Саратов, 1976. — С.134−138.
- Камелова С.И. Многозначные имена деятеля в современном русскомязыке // Русский язык в школе. — 1997. № 2. — С. 72−76.
- Караулов Ю.Н. Между семантикой и гносеологией. М., 1985. -45 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. — 261 с.
- Караулов Ю.Н. О состоянии современного русского языка// Русскаяречь. 2001. — № 3. — С. 25−30.
- Катлинская Л. П. И все-таки пятигорцы, а не пятигорчане! // Русскаяречь. 1992. -№ 5. — С. 46−53.
- Климов Г. А. Фонема и морфема. М.: Наука, 1967. — 128 с.
- Клушина Н.Н. О модном способе окказионального словообразования//
- Русская речь. 2000. — № 2. — С. 47−50.
- Клушина Н.Н. Имя собственное на газетной полосе // Русская речь. —2002.-№ 1.-С. 53−56.
- Коновальцева Н.В. Окказиональное словообразование в языке и речи:
- Очерки по русской окказиональной деривации. Самара: Изд-во СамГПУ, 2003.- 166 с.
- Костомаров В. Г. Слово беспредел и активизация иных бессуффиксныхсуществительных // Филологический сборник. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова, 1995. — С. 254−261.
- Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевойпрактикой масс-медиа. — СПб: Златоуст, 1999. — 320 с.
- Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. Казань, 1883.
- Крылов Н.А. Бессуффиксные существительные лица, соотносительные снепроизводными и отыменными глаголами // Статьи и исследования по русскому языку: Ученые записки. Т. 158. М., 1960. — С. 3−40.
- Крылов Н.А. Типы основ в современном русском языке // НДВШ: Филологические науки. — 1963. — № 2. — С. 31−43.
- Крысин Л.П. Ступени морфемной членимости иноязычных слов // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. — С. 227−231.
- Крысин Л.П., Ю Хак Су. О словообразовательных возможностях иноязычных неологизмов // Филологические науки. 1998. -№ 3. — С. 15−21.
- Крысин Л. П. О лексике русского языка наших дней // Русский язык вшколе и дома. — 2002. № 1. — С. 3−7.
- Крысин JI.П. Русское слово, своё и чужое: Исследование по современному русскому языку и социолингвистике. -М.: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.
- Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производногослова. М.: Наука, 1981. — 199 с.
- Кудрявцева В. А. Соотношение явных и скрытых значений в семантикепроизводного слова (На материале наименований лиц в русском языке). Алма-Ата: Гылым, 1991. — 152 с.
- Кученева Е.Ю. О заимствованиях в русском языке рубежа XX—XXI вв.. //
- Русский язык в России на рубеже XX—XXI вв.: Материалы международной научной конференции (5−6 мая 2003 г.). Самара: Изд-во СамГПУ, 2003.-С. 63−65.
- Лазарева Ю.А. Семантические типы усечений в современной речи //
- Русский язык в России на рубеже XX—XXI вв.: Материалы международной научной конференции (5−6 мая 2003 г.). Самара: Изд-во СамГПУ, 2003.-С. 184−186.
- Лейчик В. М. Пиар и другие аббревиатуры // Русская речь. 2002. — № 5.-С. 40−44.
- Левковская К.А. Словообразование. Материалы к курсам языкознания /
- Под ред. В. А. Звегинцева. М., 1954.
- Левковская К. А. О проблеме производности основ // Вопросы составления описательных грамматик. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1961.-35 с.
- Литвиненко В. А. Структура и функционирование усеченных слов в современном русском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. — Киев, 1988.
- Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1755. — 212 с.
- Лопатин В.В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования // Вопросы языкознания. 1966. — № 1. — С. 76−87.
- Лопатин В.В., Улуханов И. С. О принципах словообразовательногоанализа и классификации морфов // Русский язык в национальной школе. 1969. — № 5.
- Лопатин В.В. Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования.-М., 1973.
- Лопатин В.В., Улуханов И. С. Несколько спорных вопросов русскойсловообразовательной морфонологии // Вопросы языкознания. 1974. — № 3. — С. 57−69.
- Лопатин В.В. Так называемая интерфиксация и проблемы структуры слова в русском языке // Вопросы языкознания. 1975. — № 4. — С. 24−37.
- Лопатин В.В. Множественность мотивации и ее отражение в отглагольном и именном словообразовании // Русский язык в школе. — 1976. -№ 2. С. 77−84.
- Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы ипринципы описания. М.: Наука, 1977. -315 с.
- Лопатин В. В. Суффиксальная универбация и смежные явления в сфереобразования новых слов // Новые слова и словари новых слов. — Л., 1978.
- Лось И. И. Сложные слова в польском языке. — СПб, 1901.
- Лыков А.Г. О некоторых особенностях словообразования имен существительных со значением лица в современном русском языке // Учен, зап. / Краснодар. ГПИ. Вып. 22. Краснодар, 1955. — С. 29−34.
- Лыков А.Г. Можно ли окказиональное слово назвать неологизмом // Русский язык в школе. 1972. — № 2. — С. 85−89.
- Лыков А.Г. Окказиональное слово и языковая норма// Русский язык вшколе. 1972. — № 6. — С. 17−20.
- Лыков А. Г. Современная русская лексикология (Русское окказиональноеслово). М.: Высшая школа, 1976. — 120 с.
- Лыков А.Г., Зиньковская В. Е. О некоторых трудных случаях словообразовательной характеристики производных слов // Русский язык в школе. 1984. — № 4. — С. 86−92.
- Мамрак А.В. Вопросы теории словообразования в современной русистике. Киев: УМК ВО, 1992. — 72 с.
- Мартине А. Основы общей лингвистики / Пер. с фр. // Новое в лингвистике: Вып. 3. -М., 1963.
- Мельникова А. И. Старые и новые модели сложных существительныхбез соединительных гласных в современном русском языке // Учен, зап. / МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 158. -М., 1960. С. 139−174.
- Милославский И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза. М.:1. Изд-во Моск. ун-та, 1980.
- Могилевский Р. И. Является ли аббревиация словообразованием? // Актуальные проблемы русского словообразования. — Т. 1. Самарканд, 1972.
- Моисеев А.И. Два типа членения слов на морфологические части //Вопросы преподавания современного русского языка в вузе. Материалы Горь-ковской межвузовской лингвистической конференции. Горький, 1960.
- Моисеев А. И. Выступление на обсуждении книги А.Н.Тихонова // Актуальные проблемы русского словообразования: 2. — Самарканд, 1972.
- Мустафинова Э.Р. Аббревиация в русском языке: Когнитивный аспект: Автореф. дисс. канд. филол. наук. — Барнаул, 2001. — 20 с.
- Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. Ростов-на-Дону, 1986.
- Немировский М.Я. Сложные слова в русском языке // Русский язык вшколе.-1946.-№ 3−4.-С. 11−17.
- Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М.:
- Высшая школа, 1984. 255 с.
- Нефедова JI.A. Креативные гибридные образования в художественномтексте // Филологические науки. 2002, № 5. С. 120−123.
- Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982. — 272 с.
- Обухова И.Н. Функционирование и словообразовательная активностьанглицизмов в современном русском языке (На материале современной прессы): Автореф. дисс. канд. филсш. наук.-Днепропегровск, 1990.-20 с.
- Осипова Л. И. Активные процессы в современном русском словообразовании (суффиксальная универбация, усечение): Автореф. дисс. канд. филол. наук. М., 1999. — 24 с.
- Павленко Г. В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (На материале англицизмов к XX в.): Автореф. дисс. канд. дисс. Таганрог, 1999. — 21с.
- Панов М. В. О слове как единице языка // Учен. зап. / МГПИ им. В. П. Потемкина.-М., 1956. Т. 51. Вып. 6.
- Панов М.В. О степенях членимости//Развитие современного русскогоязыка. 1972. Словообразование. Членимость слова. — М.: Наука, 1975. С. 234−239.
- Петровичева Г. И. Образование наименований жителей по местности
- К вопросу о производящей основе) // Вопросы русского современного словообразования, синтаксиса и стилистики. Вып. 4. Науч. труды. Т. 163.-Куйбышев, 1975.
- Пешковский A.M. В чем же, наконец, сущность формальной грамматики? // Пешковский A.M. Избранные труды. М., 1959.- С. 74−99.
- Плотникова Л.И. Новое слово: порождение, функционирование, узуализация. Монография. Белгород: Изд-во БелГУ, 2000. — 208 с.
- Попов Р. Н. Новые слова и словосочетания в языке современной прессы
- Русский язык в школе. 1996. — № 1. — С. 70−73.
- Попова Т. В. Толерантность русского словообразования (На материаленовообразований конца XX века) // Философские и лингвокультуро-логические проблемы толерантности. Екатеринбург, 2003. — С. 134 154.
- По тиха З. А. Современный русский язык. Словообразование: Пособиедля учителя. — М.: Просвещение, 1970. 384 с.
- Почтарева О.В. Производные с начальным анти- в современном русском языке // Актуальные вопросы лингвистики. Томск: Изд-во ТГУ, 2003.-С. 86−89.
- Правила русской орфографии и пунктуации. М.: Учпедгиз, 1956. — 176с.
- Привалова М.И. Сложные слова и их функции в художественных произведениях М.Е.Салтыкова-Щедрина: Автореф. дисс. канд. филол. наук. JL, 1953.
- Протченко И. Ф. Образование и употребление имен существительныхженского рода названий лиц в современном русском языке // Статьи и исследования по русскому языку. Ученые записки. Т. 158. — М., 1960.
- Протченко И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советскойэпохи. Социолингвистический аспект. — М.: Наука, 1975. -323 с.
- Протченко И. Ф. Русский язык: проблемы изучения и развития. — М.: Педагогика, 1984.222 с.
- Развитие грамматики и лексики современного русского языка.-М.:Наука, 1964.
- Развитие лексики и словообразования современного русского языка: Сб.науч. трудов. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. — С. 14−26.
- Развитие словообразования современного русского языка. — М.: Наука, 1966.211с.
- Развитие современного русского языка. -М.: Наука, 1963.
- Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. — 264 с. 198. Реформатский А. А. Введение в языкознание.-М.: Просвещение, 1967.-544с.
- Русская грамматика. Т. 1. М.: Наука, 1980. — 783 с.
- Русская разговорная речь. М.: Наука, 1973. — 485 с.
- Русский язык в России на рубеже XX—XXI вв.: Материалы международной научной конференции (5−6 мая 2003 г.).—Самара: Изд-во СамГПУ, 2003.—316 с.
- Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова. В 4-х т. М., 1968.
- Русский язык концаXX отлегая (1985−1995).-М.:Языки русской культуры, 1996.-477 с.
- Сеничкина Е.П., Тихонова Р. И. Сложносокращенные слова в функцииэвфемизмов // Функциональное и эмоциональное в языке и речи: средства и способы выражения: Межвуз. сб. науч. трудов. — М., 2004.
- Сенько Е. В. Инновации в современном русском языке. Владикавказ:1. Ир, 1995.-185 с.
- Серебряков А. А. О некоторых сложных окказиональных образованиях иих стилистических функциях // Актуальные вопросы лексики, словообразования, синтаксиса и стилистики современного русского языка: Научные труды. Т. 120. — Куйбышев, 1973. С.94−100.
- Скляревская Г. Н. Введение // Толковый словарь русского языка конца
- XX века. Языковые изменения. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — С. 7−32.
- Скорнякова М. Ф. Морфологический и словообразовательный анализ.
- М.: Просвещение, 1981. 88 с.
- Стилистика русского языка / Под ред. Н. М. Шанского. JL: Просвещение, 1989.
- Стилистические исследования. На материале современного русского языка. М.: Наука, 1972. — 318 с.
- Стоюнин В. Высший курс русской грамматики. Изд.5-е.-СПб., 1908.-178с.
- Суперанская А.В. Структура имени собственного. — М.: Наука, 1969.-207с.
- Сухотин A.M. Проблема «сокращенных» слов в языках СССР // Письменность и революция. — M.-JL, 1933.
- Теоретические проблемы советского языкознания. М.: Наука, 1968. — 368 с.
- Тихонов А.Н. О семантической соотносительности производящих и производных основ // Вопросы языкознания. 1967. — № 1. — С. 112−120.
- Тихонов А.Н. Множественность словообразовательной структуры словав русском языке // Русский язык в школе. 1970. — № 4. — С. 83−88.
- Тихонов А.Н. Морфема как значимая часть слова // Филологические науки.- 1971.-№ 6.-С. 39−52.
- Тихонов А.Н. Словообразовательные омонимы в русском языке // Русский язык в школе. — 1971. — № 1.
- Тихонова А.И. О функционировании иноязычных аббревиатур в лексикесовременного русского языка // Современная и историческая русистика на пороге XXI в. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2001. — С. 120−123.
- Тихонова Р.И. Словообразовательный и структурный анализ имен существительных-названий животных в современном русском языке: Дисс.. канд. филол. наук. Куйбышев, 1968. — 320с.
- Тихонова Р.И. Словообразовательные средства комического//Русскаялексика и стилистика в прошлом и настоящем: Науч. труды. Т. 210. -Куйбышев, 1977.
- Тихонова Р.И. Нарушение ограничений в словообразовании как один изспецифических приемов создания комического через слово // Лексическая семантика и словообразование в русском языке: Межвуз. сб. науч. трудов. Т. 237. Куйбышев, 1980.
- Тихонова Р.И., Дементьев А. А. Обработка иноязычных слов как одно из средств создания комического эффекта // Семантические и словообразовательные отношения в лексике русского языка. Т. 253. -Куйбышев, 1981.
- Тихонова Р.И. К вопросу о вариантности словообразовательных морфемв русском языке // Ориенталика. К LXX-летию Т. М. Гарипова. Уфа, 1998.-С. 123−130.ь
- Тихонова Р. И. Словотворчество один из путей развития русского языка конца XX века // Развитие лексики и словообразования современного русского языка: Сб. науч. трудов. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999.-С. 14−26.
- Тихонова Р. И. Новые сложные слова в русском языке рубежа XX—XXI вв.еков в языке и речи // Исследования по теории и истории языка. -Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. С. 101−109.
- Толстая С.М. О некоторых трудностях морфонологического описания //
- Вопросы языкознания. — 1971. -№ 1. С. 37−43.
- Троицкий В.Н. Основные принципы словообразования // Учен. зап. / Ленинград. гос. пед. ун-т иностр. языков. Т. 1. Л., 1940.
- Трубецкой Н. С. Морфонологическая система русского языка // Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. — 559 с.
- Ту зова М. Ф. Множественность мотиваций в кругу имен существительных, образованных на базе словосочетаний субстантивного типа // Проблемы лексикологии и словообразования русского языка: Сб. науч. трудов.-М., 1982.-С. 71−74.
- Улуханов И. С. Словообразовательная мотивация и ее виды // Известия
- Улуханов И. С. О видах усечения основ мотивирующих слов в русскомсловообразовании // Развитие русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. — С. 95−113.
- Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке ипринципы ее описания. — М.: Наука, 1977. 256 с.
- Улуханов И. С. Словообразовательные отношения между частями речи //
- Вопросы языкознания. 1979. — № 4. — С. 101−110.
- Улуханов И. С. О степенях словообразовательной мотивированностислов // Вопросы языкознания. 1992. — № 5. — С. 74−89.
- Улуханов И. С. Семантика способов русского словообразования//Филологический сборник. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова, 1995. -С. 382−392.
- Улуханов И. С. Единицы словообразовательной системы русского языкаи их лексическая реализация. М., 1996. 221 с.
- У орт Д. Морфонология нулевой аффиксации в русском словообразовании // Вопросы языкознания. 1972. — № 6. — С. 76−84.
- У орт Д. Морфонология славянского словообразования // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Mouton: The Hague, 1973.
- Уорт Д. О роли абстрактных единиц в русской морфонологии // Развитиесовременного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. — С. 53−63.
- Устименко И. А. Семантический конденсат с точки зрения его стилистической принадлежности // Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий. Воронеж, 2001. — С. 180−186.
- Усыпенко Н.А. Английские заимствования как фактор современной языковой ситуации // Русский язык в России на рубеже XX—XXI вв.: Материалы международной научной конференции (5−6 мая 2003 г.). -Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. С. 66−67.
- Федорова В. А. К вопросу о выражении разговорной стилистической окраски словообразовательными средствами // Актуальные вопросы грамматики и лексики: Сб. трудов / МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1976.
- Функциональное и эмоциональное в языке и речи: средства и способы выражения: Межвуз. сб. науч. трудов. М., 2004.
- Функционально-семантический и стилистический аспекты изучения лексики: Межвуз. сб. науч. трудов. — Куйбышев, 1989. 187 с.
- Ханпира Эр. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании // Развитие словообразования современного русского языка. — М.: Наука, 1966.-С.153−166.
- Ханпира Эр. Окказиональные элементы в современной речи // Стилистические исследования. М.: Наука, 1972. — С. 245−317.
- Хасенова М.А. Семиотическая и лингвистическая природа аббревиации:
- Автореф. дисс. канд. филол. наук. — М., 1986.
- Хохлачева В.Н. Словообразование существительных в русском языке:
- Автореф. дисс. канд. филол. наук. М., 1976.
- Цалко Т. В. Неологизмы-наименования лиц в русской лексикографии исовременном узусе: Эволюция семантической характеристики: Автореф. дисс. канд. филол. наук. — Ростов-на-Дону, 2001. 25 с.
- Царев А. А. К возникновению сложных слов: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Казань, 1966.
- Чурганова В. Г. О предмете и понятиях фономорфологии. Известия АН
- Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии.- М.: Учпедгиз, 1959. -256 с.
- Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию: Автореф. дисс.докт. филол. наук. М., 1966.
- Шанский Н.М. Развитие словообразовательной системы русского языкав советскую эпоху // Мысли о современном русском языке. — М.: Просвещение, 1969.
- Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. М.: МАЛП, 1998. — 243 с.
- Ширшов И.А. Типы производности основ в русском языке // Филологические науки. 1997. — № 5. — С. 55−65.
- Шмелев Д.Н. О семантических изменениях в современном русском языке // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. -М.: Наука, 1964.
- Шмелева Е.Я. Семантическая соотносительность имен деятеля в словообразовательном гнезде // Актуальные проблемы русского словообразования: Сборник научных статей. Ташкент, 1982.
- Шмелева Е.Я. Некоторые семантические особенности существительныхсо значением действующего лица // Русский язык в школе. — 1983. -№ 3.-С. 85−88.
- Юдина А.Д. Окказионализмы на страницах периодики // Русская речь.1999.-№ 5.-С. 56−59.
- Янко-Триницкая Н. А. Процессы включения в лексике и словообразовании // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. -М.: Наука, 1964.
- Янко-Триницкая Н. А. Наименования лиц женского пола существительными женского и мужского рода // Развитие словообразования современного русского языка. М.: Наука, 1966. — С. 167−210.
- Янко-Триницкая Н. А. Членимость основы русского слова//Известия АН
- Янко-Триницкая Н. А. Наложение морфем в основе русского слова//
- Янко-Триницкая Н. А. Междусловное наложение//Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. — М.: Наука, 1975.
- Янко-Триницкая Н. А. Межморфемные чередования в современномрусском языке // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М.: Наука, 1975. -С. 89−105.
- Янко-Триницкая Н. А. Словообразование в современном русском языке.- М.: Индрик, 2001. 504 с.
- Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования.1. Томск, 1979. 242 с.
- Яцимирский Б.М. Развитие способов словосложения в русском языкесоветской эпохи // Учен. зап. / Иванов, гос. пед. ин-т. Т. 6. — Иваново, 1954.-С. 21−39.
- Isachenko A. Morpheme Classes. Deep Structure and Russian Indeclinational
- International Journal of Slavic Linguistic and Poetic. T. 12. Mouton: The Hague, 1969.
- Netteberg К. О funkcji konektywnej przyrostkow// Scando-Slavica. 1961.-T. 7.
- Shapiro M. Concatenator and Russian Derivational Morfology // General Linguistics. 1967. — T. 7. — № 1.
- Аргументы и факты" «Будни» «Версия» «Жизнь»
- Комсомольская правда" «Криминал»
- Московские новости" «Московский комсомолец в Самаре» «Моя веселая семейка» «Новая газета в Самаре» «Пульс Поволжья» «Собеседник» «Совершенно секретно» «Советская Россия»
- Стилистическая и функциональная характеристика слова
- Арм. армейское Жарг. — жаргонное Женек. — женское Ирон. — ироничное Иск. — искусство Коммерц. — коммерция Комп. — компьютер Мед. — медицинское Мол. — молодежное Муз. — музыкальное Нарк. — наркомания Неодобр. — неодобрительное1. Окказ. — окказиональное
- Пренебр. пренебрежительное1. Публ. публичное •1. Разг. разговорное1. Рел. религиозное1. Сокр. сокращенное1. Токе. — Токсикомания1. Торг. торговое1. Ум.-ласк. — уменьшительноласкательное Шутл. шутливое