Карательная политика Советского государства и особенности судопроизводства по государственным преступлениям в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): историко-правовое исследование
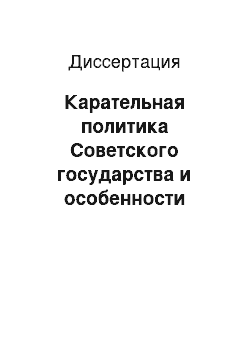
В 1957 г. архивное уголовное дело по обвинению Павлова Д. Г, Климовских В. Е., Григорьева А. Т и Коробкова А. А. было пересмотрено. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 31 июля 1957 г. приговор Военной коллегии Верховного суда СССР От 22 июля 1941 г. в отношении указанных лиц отменен по вновь открывшимся обстоятельствам и дело прекращено за отсутствием в их действиях состава… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Содержание карательной политики и организационно-правовые основы осуществления уголовно-политического судопроизводства в годы войны
- 1. 1. Репрессивная политика в СССР после 22 июня 1941 г. и влияние военного фактора на развитие уголовной ответственности за совершение преступлений против государства
- 1. 2. Военные трибуналы как ведущее звено судебной системы в условиях военного времени по рассмотрению уголовно-политических дел и характеристика уголовно-процессуального законодательства
- ГЛАВА 2. Органы государственной безопасности и внутренних дел в механизме судопроизводственной деятельности по делам о преступлениях против государства в военное время
- 2. 1. Структурные преобразования НКГБ-НКВД и регулирование их уголовно-процессуальных полномочий в сфере защиты государственных интересов от преступных посягательств
- 2. 2. Исполнение приговоров военных трибуналов и решений внесудебных коллегий (особых совещаний) в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступных деяний против советской власти
- ГЛАВА 3. Реализации процессуального законодательства по отдельным уголовно-политическим делам, рассмотренных судами в период Великой Отечественной войны
- 3. 1. Уголовно-процессуальные действия по делам о преступлениях против государства (на примерах правоприменительной практики в 1941—1945 гг.)
- 3. 2. Процесс по делу Павлова и других генералов из числа высшего командного состава Западного фронта (1941 г.)
- 3. 3. Процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории г. Краснодара и Краснодарского края (1943 г.)
Карательная политика Советского государства и особенности судопроизводства по государственным преступлениям в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): историко-правовое исследование (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
диссертационного исследования. Великая Отечественная война — один из наиболее героических, и, вместе с тем, трагических периодов в истории России. Это событие стало тяжелым испытанием для государства, многонационального советского общества, каждого человека. Для борьбы с фашизмом потребовалась максимальная мобилизация всех сил и средств страны. Слагаемыми победы стал общенародный отпор агрессору — героизм воинов Вооруженных Сил, массовое партизанское движение, трудовой подвиг тружеников тыла. Однако суровое военное время рождало не только образцы мужества, самоотверженности, честного выполнения гражданского долга, но и наглядно выявляла все негативные стороны общественной жизни. В трудных условиях военного времени, в частности, отчетливо проявили себя преступные элементы, в том числе пособники фашистов, изменники Родины, дезертиры, диверсанты, то есть лица, посягнувшие на государство как уголовно охраняемый объект. Пресечение их преступной деятельности и обеспечение правосудия во время следствия и судебного рассмотрения дел по «контрреволюционным» преступлениям достигалось напряженной работой органов государственной безопасности, органов внутренних дел, органов юстиции, судов, прокуратуры.
Опыт деятельности указанных и иных государственных структур по борьбе с государственными преступлениями в экстремальных условиях, а именно таковыми были военные условия, и прежде всего в прифронтовых территориях, заслуживает внимательного историко-правового исследования. Дело в том, что вопреки международно-правовому запрету агрессии и усилиям, предпринимаемым мировым сообществом к разрешению мирным путем межгосударственных и внутренних противоречий, число вооруженных конфликтов не уменьшается (достаточно назвать, например, горячие точки в Ираке и Афганистане). При этом военная доктрина Российской Федерации, оценивая прямую вооруженную агрессию в ее традиционных формах как маловероятную, все же отмечает, что еще сохраняются, а на отдельных направлениях даже усиливаются потенциальные внешние и внутренние угрозы военной безопасности нашей страны. Пока существует опасность войны, важной задачей является выработка наиболее эффективных подходов к правовому регулированию деятельности военной юстиции, и прежде всего военного правосудия, что предполагает всесторонний анализ научных подходов и практики подготовки соответствующего чрезвычайного военного уголовно-процессуального законодательства, реализуемого с началом военных действий или в условиях реальной угрозы военной агрессии. Успешному решению указанной задачи способствует глубокое осмысление опыта и уроков периода Великой Отечественной войны.
Однако в вопросах исследования борьбы с государственными преступлениями во время Великой Отечественной войны основное внимание уделялось деятельности органов государственной безопасности и внутренних дел.
При этом как правило вне поля зрения остается осуществление судопроизводства по уголовно-политическим делам как цельного института, включающего во взаимосвязи вопросы установления уголовной ответственности за совершение преступлений, посягающий на существующий политический строй, функционирования органов дознания, следствия, судебной системы, исполнения приговоров. В этом контексте имеется еще немало малоизученных аспектов. В частности, речь идет об особенностях производства отдельных следственных действий (допрос, обыск, выемка и др.), оформления соответствующих уголовно-процессуальных документов в местностях, объявленных на военном положении. Немало спорных вопросов имеется в связи с особым порядком рассмотрения дел в военных трибуналах, когда, например, подсудимые не могли иметь защитника. Безусловный исследовательский интерес представляет также трансформация субъектов уголовно-процессуального правотворчества во время войны, в частности, таковым был не только законодательный орган, но и новые органы власти, сформированные после начала войны и не предусмотренные Конституцией СССР (прежде всего Государственный Комитет Обороны). Немалые процессуальные полномочия имели органы НКГБ-НКВД, которые также фактически осуществляли некоторые судебные функции по ряду составов государственных преступлений и ведали вопросами исполнения приговоров. Недостаточно исследовано и содержание карательной политики во время войны в целом. Наличие этих и других историко-правовых проблем определяет необходимость дальнейшего изучения правового механизма политических репрессий в период 1941;1945 гг. и актуализирует значимость его научного анализа.
Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с историко-юридическим анализом уголовно-политических репрессий в период Великой Отечественной войны, находят отражение в работах как советского, так и постсоветского периодов. Среди авторов, которые в своих трудах затрагивали отдельные аспекты исследуемой проблематики, можно отметить таких, как Алексеенков А. Е., Бабенко Р. В., Белозеров Б. П., Борисов A.B., Дугин.
A.Н., Малыгин А. Я., Дробязко С. И., Дугин А. Н., Дюков А., Епифанов А. Е., Земсков В. Н., Иванов В. А., Ковалев Б. В., Конасов В. Б., Кудряшев A.B., Кузьмин С. И., Дорофеев Н. К., Лысенков С. Г., Сидоренко В. П., Мартианов.
B.Е., Муранов А. И., Некрасов В. Ф., Детков М. Г., Папков С. А., Попов А. Ю., Реент Ю. А., Романовская В. Б., Сальников В. П., Степашин СВ., Янгол Н. Г., Соколов Б. В., Трайнин А. Н., Уйманов В. Н., Утевский Б. С., Хлевнюк О. В., Чарыев М. Р., Яцкова А. и др. При этом если в советской историографии наблюдается освещение деятельности органов безопасности и военных трибуналов только с положительной стороны, то после распада СССР, когда стали более открытыми архивы и нашел развитие принцип гласности, стали появляться и другие оценки, причем в ряде случаев крайне негативные и явно политизированные.
Определенное отражение вопросы заявленной темы нашли в ряде диссертационных исследований: Григуть А. Е. Роль и место органов НКВД.
СССР в осуществлении уголовно-правовой политики Совесткого государства в годы Великой Отечественной войны (1941;1945 гг.). Дис.. канд. юрид. наук. М., 1999; Комаров Д. Е. Великая Отечественная война: боевые действия, власть, народные массы. Региональный аспект. 1941;1945 гг. (на материалах Смоленской области). Дис.. д-ра ист.наук. М., 2007; Попов А. Ю. Деятельность органов госбезопасности СССР на оккупированной советской территории (1941;1944). Дис.. д-ра ист. наук. М., 2007; Романовская В. Б. Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX века. Дис.. д-ра юрид. наук. СПб., 1997; Рябченко А. Г. Органы внутренних дел Краснодарского края в период Великой Отечественной войны (историко-правовой аспект). Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2000; Сидоренко В. П. Войска НКВД на Кавказе в 1941;1945 гг.: исторический аспект. Дисс. докт. ист. наук. СПб., 2000; Упоров И. В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной политики в России ХУ111-ХХ вв. Дис.. д-ра ист. наук. Краснодар, 2001; Христофорова Е. И. Режим в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР (1929 — 1941 гг.). Дис.. канд. юрид. наук. Москва, 2002; Янгол Н. Г. Организационно-правовые формы деятельности органов внутренних дел Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (1941;1945 гг.). Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1987 и др.
Однако юридические аспекты осуществления дознавательно-следственной и судебной деятельности по делам о преступлениях против государственных интересов в период Великой Отечественной войны еще не стали предметом специального монографического исследования. В данной работе предпринята попытка некоторым образом восполнить этот пробел.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.) и до ее окончания (май 1945 г.). Такой подход вполне логичен, поскольку охватывает время нахождения СССР в условиях войны с Германией, является общепризнанным в отечественной истории, и автор также его использовал. Что касается военных действий на Дальнем Востоке (конец 1930;х гг) и с Финляндией (1940 г.), то они не являются характерными, поскольку данные военные конфликты были значительно меньшими по масштабу и не влияли на содержание карательной политики и судопроизводственной деятельности по делам о преступлениях против государства.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникали и развивались в связи с совершением деяний, формально квалифицируемых как контрреволюционные преступления, в период Великой Отечественной войны (1941;1945 гг.). В предмет исследования включены нормы уголовно-процессуального права, нормы административного права, регламентирующие деятельность органов государственной безопасности, прокуратуры, деятельность военных трибуналов, а также научные труды, посвященные данной проблематике, материалы уголовно-политических процессов по конкретным уголовным делам, в частности, дело Павлова и других генералов из числа высшего командного состава Западного фронта (1941 г.), дело о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории г. Краснодара и Краснодарского края (1943 г.) и др.
Методологическая основа исследования базируется на основных положениях теории научного познания и принципах исторического анализа: объективность, историзм, единство исторического и логического, абстрактного и конкретного, общего и особенного, единичного и уникального. В процессе исследования использовались специальные методы — хронологический, сравнительно-правовой, системный, юридико-категориальный, структурнофункциональный, статистически-правовой и др. Источники исследования включают в себя опубликованные нормативные правовые акты, иные документы партийных и государственных органовсборники документальных материалов, статистические данные, справочные изданиянеопубликованные архивные материалыа также периодическую печать. В диссертации были использованы сборники опубликованных документов Советского государства, содержащие законы, постановления, распоряжения, приказы партийно-государственных и репрессивно-карательных органов. В них закреплялись нормы, регулирующие уголовную ответственность за совершение государственных преступлений в период военных действий, порядок производства следствия по такого рода делам, рассмотрения этих дел в военных трибуналах, в том числе в обстановке боевых действий. Специфика темы исследования предопределяет определенную возможность использования публицистики, воспоминаний, автобиографий, так как произведения этих жанров в СССР на рубеже 1990 г. стали по сути первыми открытыми правдивыми публикациями, которые открыто показали, что во время Великой Отечественной войны имели место и перегибы в борьбе с политическими преступлениями. Справочники, энциклопедические словари, библиографические указатели, использованные в диссертации, способствовали уточнению общих и частных вопросов, связанных с темой исследования. Неопубликованные сведения и материалы обнаружены в различных архивохранилищах Российской Федерации. В целом комплекс привлеченных источников помог осуществить сравнительный анализ законодательной основы судопроизводства по делам по преступлениям против государства и его реализации в условиях военного времени.
Целью исследования является комплексный историко-правовой анализ нормативно-правового регулирования деятельности дознавательных, следственных, судебных органов и органов государственной безопасности и внутренних дел по делам о преступлениях против государства в период Великой Отечественной войны (1941;1945 гг.), и практики его применения по конкретных уголовным делам.
Поставленная цель предопределила следующие задачи:
— изучить организационно-правовые основы осуществления уголовно-политического судопроизводства в годы войны;
— раскрыть репрессивную политику в СССР после 22 июня 1941 г. и влияние военного фактора на развитие уголовной ответственности за совершение преступлений против государства;
— показать военные трибуналы как ведущее звено судебной системы в условиях военного времени по рассмотрению уголовно-политических дел;
— дать характеристику уголовно-процессуального законодательства в условиях военного времени;
— исследовать органы государственной безопасности и внутренних дел в механизме судопроизводственной деятельности по делам о преступлениях против государства в военное время;
— проанализировать структурные преобразования НКГБ-НКВД и охарактеризовать их уголовно-процессуальные полномочия в сфере защиты государственных интересов от преступных посягательств;
— исследовать вопросы исполнения приговоров военных трибуналов и решений внесудебных коллегий (особых совещаний) в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступных деяний против советской власти;
— раскрыть реализацию процессуального законодательства по отдельным уголовно-политическим делам, рассмотренных судами в период Великой Отечественной войны;
— проанализировать процедуру производства и оформление основных уголовно-процессуальных действий по делам о преступлениях против государства (на примерах правоприменительной практики в 1941;1945 гг.).
Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что в данной работе на комплексном монографическом уровне изучена проблематика, связанная с осуществлением судопроизводства по делам по преступлениям против государства и его реализацией в условиях военного времени (1941;1945 гг.), что в правовой науке еще не было предметом специального исследования. В диссертации выявлены тенденции развития уголовно-процессуального права в военный период, проведен анализ основных стадий следственной и судебной деятельности по делам о т.н. «контрреволюционных» преступлениях. Систематизирована нормативно-правовая деятельности органов государственной безопасности. Исследованы особенности деятельности военных трибуналов на территориях, объявленных на военном положении. Проведено сопоставление содержания уголовно-процессуальных норм, регулирующих судопроизводство по делам о преступлениях против советской власти, и практики их применения на примере конкретных политических процессов.
В результате проведенного исследования разработаны следующие основные положения, выносимые автором на защиту:
1. В период Великой Отечественной войны карательная политика советского государства была существенно скорректирована в сторону ужесточения, особенно в начальный период военных действий и применительно к фронтовой полосе. Это выражалось в решениях чрезвычайных органов (прежде всего Государственного комитета обороны), которые нередко подменяли действующие конституционные органы (в первую очередь Верховный Совет СССР и его Президиум) и не совсем вписывались в действующую правовую систему. Вместе с тем абсолютное большинство актов реализации карательной политики основывалось все же на действующем законодательстве, в частности, не были изменены составы преступлений против государства в УК РСФСР (ст. 58). Уголовно-политические дела рассматривались военными трибуналами, которые хотя и получили дополнительные полномочия, но оставались частью существовавшей судебной системы. То же можно говорить об органах внутренних дел и государственной безопасности, непосредственно реализующих карательные меры. И в целом советская власть осуществляла основной объем карательной функции в рамках существовавших организационно-правовых основ, что свидетельствует о достаточной устойчивости государственного устройства СССР, сохранившегося несмотря на военную агрессию германских войск.
2. Сущность карательной политики государства применительно к обстановке боевых действий отразил известный приказ наркома обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г., получивший неофициальное название «Ни шагу назад!». Подписавший приказ Сталин потребовал паникёров и трусов уничтожать на месте «всеми имеющимися средствами, как наземными, так и воздушными». Был издан и ряд других подобных приказов, которые представляют собой квинтэссенцию карательной политики военного времени, при этом речь идет не только о суровости карательных мер к изменникам Родины, но об имевших место перегибах при применении подобного рода жестких санкций, и прежде всего в части поспешности оценок действий военнослужащих, которые нередко принимали решения об оставлении боевой позиции ввиду явного превосходства сил противника, и навешивании на них ярлыков изменников без какой либо проверки или следствия. Причем шансов у советских военнослужащих выйти из плена и не стать изменником Родины было немного, что следует, в частности, из Разъяснения Главного военного прокурора Красной Армии «О порядке ареста дезертиров и лиц, вернувшихся из плена» от 8 сентября 1941 г., где говорилось, что «лица, вернувшиеся из плена, могут быть освобождены от ответственности лишь в том случае, если следствие будет доказано, что они попали в плен, находясь в беспомощном состоянии, и не могли оказать сопротивления и что из плена не были отпущены противником, а бежали или были отбиты нашими войсками (партизанами)». Такой отношение имело и во все последующие годы войны.
3. В первые месяцы после начала боевых действий объем и интенсивность карательных мер на фронтовых территориях стали настолько большими, что власть вынуждена была одергивать карательные органы от непоправимых перегибов. 4 октября 1941 г. был издан приказ наркома обороны «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями», в котором, в частности, указывалось на «частые случаи незаконных репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров комиссаров». Соответственно предписывалось «самым решительным образом, вплоть до придания виновных суду военного трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и самосудов». Указанные в приказе злоупотребления в излишнем рвении видеть в военнослужащих предателей и дезертиров и установление ответственности за такие злоупотребления достаточно ясно показывают стиль руководства, присущий Сталину. Дело в том, что еще сравнительно недавно, в 1930;е гг., он таким же методом действовал по отношению в внутренней политической оппозиции в стремлении уничтожить физически всех, кто мог бы составить конкуренцию на властном Олимпе, и их сторонников: сначала были уголовно-политические процессы, явно сфальсифицированные, закончившиеся для многих смертными приговорами, а затем те, кто занимался фальсификацией (Ягода, Ежов и многие послушные им следователи и оперативники из НКВД) были сами объявлены врагами народа, но при этом отнюдь не следовала реабилитация жертв злоупотреблений. Подобное происходило, и в Великую Отечественную войну, и особенно в первые два года, пока не произошло очевидного перелома в ходе военных действий.
4. В процессе усиления репрессивной политики военного периода принимались акты, которые нельзя оправдать даже военным положением. Так, совершенно секретным постановлением ГКО от 24 июня 1942 г. аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок 5 лет подлежали совершеннолетние члены семьи осужденного безотносительно к тому, какое отношение они имели к деянию, т. е. чисто по формальному признаку. Другим также совершенно секретным документом (Директива НКЮ СССР и Прокуратуры СССР председателям военных трибуналов и военным прокурорам фронтов, округов, отдельных армий, флотов и флотилий от 4 ноября 1942 г.) давалось разъяснение (фактически — санкция) по применению высшей меры наказания (расстрела) к несовершеннолетним.
5. В системе правового регулирования карательных санкций после начала войны был существенно расширен перечень субъектов уголовного правотворчества — таковыми стали Верховный суд СССР, ГКО, Ставка Верховного главнокомандования, ведомства. Они устанавливали уголовно-правовые нормы вразрез конституционным положениям, согласно которым функцию законодательства должен был выполнять Верховный Совет СССР и верховные советы республик. В результате такой практики уголовное законодательство приобрело ряд негативных черт, в числе которых: бессистемность вводимых законодательных актовпротиворечия действующему законодательству и коллизии между новыми нормамидублирование ряда составов преступлений, предусмотренных в действующем на тот момент УК РСФСР (прежде всего это касалось воинских преступлений) — абстрактность и нечеткость уголовно-правовых нормнесоразмерность наказаний тяжести совершенных деяний.
6. К наиболее распространенным особо опасным преступлениям против государства периода Великой Отечественной войны следует отнести измену Родине (ст. 58−1, п.п. «а» и «б» УК РСФСР), шпионаж (ст. 58−6 УК РСФСР) и пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти (ст. 58−10 УК РСФСР). В практике квалификации деяний по признакам указанных преступлений наблюдались нарушения общих принципов уголовного права. Так, несмотря на то, что диспозиция ст. 58 УК РСФСР требовала обязательного наличия в действиях субъекта призыва к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти либо к совершению отдельного контрреволюционного преступления, военнослужащих и гражданских лиц привлекали к уголовной ответственности за разговоры, в которых они, например, сравнивали условия жизни людей при царе и Советской власти, характеристики оружия и техники — своих и врага, снабжение противостоящих армий продовольствием и обмундированием и т. д. Особенно много солдат и командиров Красной Армии были осуждены во время войны по ст. 58−10 УК РСФСР, а некоторые даже поплатились жизнью по незаконным приговорам военных трибуналов за то, что имели при себе фашистские листовки, которые находили на поле боя, а затем использовали на самокрутки.
7. В период Великой Отечественной войны военные трибуналы имели важнейшее значение в системе судопроизводства по государственным преступлениям. В своей деятельности они руководствовались принципами правосудия, закреплёнными в Конституции и законе о судоустройстве СССР. Однако для них были установлены и некоторые особые правила, обеспечивающие быстроту судебной репрессии по отношению к лицам, посягавшим на обороноспособность страны, в частности, члены военных трибуналов не избирались, а назначались совместными приказами НКЮ СССР и наркома обороны, дела в военных трибуналах рассматривались постоянными судьями без участия народных заседателей. Приговоры трибуналов, действовавших в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий, не подлежали кассационному обжалованию. Для приближения надзора к местным военным трибуналам право пересмотра приговоров, вступивших в законную силу, было предоставлено военным трибуналам округов и фронтов. Кроме того, в принятом с началом военных действий Положении о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий, в разделе о порядке рассмотрения дел ни слова не было сказано о защитниках подсудимых, равно как и об обвинителях, в связи с чем роль обвинения выполнял сам военный трибунал. Что же касается действия судов, в том числе военных трибуналов, в иных местностях, то для них изъятий не было.
8. В течение военного времени порядок деятельности военных трибуналов некоторым образом изменялся. Так, в связи с увеличением количества военных трибуналов (к началу войны в стране функционировало 298 военных трибуналов, а к 1 марта 1942 г. их было сформировано еще 823) оказалось невозможным обеспечить осуществление правосудия постоянным судебным составом из трех военных судей. Поэтому 28 июля 1942 г. Указом.
Президиума Верховного Совета СССР была предусмотрена возможность участвовать в осуществлении правосудия заседателям из числа военнослужащих, которых делегировали политические органы и командование войсковых частей. Значительный объем дел стал направляться в военные трибуналы после начала наступательных операций Красной Армии и по мере освобождения ранее оккупированной территории о преступлениях гитлеровцев и их пособников.
9. 19 апреля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». В соответствии с данным Указом для рассмотрения подобных дел специально учреждались военно-полевые суды, они действовали при дивизиях и корпусах Красной Армии. В их состав входили председатель военного трибунала, начальники политического и особых отделов. Военно-полевые суды рассматривали дела немедленно после освобождения занятых противником территорий (но не позже 48 часов с момента поступления дела в суд). Судебное заседание должно было проводиться согласно гл. 28 УПК РСФСР. Подготовительная стадия не предусматривалась. Приговоры должны были исполняться немедленно. В целом деятельность военно-полевых судов не получила широкого распространения. В основном военно-полевыми судами рассматривались дела только в отношении лиц, задержанных, как правило, с поличным, и дела по которым не требовали специального дополнительного расследования. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и приводить в исполнение немедленно.
10. В процессе правоприменительной практики у следственных и судебных органов нередко возникали вопросы чисто юридического характера по квалификации деяний, содержащих признаки преступлений против советского государства, и особенно на фронтовых территориях. Сложности были обусловлены прежде всего нечеткостью в понимании правовой сущности соотнесения субъекта деяния (советский военнослужащий или советский гражданский человек или германский военнослужащий), обстановки и места совершения преступления (поле боя, оккупационная территория, тыловая территория, территория, объявленная на военном положении или, напротив, не объявленная, и т. д.) и характера совершенных противоправных действий (например, был захвачен в плен, будучи раненым, или сдался добровольно, бросив оружие). Вопросы квалификации были настолько сложными, что требовались неоднократные разъяснения и директивы различных судебных, прокурорских и иных инстанций по этому поводу. Так, деяния, которые ранее квалифицировались как воинские преступления, предписывалось квалифицировать как преступления против государства. И хотя санкции за совершение, например, дезертирства в военных условиях и измены Родине совпадали (высшая мера наказания — расстрел), изменение статуса совершаемых деяний (теперь они считались самыми тяжкими) должно было также повлиять на отношение общества к этим преступникам, разумеется, имея в виду усиление негативного отношения.
11. Оценивая в целом деятельность военных трибуналов в период Великой Отечественной войны, следует заметить, что военные трибуналы добивались всестороннего и полного исследования всех обстоятельств дела и выносили справедливые и законные приговоры, которые являлись окончательными и обжалованию не подлежали. Однако они могли быть проверены в порядке надзора, что и делал военный трибунал фронта. Вместе с тем военные трибуналы были частью судебной системы советского государства, которое и до войны, и во время войны, и некоторое время после войны функционировало на основе административно-командного принципа управления, где важнейшей составляющей был культ личности Сталина, и в этой системе трибуналы выполняли отведенную им из центра роль по реализации карательной политики.
12. Органы НКГБ-НКВД в период Великой Отечественной имели важнейшее значение в деле борьбы с преступными посягательствами против государства, более того, именно они составляли материальную и кадровую основу такой деятельности. С началом боевых действий была осуществлена определенная переструктуризация указанных наркоматов с сосредоточением основных ресурсов в НКВД, который получил расширенные полномочия, в том числе в части рассмотрения дел в ОСО при НКВД с правом применения расстрела, причем такое полномочие следует расценивать как недостаточно обоснованное. Советские спецслужбы довольно быстро сумели перестроиться на венный лад, и в целом показали высокий уровень профессионализма в пресечении антигосударственной деятельности, борьбе с бандитизмом на освобождаемых от оккупации территории. При этом, однако, по ряду позиций наблюдались перегибы и перекосы, это касалось, в частности, методов реализации решений о выселении отдельных категорий граждан только лишь по принадлежности их к т.н. социально-опасным категориям, явного обвинительного уклона в отношении военнослужащих, возвращающихся из вражеского плена. Вместе с тем деятельность органов госбезопасности и внутренних дел велась в целом в рамках уголовно-процессуального закона, и центральные аппараты НКГБ-НКВД следили за этим, периодически указывая на нарушения законности.
13. Наделение ОСО НКВД обширными внесудебными полномочиями при наличии достаточно широкой сети военных трибуналов и военно-полевых судов даже в военное время вряд ли могло быть обосновано необходимостью усиления борьбы с государственными преступлениямиимевшихся полномочий трибуналов и уголовно-процессуальных полномочий органов госбезопасности и внутренних дел, а также полномочий военных командиров в отношении дезертиров, паникеров и им подобным вполне хватало для того, чтобы пресекать и наказывать преступные проявления против государства. Как представляется, истинная причина была в другом, и она заключалась, как и ранее, во времена «большого террора» 1930;х гг., прежде всего в том, что законными методами власти не всегда удавалось доказать вину подозреваемых в совершении государственных преступлений. В пользу такого предположения свидетельствуют и недостатки в следственной деятельности, которые не позволяли уверенно направлять дела в суд.
14. В период войны по уголовно-политическим делам проводились, как правило, все следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Наиболее распространенным было такое следственное действие, как допрос. Кроме того, проводились осмотры территорий и помещений, различные виды экспертиз, выемки, предъявления обвинений и др. Все эти следственные действия документировались в виде постановлений, актов, заключений и, таким образом, соответствующие результаты следственных действий приобщались к уголовным делам в качестве доказательств. Делопроизводство по уголовно-политическим делам находилось в целом на высоком уровне, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в стране.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается прежде всего в том, что результаты проведенного исто-рико-правового анализа юридических основ осуществления уголовно-политического судопроизводства в период Великой Отечественной войны могут представить научный интерес в изучении истории развития розыскных, следственных и судебных органов в нашей стране, а также могут быть использованы в правоприменительной практике реабилитации жертв политических репрессий. Сформулированные автором выводы дополняют и развивают ряд разделов науки истории государства и права и могут стать основой при последующем научном исследовании данной проблематики. Выводы и фактические материалы исследования будут способствовать дальнейшему изучению природы Советского государства и права в середине XX века. Кроме того, результаты научного исследования могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при преподавании как общетеоретических, так и практических дисциплин, при написании учебных, диссертационных, монографических и иных работ.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли свое отражение: в пяти научных публикациях автора общим объемом 1,6 п. л., в докладах и материалах научных конференциях. Наиболее важные результаты диссертационного использованы при проведении занятий по курсу «История отечественного государства и права» в Краснодарском университете МВД России, других высших учебных заведениях. Научные, педагогические работники, работники судебной системы могли ознакомиться с основными положениями диссертации на научно-практических конференциях в Краснодаре, Новороссийске, Ставрополе, в работе которых участвовал соискатель.
Структура диссертации обусловлена актуальностью и целями исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Поведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы.
В период Великой Отечественной войны карательная политика наиболее существенно была скорректирована в сторону ужесточения в начальный период военных действий применительно к фронтовой полосе. Это выражалось в ряде решений чрезвычайных органов (прежде всего ГКО), которые нередко подменяли действующие конституционные органы (в первую очередь Верховный Совет СССР и его Президиум) и не совсем вписывались в действующую правовую систему, где соответствующая ответственность за нарушения определенных жестких норм, по своему характеру относящаяся к уголовной ответственности, устанавливалась уголовным законом. Вместе с тем абсолютное большинство актов реализации карательной политики основывалось все же на действующем законодательстве, в частности, не были изменены составы преступлений против государства в действующем УК РСФСР (ст.58). Уголовно-политические дела рассматривались военными трибуналами, которые хотя и получили дополнительные полномочия, но оставались частью существовавшей судебной системы. То же можно говорить о органах внутренних дел и государственной безопасности, непосредственно реализующих карательные меры, и в целом советская власть осуществляла основной объем карательной функции в рамках существовавших организационно-правовых основах, что свидетельствует о достаточной устойчивости государственного устройства СССР, сохранившегося несмотря на военную агрессию германских войск.
Оценивая в целом деятельность военных трибуналов в период Великой Отечественной войны, следует заметить, что таковая в советской историографии представлялась исключительно в положительном свете. После распада СССР стали преобладать противоположные оценки, причем во многом политизированные. В этом смысле мы поддерживает подход взвешенного анализа (например, в работах В.В. Обухова). Военные трибуналы были частью судебной системы советского государства, которое и до войны, и во время войны, и некоторое время после войны функционировало на основе административно-командного принципа управления, где важнейшей составляющей был культ личности Сталина, и в этой системе трибуналы выполняли отведенную им из центра роль по реализации карательной политики. Кроме того, не будем забывать, что, несмотря на прошедшее после 1945 г. время материалы многих уголовно-политических дел военного времени засекречены, и поэтому окончательные оценки военного правосудия еще впереди.
Органы НКГБ-НКВД в период Великой Отечественной имели важнейшее значение в деле борьбы с преступными посягательствами против государства, более того, именно они составляли материальную и кадровую основу такой деятельности. С началом боевых действий была осуществлена определенная переструктуризация указанных наркоматов с сосредоточением основных ресурсов в НКВД, который получил расширенные полномочия, в том числе в части рассмотрения дел в ОСО при НКВД с правом применения расстрела, причем такое полномочие следует расценивать как недостаточно обоснованное. Советские спецслужбы довольно быстро сумели перестроиться на венный лад, и в целом показали высокий уровень профессионализма в пресечении антигосударственной деятельности, борьбе с бандитизмом на освобождаемых от оккупации территории. При этом, однако, по ряду позиций наблюдались перегибы и перекосы, это касалось, в частности, методов реализации решений о выселении отдельных категорий граждан только лишь по принадлежности их к т.н. социально-опасным категориям, явного обвинительного уклона в отношении военнослужащих, возвращающихся из вражеского плена. Вместе с тем деятельность органов госбезопасности и внутренних дел велась в целом в рамках уголовно-процессуального закона, и центральные аппараты НКГБ-НКВД следили за этим, периодически указывая на нарушения законности.
В период Великой Отечественной войны осужденные за преступления против государства в своем большинстве осуждались к лишению свободы, при этом режим отбывания наказания в ИТЛ определялся НТК РСФСР 1933 г., а также ведомственными актами НКВД СССР, которые по многим аспектам имели большее значение, чем законодательные акты. С формальной точки зрения условия отбывания наказании относительно военной обстановки, в которой находилась страна, были достаточно гуманными, в частности, с заключенными проводилась культурно-воспитательная работа, они получали свидания, многие стремились попасть на фронт, и совершали подвиги. Фактически же многие нормы не выполнялись, и заключенных государство эксплуатировало в качестве дешевой рабочей силы, при этом питание, медоб-служивание нередко были отвратительными, из-за чего наблюдалась повышенная смертность. Это относилось и к лицам, которые ссылались в отдаленные северные и восточные районы страны в связи с принадлежностью к т.н. социально-опасному состоянию. При этом, однако, следует иметь в виду, что подавляющая часть осужденных за государственные преступления находилась в тех же условиях, что и осужденные за общеуголовные преступления (исключение составляли осужденные к каторжным работам за пособничество немецко-фашистским захватчикам), и в этом смысле можно говорить о том, что необычайная жесткость уголовно-правовых норм о наказании государственных преступников определенным образом смягчалась условиями отбывания этих наказаний.
Во время войны по уголовно-политическим делам проводились, как правило, все следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Наиболее распространенным было такое следственное действие, как допрос. Кроме того, проводились осмотры территорий и помещений, различные виды экспертиз, выемки, предъявления обвинений и др. Все эти следственные действия документировались в виде постановлений, актов, заключений и, таким образом, соответствующие результаты следственных действий приобщались к уголовным делам в качестве доказательств. Делопроизводство по уголовно-политическим делам находилось в целом на высоком уровне, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в стране.
Процесс по делу Павлова и других генералов из числа высшего командного состава Западного фронта в целом с формальной точки зрения был проведен в соответствии с действующим в то время уголовно-процессуальным законодательством применительно к военному времени. Подсудимые получили заранее обвинительные заключения. Они имели возможность высказывать свою позицию, в том числе не соглашаться с ранее данными показаниями. Вместе с тем был нарушен ряд существенных положений. Так, обвиняемые не получили возможности ознакомиться с материалами дела, что при отсутствии защитника ставило их в явно неравное положение со стороной обвинения, которое при формулировании обвинительных положений располагало всей полнотой материалов. Имеются основания полагать, что к обвиняемым во время следствия применялись недозволенные методы с целью получения «нужных» показаний. Явно абсурдным было обвинение в измене Родине (заговоре), совершенном еще до войны, однако именно это обвинение, исключенное из приговора, послужило юридическим поводом для выбора уголовно-процессуальной меры пресечения виде заключения под стражу. Приговор был предрешен заранее — власти нужен был хороший, наглядный пример отношения к тем, кто сдает боевые позиции, и решение о расстреле, озвученное в войсках, должно было сыграть предупредительную роль.
В 1957 г. архивное уголовное дело по обвинению Павлова Д. Г, Климовских В. Е., Григорьева А. Т и Коробкова А. А. было пересмотрено. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 31 июля 1957 г. приговор Военной коллегии Верховного суда СССР От 22 июля 1941 г. в отношении указанных лиц отменен по вновь открывшимся обстоятельствам и дело прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. На наш взгляд, полная реабилитация была все же недостаточно обоснованнойкомандный состав Западного фронта должен был нести юридическую ответственность за тяжелейшее поражение в первые дни войны, и действия подсудимых, с учетом их собственных показаний, были квалифицированы правильно. Другое дело, что степень наказания могла быть иной, в частности, можно было назначить лишение свободы и отложить исполнение, предоставив генералам возможность искупить вину на фронте, тем более, что они просили об этом и что было бы очень своевременно в тяжелейших условиях, в которое попала страна, или даже ограничиться мерами дисциплинарного воздействия. Кроме того, наказание должны были, конечно, понести, и представители высших армейских кругов, хотя, вероятно, в меньшей степени. Можно говорить еще и том, что осужденные генералы оказались заложниками внешней политики СССР, когда высшее руководство вело двойную игру на западных границах, провозглашая дружбу с Германией, и одновременно готовясь к войне с ней, однако подробное рассмотрение данного аспекта выходит за пределы нашего исследования.
Краснодарский судебный процесс над пособниками фашистов показал, что к середине 1943 г. советское государство достаточно уверенно вело боевые действия на фронтах и вполне контролировало ситуацию внутри страны. При этом следует отметить, что процесс проходил, когда война еще не была закончена, вскоре после освобождения Краснодарского края, практически на прифронтовой полосе. И тем не менее основные судебные процедуры были соблюдены. Власть не побоялась также сделать процесс открытым, и в этом смысле его итоги имели не только юридическое, но и значительное политико-пропагандистское значение. Впоследствии, по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. в 10 районах края было повешено 18 человек и приговорено к каторге 12 человек. К 3 сентября 1943 г. по обвинению в сотрудничестве с оккупантами в 24 районах края было расстреляно 55 человек. Таким образом, судебный процесс над пособниками фашистов, начавшись в Краснодаре, получил продолжение, и тем самым преступников, изменивших Родине и поднявших руку на своих же граждан на стороне врага, стали получать заслуженное возмездие.
Список литературы
- Нормативно-правовые акты, правоприменительные акты, официальные документы
- Конституция СССР 1936 г. // Сборник нормативных актов по советскому государственному праву. М.: Политиздат, 1984. С. 112−177.
- Постановление ЦИК СССР «Об образовании общесоюзного народного комиссариата внутренних дел СССР» от 10.07.1934 г. // Известия. 1934. 11 июля.
- Постановление ЦИК СССР «О рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и его местными органами» от 10.07.1934 г. // СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 284.
- Закон СССР «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» от 16 августа 1938 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1938 г. № 11.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. 18 февраля.
- Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 июля 1938 г. М.: Юридическое издательство Наркомюст СССР, 1938.
- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.
- Указ Президиума Верховного Совета «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу срединаселения» от 06.07. 1941 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 32.
- Указ Президиума Верховного Совета «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах» от 29. 09. 1941 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 38.
- Указ Президиума Верховного Совета «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» от 26. 12. 1941 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 2.
- Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспобного городского населения для работы на производстве и строительстве» от 13.02.1942 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 6.
- Постановление Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома и ЦК ВКП (б) «Об образовании Государственного Комитета Обороны от 30.06.1941 г. // Сборник законов СССР и указов Президиумов Верховного Совета СССР 1939−1944 гг. М., 1945. С. 41.
- Постановление Государственного Комитета Обороны «О введении осадного положения в г. Москве» от 19.10. 1941 г. // Законодательные и административно-правовые акты военного времени. С 22 июня 1941 г. по 22 марта 1942 г. М, 1942. С. 51−52.
- Постановление Государственного Комитета Обороны «Об охране военного имущества Красной Армии в военное время» № ГОКО- 1379с от 03. 03. 1942 г. // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 69. Л. 440−441.
- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О правовом положении спецпереселенцев» от 08.01. 1945 г. // История российских немцев в документах. М., 1993. С. 175.
- Приказ начальника гарнизона г. Москвы «Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в г. Москве» от 25.06.1941 г. // Вечерняя Москва. 1941. 26 июня.
- Приказ наркома обороны № 0391 «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями» от 04.10.1941 г. // Военно-исторический журнал. 1988. № 9. С. 29−30.
- Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 г. («Ни шагу назад!») // Военно-исторический журнал. 1988. С. 73−75.
- Приказ Народного Комиссара Обороны СССР «Об улучшении охраны и мерах наказания за хищение и разбазаривание военного имущества» от 03. 03. 1942 г. // // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 69. Л. 338−340.
- Приказ Прокурора СССР от 28 января 1942 г. // Законодательные и административно-правовые акты военного времени. С 22 июня 1941 г. по 22 марта 1942 г. М.: Юриздат, 1942. С. 78.
- Протокол ЦИК СССР «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов» от 01.12.1934 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М.: Республика, 1993. С. 33.
- Приказ НКВД СССР № 889 от 2 августа 1939 г. об объявлении «Временной инструкции о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях».
- Акт о зверствах нацистов и их эстонских пособников в отношении заключенных концлагеря Клоога от 29. 09. 1944 г. // Эстония. Кровавый след нацизма: 1941−1944 годы. Сборник архивных документов. М.: Европа, 2006. С. 49−57.
- Акт о расстреле в местечке Стаки (Литовская ССР) от 20. 03. 1945 г. // Трагедия Литвы: 1941−1944 годы. (Ссылка на архив: ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 94. Д. 427. Л. 85. Подлинник. Рукопись). Сборник архивных документов. М.: Европа, 2006. С. 335−336.
- Отчет У НКВД по Московской области о результатах работы за период с начал войны от 3 мая 1942 г. // Лубянка в дни битвы за Москву. Материалы органов госбезопасности СССР из Центрального архива ФСБ России. М.: Звонница-МГ, 2002. С. 132−136.
- Заявление Советского правительства об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы от 14. 10. 1942 г. // Правда. 1942. 15 октября.
- Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 08.04.1937 г. «Об утверждении Положения об особом совещании при НКВД СССР» // РГАСПИ. Ф. 17. Он. 3. Д. 986.1. Архивы
- Российский государственный архив социально-политический истории.
- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 623.
- Государственный архив Российской Федерации.
- ГАРФ. Ф. 9413. Оп.1. Д. 22.
- ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д.28−29- Д. 143.
- ГАРФ.Ф. 9414. Оп. 1. Д. 143.
- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 21. Д. 326.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края.
- ЦДНИКК .Ф. 1774-А. Оп.2. Д. 173- Д. 402.
- ЦДНИКК .Ф. 1774-А. Оп.2. Д. 402.
- ЦДНИКК .Ф. 1774-А. Оп.2. Д. 651.
- ЦДНИКК .Ф. 1774-А. Оп.2. Д. 655.
- ЦДНИКК .Ф. 1774-А. Оп.2. Д. 1143.
- ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 332.
- ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 346.
- ЦДНИКК. Ф. 1298. Оп. 1. Д. 60.
- ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 494.
- ЦДНИКК. Ф. 1390. Оп. 1. Д. 432.
- Специальный фонд Информационного центра ГУВД Краснодарскогокрая.99. СФИЦГУВДКК. Ф.18.Д.4.
- СФИЦ ГУВД КК. Ф. 19. Арх. З-а. Д. 1.101. СФИЦГУВДКК. Ф. 21. Д. 1.
- СФИЦ ГУВД КК. Ф. 21. Д. 7.103. СФИЦГУВДКК. Ф. 21. Д. 12.
- СФИЦ ГУВД КК. Ф.19. Оп.З. Д. 12.
- СФИЦ ГУВД КК. Ф.31. Арх. 7. Книги, статьи, тезисы
- Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вермонт, 1984.
- Алексеенков А.Е. Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.: историко-политический аспект. Дисс.докт. ист. наук. СПб., 1995.
- Алексеенков А.Е., Лаптев Ю. В., Сидоренко В. П., Тарасов М. М. Войска НКВД в битве за Кавказ. СПб., 1998.
- Алексеенков А.Е., Сидоренко В. П. Внутренние войска в годы суровых испытаний: домыслы и реальность. СПб., 2002.
- Артизов А.Н. Судьбы историков школы М.Н.Покровского (середина 1930-х годов) // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 34−48.
- Астемиров З.А. История совместного исправительно-трудового права. Рязань, 1975.
- Бабенко Р.В. История становления и пути развития военных судов России // История государства и права. 2007. № 10. С. 29−31.
- Баграмян И.Х. Так начиналась война. М., 1971.
- Баскаков В.В. Деятельность внутренних войск в период Московской битвы (30 сентября 1941 г.-20 апреля 1942 г.): исторический аспект. Дисс. канд. ист. наук. СПб., 1996.
- Белозеров Б.П. Войска и органы НКВД в обороне Ленинграда (июнь 1941-январь 1944 гг.) (историко-правовой аспект). Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 1998.
- Белозеров Б.П. Фронт без границ. 1941−1945 гг. Историко-правовой анализ обеспечения безопасности фронта и тыла Севрео-Запада. СПб., 2001.
- Болдырев Ю.А., Васильев С. С. Творческая интеллигенция Северного Кавказа в годы оккупации // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР / Материалы 1-й региональной научной конференции. Краснодар: Южная волна, Мемориал, 2003. С. 64−75.
- Бондаренко Д.В. Юридическая ответственность в военное время (на опыте Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.). М.: Информационно-полиграфический центр, 2004.
- Борисов A.B., Дугин А. Н., Малыгин А.Я и др. Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995.
- Борщаговский А. Обвиняется кровь. М., 1994.
- Буллок Алан. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание. Смоленск: Русич, 1994. Т.2.
- Василевский A.M. Дело всей жизни. М., 1988.
- Великая Отечественная война 1941−1945 гг. Энциклопедия. М., 1985.
- Великая Отечественная война. 1941−1945. События. Люди. Документы. Краткий исторический справочник / Под общ. ред. O.A. Ржешевского. М.: Политиздат, 1990. С. 69.
- Викторов Б.А. Записки военного прокурора // Перестройка: ленинская концепция социализма. Ташкент: Изд-во «Узбекистан», 1989.
- Власов В.А. Советский государственный аппарат. М., 1951.
- Война Германии против Советского Союза. 1941−1945. Документальная экспозиция города Берлина к 50 летию со дня нападения Германии на Советский Союз /Под ред. Р. Рюрупа. Берлин: Агсоп, 1992.
- Война и правосудие // Человек и закон. 1990. № 6. С. 35−39.
- Воловик Л. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит // «Дайджест Е». 2006. № 12 / http://holocaustmuseum.pochta.org
- Вормсбехер Г. Г. Немцы в СССР // Знамя. 1988. № 11. С. 15−20.
- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.2. М. :Воениздат. 1988.
- Голубев Е.П. Боевые звёзды. Ярославль, 1972.
- Гордон Л.А., Клопов Э. В. Что это было?: Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30−40-е годы. М., 1989.
- Греков Н.В. Деятельность контрразведки СМЕРШ по пресечению измены и дезертирства в войсках во Великой Отечественной войны 19 411 945 гг. // Военно-исторический журнал. 2006. № 2. С. 45−49.
- ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С.20−29.
- Гурьянов А., Кокурин А. Эвакуация тюрем // Карта. 1994. № 6. С.27−31.
- Дробязко С.И. Под знаменем врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941−1945. М.: ЭКСМО, 2004.
- Дугас И. А., Черон Ф. Я. Вычеркнутые из памяти: Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж: УМСА PRESS, 1994.
- Дугас И.А., Черон Ф. Я. Советские военнопленные в немецких концлагерях (1941−1945). М.: Авуар консалтинг, 2003.
- Дугин А.Н. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990. № 7. С. 23.26.
- Дюков А. Необоснованный гуманизм Сталина // Спецназ России. 2007. № 5.
- Епифанов А. Е. Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Волгоград: Волгоградская академия МВД РФ, 2005.
- Епифанов А.Е. Регламентация уголовного преследования за военные преступления в годы Великой Отечественной войны и современные проблемы реабилитации жертв политических репрессий // Сб. научных трудов. Сочи: РИО СГУТиКД, 2006. С. 5−11.
- Епифанов А.Е. К вопросу об итогах уголовного преследования гитлеровских военных преступников и их пособников в СССР. 1943−1954гг.
- Право как ценность и средство государственного управления обществом. Сборник научных трудов. Вып. 2. Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. С. 19−26.
- Епифанов А.Е. Некоторые особенности уголовной ответственности гитлеровских военных преступников в СССР // Проблемы теории и практики правоохранительных органов. Сборник трудов молодых ученых. Владимир: ВЮИ МВД РФ, 1999. С. 58−68.
- Епифанов А.Е. Организационные и правовые основы борьбы с гитлеровскими военными преступниками и их пособниками в боевых условиях и прифронтовой полосе (1941−1954 гг.) // Юристъ-Правоведъ. № 3. С. 85−92.
- Жаркой М.Э. Карательная политика: вопросы теории и истории. СПб., 2006.
- Заболоцкий Н.А. История моего заключения // Минувшее. Т. 2. М., 1990.
- Загорский П.И. Осуществление правосудия в Вооруженных силах в период Великой Отечественной войны. М.:Воениздат, 1986.
- Загорулько М.М., Юденков А. Ф. Крах экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР. М., 1970.
- Залесский А.И. В тылу врага: Борьба крестьянства Белоруссии против социально-экономических мероприятий немецко-фашистских оккупантов. Минск, 1969.
- Залесский К. А. Империя Сталина: Биографический энциклопедический словарь. М.: Вече, 2000.
- Земсков В. ГУЛАГ, где ковалась победа // Родина. 1991. № 6−9. С.69−74.
- Земсков В.Н. Ведущая сила всенародной борьбы: Борьба советского рабочего класса на временно оккупированной фашистами территории СССР (1941−1944 гг.). М., 1986.
- Земсков В.Н. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1944−1956 гг.) // Социологические исследования. 1995. № 5. С. 10−18.
- Зубов И. Страницы истории военного трибунала Краснознаменного Белорусского военного округа // Юстиция Беларуси. 2004. № 7. С. 9−11.
- Иванов В.А. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х 40-х гг. (на материалах Северо — Запада России). Дисс. докт. ист. наук. СПб., 1997.
- Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х 40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР). СПб, 1997.
- Иванов Г. П. Коммунистическая партия организатор и руководитель всенародной борьбы в тылу немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Краснодар, 1969.
- Ивлев И.А., Юденков А. Ф. Оружием контрпропаганды: Советская пропаганда среди населения оккупированной территории СССР. 1941−1944 гг. М., 1988.
- Интернетсайт «Россия в красках» со ссылкой на архивный документ: ЦДАГО (Украина). Ф.1. Оп. 22. Спр. 21. Арх.2. // http: rico-lor.org/history/b/partizani/etapl/documents/21.
- Интернетсайт прокуратуры Краснодарского края. Страницы истории. Прокуратура Кубани в годы Великой Отечественной войны / Сост. Ю. Лучинский. 2007.
- Иосиф Сталин Лаврентию Берии: «Их надо депортировать.» // Документы, факты, комментарии. М., 1992.
- Ирлицин В.И. Деятельность органов НКВД в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941-ноябрь 1942 г. (на материалах Калининской области). Дисс. .канд. ист. наук. Тверь, 1998.
- История отечественного государства и права. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 2002.
- История отечественного государства и права. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 2002.
- История сталинского Гулага. Конец 1920-х первая половина 1950-х годов: Т.5. Спецпереселенцы в СССР / Отв. ред. Т.В. Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 2004.
- Ищенко С.Д. Я из заградотряда// Военно-исторический журнал. 1988. № 11. С.57−60.
- Казанцев В.П. Деятельность войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности в годы Великой Отечественной войны. Дисс. канд. ист. наук. СПб., 2002.
- Каров Д. Партизанское движение в СССР в 1941—1945 гг.. Мюнхен: Институт по изучению истории и культуры СССР, 1954.
- Касаткин М.А. В тылу немецко-фашистских армий «Центр»: Всенародная борьба на оккупированной территории западных областей РСФСР. 1941−1945 гг. М., 1980.
- Кирсанов H.A., Дробязко С. И. Великая Отечественная война 19 411 945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта. М., 2003.
- Ковалев Б.В. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 1941−1944. М.: ACT, 2004.
- Кокурин А., Петров И. НКВД НКГБ — Смерш: структура, функции, кадры // Свободная мысль. 1997. № 8. С. 123 — 124.
- Колесник А. Д. РОА власовская армия: Судебное дело А. А. Власова. Харьков: Простор, 1990.
- Комков Г. Д. Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 1965. № 5. С. 16−23.
- Конасов В.Б. К вопросу о численности немецких военнопленных в СССР // Вопросы истории. 1995. № 5−8.
- Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996.
- Крикунов В.П. Фронтовики ответили так. Пять вопросов Генерального штаба// Военно-исторический журнал. 1989. № 3. С. 15−19.
- Кузьмин С., Гилязутдинов Р. ГУЛАГ в годы войны // Преступление и наказание. 1998. № 5. С. 29−33.
- Кузьмин С.И., Дорофеев Н. К. Исправительно-трудовые учреждения в годы великой отечественной войны // Закон и армия. 2005. № 6. С. 4749.
- Кулик C.B. Военные преступления на оккупированной территории Северо-Запада России в годы Великой отечественной войны // История государства и права. 2007. № 6.
- Куманев В.А. 1930-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991.
- Литвин А.Л. Без права на мысль. Казань, 1994.
- Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 19 171 991. Справочник. Документы / Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М.: Международный фонд «Демократия», 2003.
- Лысенков С.Г., Сидоренко В. П. Внутренние войска: страницы истории. СПб., 2001- Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 -2002 гг.). СПб., 2001.
- Люлечник В. О штрафниках и заградотрядах // Русский глобус. 2004. № 5. с. 20−26.
- Люлечник В. Почему попадали в плен защитники Родины. Социальные предпосылки массового пленения советских воинов в годы Второй Мировой войны (По материалам российских и зарубежных ученых) // Русский глобус. 2004. № 6. С. 24−28.
- Майоров Н. Краснодарский процесс // Неотвратимое возмездие. По материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок. М.: Воениздат, 1084.
- Македонская В. А. Проблемы организации и идеологического обеспечения восстановительного процесса в освобождённых районах в годы
- Великой Отечественной войны (по материалам Российской Федерации). М., 2005. С. 81−102.
- Мальченко В. П. Перестройка жизни и страны в период Великой отечественной войны. М., 1998. С. 62−66.
- Мартианов В.Е. Органы НКВД Краснодарского края накануне и в годы Великой Отечественной войны. (1939−1945 гг.). Дисс. канд. ист. наук. Краснодар, 1997.
- Маслов В.П., Чистяков Н. Д. Вопреки закону и справедливости. М., 1990.
- Медведев Р. О Сталине и сталинизме // Знамя. 1989. № 2.
- Министерство внутренних дел. 1902−2002. Исторический очерк / Под ред. Р. Г. Нургалиева. М.: Объединенная редакция МВД России, 2004.
- Муранов А.И. Военные суды часть российской судебной системы // Российская юстиция. 1998. N 12. С. 11−13.
- Муранов А.И. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны // Государство и право. 1995. N 8. С. 89−92.
- Народная война в тылу врага. К истории партизанского движения в Калининской области. М., 1971.
- Наумов Д.Ф. Лесная война. Алма-Ата, 1972.
- Наумов М. И. Западный рейд: Дневник партизанского командира. Клев: Политиздат Украины, 1980.
- Негретов П. Почтовый ящик № 223 // Печальная пристань. Сыктывкар, 1991.
- Неизвестная Черная книга. Иерусалим: Яд Ва Шем- М.: ГАРФ, 1993.
- Некоторые особенности уголовной ответственности гитлеровских военных преступников в СССР // Проблемы теории и практики правоохранительных органов. Сборник трудов молодых ученых. Владимир: ВЮИ МВД РФ, 1999. С. 58−68.
- Некрасов В.Ф., Борисов A.B., Детков М. Г. и др. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996.
- Нужна нам вся правда о Великой отечественной войне? // Труд.2006. 22 июня.
- Нумеров Н.В. Золотая звезда ГУЛАГа. М., 1999.
- Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 7 т. Т. 3, 4. М.: Го-сюриздат, 1958- Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 19 341 941: Справочник. М.: Звенья, 1999.
- О роли военных трибуналов в Великой Отечественной войне // Социалистическая законность. 1970. N5. С.13−14.
- Обухов В.В. Правовые основы организации и деятельности военных трибуналов войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. (Историко-правовое исследование). Дис.. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 11.
- Организационные и правовые основы борьбы с гитлеровскими военными преступниками и их пособниками в боевых условиях и прифронтовой полосе (1941−1954 гг.) // Юристь-Правоведъ. № 3. С. 85−92.
- Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов / Преде, коллегии Н. П. Патрушев. Начало. Т. 2. Кн. 1: 22 июня-31 августа 1941 года. М.: Русь, 2000.
- Органы и войска МВД России. М., 1996.
- Павленко Ю.В., Ранюка Ю. Н., Храмова Ю. А. Дело УФТИ. 19 351 938. Киев: Феникс, 1998.
- Папков С.А. «Контрреволюционная преступность» и особенности ее подавления в Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941−1945) //Урал и Сибирь в сталинской политике / Сб. статей. Новосибирск: Хронограф, 2002. С. 206−211.
- Папков С.А. Сталинский террор в Сибири 1928−1941. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1997- Маслов В., Чистяков Н. Сталинские репрессии и советская юстиция // Коммунист. 1990. № 10 .
- Пережогин В.А. Партизанское Подмосковье. М., 1981.
- Петухов Н., Пипко В., Толкаченко А. Становление военно-судебных органов в России // Российская юстиция. 2003. №. 1. С. 21−22.
- Петухов H.A. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны // Государство и право. 1995. № 8. С. 84−89.
- Полян П.М. Интернированные немцы в СССР // Вопросы истории. 2001. № 8. С. 115−117.
- Попов А.Ю. Деятельность органов госбезопасности СССР на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 2006. № 10. С. 86−97.
- Попов А.Ю. Правовое регулирование деятельности органов госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны // История государства и права. 2006. № 1. С.21−25.
- Приказы по УНКВД КК № 722−732, 1093, 1111, 1124, 1138, 1324, 1743 за август 1941 г. (СФИЦ ГУВД КК. Ф.19. Оп.2. Л.15−29).
- Пшеничный А.П. Репрессии архивистов в 1930-х годах // Советские архивы. 1988. № 6. С. 44−48.
- Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в советском государстве (1917−1934 гг.). Уфа, 1994.
- Рент Ю.А. ГУЛАГ в условиях Великой Отечественной войны // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 1. С. 21−23.
- Романовская В.Б. Репрессивные органы в России XX века. Нижний Новгород, 1996.
- РСФСР фронту. 1941−1945 гг. / Документы и материалы. М., 1987.
- Сабурова Т. Этнические немцы на Севере // Правда Севера. 1999. 21 октября.
- Сальников В.П., Степашин СВ., Янгол Н. Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999.
- Сборник документов и материалов по вопросам труда в период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. 5 января 1944 г.). М., 1944.
- Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР с 23 июня по 31 декабря 1941 г. / Под ред. И. Т. Голякова. Чкалов: Юридическое издательство НЮО СССР, 1942. С. 2.
- Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000.
- Сидоренко В.П. Войска НКВД на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999.
- Сидоренко В.П. Деятельность войск НКВД на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны (1941−1944 гг.). Дисс. канд. ист. наук. СПб, 1993.
- Смерть гитлеровским палачам и их гнусным пособникам // Правда. 1943. 19 июля.
- Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М.: АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2002.
- Старинов И. Г. Записки диверсанта // Вымпел. Вып. 3. М., 1997- Окороков A.B. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. М.: Воен. универ., 2000.
- Степанов М.Г. Репрессивная политика в Хакасской автономной области в период Великой Отечественной войны (1941−1945гг.) // Красноярский филиал правозащитной организации «Мемориал» /www.memorial.krsk.ru. 2007).
- Стецовский Ю.И. Судебная власть. М.: Дело, 1999.
- Судебная власть в России. История. Документы. В 6 т. Т. 5. Советское государство / Сост. O.E. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 2003.
- Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории гор. Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1943.
- Сычев O.A. Пересмотр уголовных дел о контрреволюционных преступлениях // Интернетсайт прокуратуры Ростовской области. 2005 (www.prokuror.rostov.ru).
- Трайнин А.Н. Об уголовной ответственности гитлеровских преступников // Избранные труды. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004.
- Угрюмов О. Музыка на крови // Правда Севера. 1999. 2 сентября.
- Угрюмов О. Немцы // Правда Севера. 1999. 13 мая.
- Уйманов В.Н. Репрессии: как это было. (Западная Сибирь в конце 20-х начале 50-х гг.). Томск: Изд-во Томского государственного университета, 1995.
- Утевский Б.С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР / Под ред. М. Н. Рычкова. М: Юриздат, 1946.
- Ушаков С.Ю., Стукалов A.A. Фронт военных прокуроров. М., 2000.
- Федин Ф.Т. Казалось все предусмотрено // Дуэль. 1997. № 18. С. 14.18.
- Хлевнюк О.В. 1937: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.
- Чарыев М.Р. Деятельность военных трибуналов во время Великой отечественной войны 1941−1945 гг. // Военно-юридический журнал. 2006. № 8. С. 18−23.
- Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне третьего рейха. М.: Эксмо-Яуза, 2004.
- Шубин Г. А. Из истории всенародной борьбы против немецко-фашистских оккупантов в западных областях Белоруссии. Июнь 1941- июль 1944 гг. Волгоград, 1972.
- Якубовский H.A. В тыл врага (Помощь страны кадрами партизанскому движению в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны). Минск, 1979.
- Яцкова А. История советского суда // Отечественные записки. 2003. № 2. С. 30−35.1. Диссертации, авторефераты
- Григуть А.Е. Роль и место органов НКВД СССР в осуществлении уголовно-правовой политики Совесткого государства в годы Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.). Дис.. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Грищенко И.А. Законодательство об уголовном судопроизводстве по преступлениям против советской власти и его реализация в период наиболее масштабных политических репрессий в СССР (1934−1941 гг.). Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
- Дэр H.H. Прокурорский надзор за законностью в системе органов государственного управления СССР (1922−1940 гг.): историко-правовое исследование. Дис .канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005.
- Комаров Д.Е. Великая Отечественная война: боевые действия, власть, народные массы. Региональный аспект. 1941−1945 гг. (на материалах Смоленской области). Автореф. дис.. д-раист.наук. М., 2007.
- Попов А.Ю. Деятельность органов госбезопасности СССР на оккупированной советской территории (1941−1944). Дис.. д-ра ист. наук. М., 2007.223
- Романовская В.Б. Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX века. Дис.. д-ра юрид. наук. СПб, 1997.
- Рябченко А.Г. Органы внутренних дел Краснодарского края в период Великой Отечественной войны (историко-правовой аспект). Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2000.
- Сидоренко В.П. Войска НКВД на Кавказе в 1941—1945 гг.: исторический аспект. Дисс. докт. ист. наук. СПб, 2000.
- Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной политики в России ХУ111-ХХ вв. Дис.. д-ра ист. наук. Краснодар, 2001.
- Христофорова Е.И. Режим в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР (1929 1941 гг.). Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Москва, 2002.
- Янгол Н.Г. Организационно-правовые формы деятельности органов внутренних дел Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (19 411 945 гг.). Дисс. .канд. юрид. наук. М, 1987.