Богословско-философские темы.
История русской религиозной философии
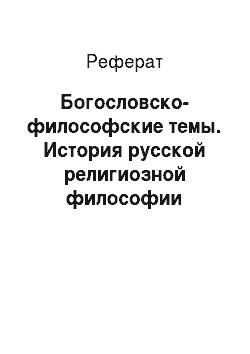
Последовательное отрицание внешнего авторитета в вопросах вероучения в православии приводит С. Н. Булгакова к своеобразной трактовке догматов. Ортодоксальное богословие, как мы уже отмечали, понимает догмат в «значении непререкаемой, бесспорной истины, имеющей абсолютный авторитет и не подлежащей критике». Исходя из такой установки именно символ веры становится критерием истинности церковной… Читать ещё >
Богословско-философские темы. История русской религиозной философии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В послереволюционный период Русская православная церковь оказалась в очень сложной ситуации. Налицо был отход от религии социально-активной и образованной части верующих, который во многом объяснялся не столько социальными преобразованиями, сколько беспрецедентным давлением на церковь со стороны тоталитарного государства, массовыми преследованиями «за веру отцов». К тому же в результате массовой эмиграции за рубежом оказались многие видные священнослужители и наиболее подготовленная в интеллектуальном отношении часть мирян. Все это приводит к заметному постарению церковной паствы, к снижению ее образовательного уровня. В «церковной ограде» остались лишь те люди, которые не мыслили своей жизни вне православия, поэтому среди прихожан в послереволюционные годы преобладали сторонники православного консерватизма. Этот консервативный настрой верующих и обусловил на долгие годы приверженность церковного института фундаментализму. Следует также помнить о том, что массовые необоснованные репрессии, обрушившиеся на духовенство в 20—30-е годы, практически исключили богословское творчество из духовной жизни. Новаторские идеи в богословии были на время в СССР забыты, возвращение к ним началось с конца 50-х годов.
Долгое отсутствие богословского творчества в Советском Союзе не означало, что оно прервалось в русском православии. В 20—50-е годы центр русской богословской мысли перемещается за рубеж, и прежде всего в Париж, где начинают активно заявлять о себе С. Н. Булгаков, В. Н. Лосский, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский, А. В. Карташев, архимандрит Киприан (Керн) и многие другие. За границей, в условиях инославного окружения и на фоне тех радикальных изменений, которые происходили в Советской России, с особой остротой встал вопрос о «верности православному церков;
ному преданию". При ответе на него все соглашались с тем, что надо обратиться к указанию апостола Павла, призывающего: «Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены» (2 Фес. 2:15). Но сразу возникает проблема, что значит «держитесь предания»?
При ее решении в зарубежной православной мысли выявились два подхода, отнюдь не новые для церковного богословия. В первом случае предание понимается как «хранилище веры» (depositium fidei), то есть утверждается его неподвижный и неизменный характер. Во втором случае предание понимается «как живущее и развивающееся в истории» учение. Оно как бы «переводится на язык разных ее эпох». Большинство известных русских богословов, оказавшихся в эмиграции, ориентировались на понимание традиции не как «вечно застывшей формы», а как динамично развивающейся христианской мысли, так как «предание не только хранится, но и творится, ибо живет».
Наиболее последовательно принцип творческого отношения к преданию проявился в богословских построениях С. Булгакова. С его точки зрения, отечественные догматики претендуют на «выражение полноты православного учения», однако в действительности символ веры не может охватить всех сторон вероучения, ибо по многим важнейшим вопросам «излагаются лишь богословские доктрины, распространенные мнения, во всяком случае не догматы, а теологемы»г. Теологема, или теологумен, то есть частное богословское мнение, не должна претендовать на безошибочность и всеобщую обязательность. Поэтому в православии «область догматики не совпадает с наличными догматами, она значительно шире». Следовательно, догматика должна опираться не только на символ веры, но она может «восполняться из других источников, помимо прямых и обязательных догматических определений»[1][2]. Процесс «восполнения» предполагает догматические искания, то есть борьбу богословских мнений, которая «существовала во все времена, существует и теперь». В связи с этим возникает несколько вопросов: главный — о критериях богословской истины, о догматическом развитии, о соотношении догматизма и богословского творчества.
С.Н. Булгаков глубоко изучал эти проблемы, он понимал, что вопрос об истинности того или иного церковного положения, то есть «вопрос о непогрешительном авторитете Церкви представляет собой исключительную трудность в постановке и обсуждении и, может быть, невозможность для окончательного теоретического разрешения»[3]. Католики с их стремлением к «формальной ясности» приписывают высший авторитет в вопросах вероучения римскому папе, объявив его непогрешимым. Протестантизм же «есть религия возгордившейся личности», в нем человек стремится «найти свое обоснование в себе и только в себе», он хочет только «для себя и через себя стать церковью». Булгаков подчеркивает, что протестантизм оказывается «эго-папизмом, в котором каждый… хочет быть для себя папой, притязая, следовательно, на непогрешимость в делах веры»[4]. Критика католицизма и протестантизма у русского мыслителя во многом опирается на аргументы, выдвинутые А. С. Хомяковым. И вывод о том, что папизм и протестантизм, несмотря на формальные различия, в сущности схожи между собой, у них совпадает.
Это созвучие наблюдается и при оценке православия, не случайно Булгаков отмечает, что «отчетливая и радикальная постановка вопроса о вероучительном авторитете в православии принадлежит Хомякову, вписавшему этим свое имя неизгладимо в историю православного богословствования»[5]. Вслед за славянофилами он считает соборность высшим проявлением религиозного сознания, определяя ее как «единство во множестве». Более того, для него соборность и истинность совпадают, ибо быть соборным — значит «быть в истине, а потому и познавать ее». Соборные принципы, наиболее адекватно выраженные в православии, противостоят как католическому авторитаризму, так и протестантскому индивидуализму. Поэтому игнорирование соборности при рассмотрении догматических исканий равносильно «радикальному непониманию православной церковности».
Сложность в раскрытии церковной соборности состоит в том, что «понятия языка не вполне выражают сущность познаваемого», к тому же проявления «единства во множестве» в религиозной сфере многообразно. Наиболее общей классификацией церковной соборности, по мнению С. Булгакова, является выделение в ней двух сторон: внешней, количественной, и внутренней, качественной. Внешнее понимание соборности обращает внимание на связь церкви с соборами, то есть «определяет церковь как содержащую учение всеселенских и поместных соборов». Оно также подчеркивает мысль о том, что «церковь собирает, включает в себя все народы и простирается на всю вселенную»[6]. Поскольку и соборы, и география распространения христианства зависят от исторических условий, от «высоты духовных запросов эпохи», то внешнее проявление соборности обусловлено «человеческим фактором».
Внутренне в определении соборности делается акцент на то, что она «причастна Истине, живет в Истине». Эта истина имеет трансцендентный характер, она не зависит ни от каких внешних условий человеческой жизни. Качественная сторона соборности своим основанием имеет учение о Троице: Бог един и в то же время существует в трех ипостасях, каждая из которых обладает индивидуальными качествами. «Единство во множестве» находит в Троице свое наиболее полное, абсолютное выражение, поэтому «Святая Троица есть предвечная соборность»[7]. В ней содержится «вся полнота самораскрытия» и в то же время вся «полнота единства». При этом «в Святой Троице совершается то, что невместимо для тварного сознания», так как выразить в понятиях ее идею, раскрыть ее содержание невозможно. Для Булгакова соборность является свойством, уходящим в «самые недра церковной жизни», и в этой связи к ней нельзя приобщиться при помощи рационалистических построений. При определении соборных истин необходимо преодолеть «абстрактно-рассудочное понятие об истине», противопоставление субъекта и объекта познания. Православная духовная традиция подчеркивает, что «Истина есть норма бытия, и лишь потом норма сознания». Только при таком подходе можно правильно понять евангельское положение о церкви как «столпе и утверждении истины». Поэтому познание соборных истин означает прежде всего «жизнь в истине, пребывание в истине, словом, не отвлеченно-теоретическое познавание, но конкретно-религиозное бытие»[8]. Такой подход делает понятной существенную связь соборности и онтологизма — двух характернейших особенностей русского менталитета. Та истина, которая не преобразует бытие, не может быть названа соборной, и, напротив, «укорененность истины в церковный народ» свидетельствует о ее соборном характере.
Внешняя, количественная, и внутренняя, качественная, стороны соборности не существуют изолированно друг от друга, они взаимосвязаны между собой как сущность и явление. При этом сущность «дана на века», явление же носит исторически обусловленный характер. Как известно, православное догматическое богословие особое значение в раскрытии «вечных истин веры» отводит вселенским соборам. Булгаков стремится внести уточнения в понимание роли вселенских и поместных соборов в жизни восточного христианства. В православии есть опасность трактовать соборные решения как «внешний непогрешимый авторитет в делах веры». В этом случае православие сближается с католицизмом, но только вместо непогрешимости папы объявляется непогрешимым авторитетом коллективное мнение епископов. Но и в первом, и во втором случаях критерий церковной истины находится не в самом церковном организме, а выносится во вне. Соборные истины принадлежат всему церковному народу и принимаются верующими «не в качестве повелений собора, исходящих от высшей церковной власти, но в качестве выражения воли и сознания всей церкви». Иными словами, даже вселенские соборы имеют значение не в качестве непогрешимого авторитета в делах веры, а они лишь выступают «в качестве средства пробуждения и выявления церковного сознания».
Итак, по мнению Булгакова, православие не знает внешнего вероучителыюго авторитета, «не может и не должно его знать». Критерий истинности вероучения может принадлежать только всей полноте экклезии, и в результате станет понятным, что «церковность есть истинность, а истинность есть церковность». С точки зрения рационализма, подобные тезисы представляют собой «порочный круг», доказывая то же через то же. Однако, как считает русский мыслитель, «этот круг… есть естественные и неустранимые свойства суждения онтологического»[9].
Последовательное отрицание внешнего авторитета в вопросах вероучения в православии приводит С. Н. Булгакова к своеобразной трактовке догматов. Ортодоксальное богословие, как мы уже отмечали, понимает догмат в «значении непререкаемой, бесспорной истины, имеющей абсолютный авторитет и не подлежащей критике». Исходя из такой установки именно символ веры становится критерием истинности церковной мысли и церковной жизни в целом. Для Булгакова же догматы, вернее, их словесное выражение, не могут оцениваться как «высшая и окончательная вероучительная формула». Поэтому он считает, что, «говоря о догматах, приходится иметь в виду не истинность тех иди иных формудировок и определений (которые имеют производное и чисто служебное значение), а правильность или неправильность того переживания, которое положено в его основу»[10]. Фактически речь идет о принижении догматического начала в церкви. В этом плане Булгаков как бы продолжает линию М. Тареева, который декларировал первичность «мистического опыта верующего субъекта» перед догматическими установками. Следовательно, и для Тареева, и для Булгакова догматические формулировки «образуют сферу вторичных явлений», однако если у первого они опираются на «индивидуальный духовный опыт», то у второго — на соборные, общецерковные начала. Исходя из такого понимания значения догматических начал для религиозной жизни, Булгаков считает, что сама догматика должна стать наукой, свидетельствующей «о содержании религиозной жизни, ее внутренних фактов и самоопределений»[11]. Сам же «догматический инвентарь», то есть внешняя форма выражения истин веры, хотя и должен изучаться, но нельзя преувеличивать его значение в религиозной сфере. К тому же, как уже говорилось выше, для мыслителя догматы не могут претендовать «на полное выражение церковного самосознания», они лишь его часть. Поэтому «соборность церковная неизмеримо богаче по содержанию всего того, что выявлено… в церковном учении»[12]. Булгаков в качестве примера наличия «церковных достоверностей», не имеющих догматических формулировок, называет культ Богородицы, почитания святых, отношение церкви к жизни, культуре, творчеству и многое другое.
В изложенном подходе есть определенная опасность, так как он содержит возможность субъективных искажений православного вероучения. Действительно, если нет «догматической ясности и определенности», то появляется соблазн навязать церкви какое-либо индивидуальное или групповое мнение, «не являющееся благодатным». Не случайно церковная традиция, признавая факт отсутствия по многим вопросам догматических формулировок, в то же время всегда подчеркивала необходимость соотносить все явления церковной жизни с догматическими началами. Церковное предание становится таковым лишь тогда, когда согласуется с догматическими установками, вытекает из них.
Философ сам понимал определенную уязвимость своих положений с церковной точки зрения. Он признает, что «православие не может не быть Церковью предания», а значит, оно свое богатство «хочет свято соблюдать, свято чтить, сохранять». К этому богатству относятся прежде всего «основные истины веры», то есть догматы. Но Булгаков считает, что если православие сведет сохранение своего духовного богатства к «законченно-категорической форме», то тогда наступит «оцепенение церковной мысли». По его мнению, «догмат не только статичен в своей данности, но и динамичен в своей заданности или в своем развитии»[13]. Догматическое развитие проявляется как в раскрытии истин веры в истории, так и в их уразумении в живом церковном опыте, своеобразном для каждого верующего. Поэтому принятие догматических истин в православии должно быть не внешним, навязанным церковной иерархией, а «внутренне свободным». Церковное предание, хотя и находится «вне нас», является выразителем «совокупного церковного сознания». Следовательно, оно «свободно подчиняет себе всякого, кто также причастен этому сознанию». Поэтому свобода верующего «необходимо должна быть соединена с церковной дисциплиной и послушанием»[14]. Булгаков в этом плане продолжает линию Хомякова, у которого, как мы уже отмечали, свободное принятие церковной истины требует церковности, то есть оправдание своей свободы верующий находит в следовании церковным установкам.
Итак, в отличие от католического авторитаризма и протестантского «личного произвола» православие предлагает «свободное избрание истины», и тем самым преодолевается ограниченность индивидуального сознания, возникает качественно новое состояние — многоединство. Иными словами, соборные истины «трансцендентны индивиду как таковому», но они становятся для него «имманентными после воцерковления», а значит, и обязательными для исполнения.
Наконец, анализ проблем догматического развития неизбежно затрагивает вопросы соотношения устойчивости и изменчивости в вероучении, взаимодействия церковной традиции и богословского творчества. Церковная соборность, как мы выяснили, согласно взглядам С. Булгакова, содержит ноуменальный и феноменальный уровни. Первый уровень является фактом мистического порядка, он связан с деятельностью Троицы. Но внутренняя, сущностная соборность не может быть сведена лишь к пассивному сохранению истины в небесной церкви или в «сверхэмпирической действительности». Она неизбежно переходит на уровень исторической церкви и обосновывает себя как «действительность эмпирическая».
Мыслитель для обозначения этой активности использует специальный термин соборование. Соборование — это «акт, совершающийся во времени», оно также предполагает «осуществление частями», то есть познание истины, целого происходит по мере развития церкви. Следовательно, «соборность есть факт… порядка исторического, она есть, так сказать, субстрат церковной истории». С. Булгаков пытается вскрыть закономерность соборования. Он приходит к выводу, что в начале этот процесс «проявляется в церковной жизни», то есть в метафизической практике, молитве, созерцании и только после «укоренения в церкви» соборование отражается в сознании, в «вероисповедных формулах». Например, почитание Богородицы в христианстве возникло «ранее богословской мариологии».
Исходя из приоритета церковной жизни перед богословским сознанием, мыслитель делает вывод о том, что «не догмат предписывает религиозную практику, но, наоборот, эта последняя является основанием для догмата». В то же время он, конечно, не отрицает очевидного факта, что после того как догматы станут элементом соборного сознания, они уже служат «основанием для практики». В христианстве церковная жизнь не может мыслиться как «неподвижная и застывшая», напротив, она динамична и разнообразна. В «церковной ограде» в разные времена «выявляется преимущественно та или иная сторона истины» и, исходя из этого, «определяются разные эпохи в истории церкви»: то господствуют христологические вопросы, то тринитарные, то пневматологические и др. В связи с этим понятен вывод Булгакова о том, что соборность «не только есть, но и совершается, и это есть продолжающееся откровение, которое совершается в истории как так называемое догматическое развитие». Догматическое развитие, конечно, не понимается мыслителем в католическом духе, как введение новых догматов, или в протестантском, как отмена «исходных положений символа веры». Догматическое развитие — это соборование, совершаемое «в тех формах, которые свойственны и доступны по месту и времени». Оно делает церковное предание жизненным и, «следовательно, изменчивым и становящимся, потому ис-[15][16]
тинная экклезия никогда не может быть мертвой охранительницей преданий".
Соборование, или «живая соборность», связывает церковь с «местом», то есть с той или иной страной и народом, ее населяющим, и «временем», то есть с историческими реалиями и судьбами этносов. Отсюда понятно, что на феноменальном уровне соборность приобретает национальную окраску, в ней отражается ментальность того или иного народа.
Подобное понимание предания, естественно, накладывает отпечаток и на отношение к богословскому творчеству. Для Булгакова богословие — это также проявление соборования. Роль богословской мысли в истории христианства церковь официально оценила, возвеличив человеческие усилия в этой сфере как «подвиг отцов церкви и вселенских ее учителей». Русский мыслитель подчеркивает, что «дела вселенских соборов», то есть принятие соборных решений, судьбоносных для евангельской религии, были бы «неосуществимы без наличия этих богословских усилий». Однако роль богословия не исчерпывается эпохой учителей церкви, так как «потребность в богословствовании, опирающемся на все доступные средства научного исследования, была налицо во все времена».
В то же время богословское творчество может терять характер соборования, когда превращается в богословскую науку, обслуживающую римского папу, или становится лишь продуктом человеческого разума, делаясь «научным христианством», последнее происходит в протестантизме. Богословие, конечно, должно отличаться личным характером — это индивидуальное самосознание церкви, но оно не может быть «своеличным».
Исходя из этих установок можно прийти к выводу, что богословие антиномично, оно «новое, живое, творческое» явление, несущее на себе личностный отпечаток: но оно и «церковное, неразрывно связанное с соборным опытом». Новая богословская мысль стремится себя «оправдать, обосновать, раскрыть» на основе церковного предания. Согласованность с преданием выступает как «внутренняя норма для личного церковного самосознания». Схоластическое богословие католицизма и теологический рационализм протестантизма отмеченное противоречие не могут «органически разрешить». В первом случае оно решается за счет «дисциплины мысли», в результате которой индивидуальное творчество лишь обслуживает «строго выработанную и согласованную богословскую доктрину». Во втором случае теология лишается «корней в церковной почве» и превращается в «личный произвол». В отличие от этих двух стилей религиозного мышления православие имеет «не столько богословие, сколько богословствование, не доктрину, а скорее „созерцание и умозрение“, вдохновения религиозного опыта, не укладывающиеся ни в какие заранее данные рамки и свободные в своей жизненной напряженности. Это вечно непрекращающийся рассказ о постоянно осуществляемом церковном опыте, полном свободы и вдохновения»[17]. Поэтому в православии различные богословские мнения органично сочетаются с их включенностью в соборное сознание, ведь и сама соборность — это «единство во множестве». Динамика правильной церковной жизни закономерно включает в себя и личное богословствование, и стремление его оправдать сверхличным соборным сознанием. Итак, С. Н. Булгаков трактует богословствование как проявление феноменального уровня соборности, как постоянно продолжающееся соборование. Исходя из этого, понятны требования философа к православной мысли: «не быть застывшей», а выражать себя «на языке современности и для современного сознания». Верность преданию не есть «бегство от нового», но «искание старого в новом, постижение живой связи с ним». Мыслитель призывает православных богословов «покончить с предрассудком, по которому новое является синонимом нецерковного»[18].
Наконец, развитие православного богословия определяется не только «внутренней историей восточной церкви», большое значение в этом процессе имеет соприкосновение восточного христианства с богословскими идеями Запада. Соборование дает возможность увидеть «зерна истины» и в тех направлениях христианства, которые лишены «евхаристического общения с православием». Не копирование и не подражание, а творческая переработка в православном духе достижений западной теологии «сулит богатое и прекрасное будущее православному богословию»[19].
Поскольку соборование, или богословствование, связывает церковь с «местом и временем», постольку она неотделима от географических и исторических реалий, от судеб того или иного народа. Следовательно, на феноменальном уровне соборность с необходимостью приобретает национальный колорит. Условия «места и времени» могут извратить соборные начала, но могут и способствовать их развитию. Булгаков в качестве примера приводит «антиномичный опыт» становления отечественного богословия. С одной стороны, закономерным для России явлением выступает наличие в православной мысли своеобразных и ярких богословских индивидуальностей, друг на друга мало похожих и, однако, «вмещающихся в православие». Действительно, А. С. Хомяков и В. С. Соловьев, митрополит Филарет (Дроздов) и архимандрит Феодор (Бухаров), Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев и многие другие различны между собой, непохожи друг на друга, но каждый из них по-своему выражает «православное самосознание в некой богословской рапсодии». Авторитарный католицизм видит в этом плюрализме мнений «слабость» восточного христианства, — напротив, в нем «красота и сила православия». С другой стороны, в русском православии проявляется и католическое влияние, в результате которого отдельные высшие иерархи и светские «мнимые защитники веры» свои собственные мысли стремятся превратить в «норму православного богословствования». Отсюда — господство духовной цензуры, оторванность православной мысли от насущных общественных проблем и, в конечном итоге, кризисные тенденции, свидетельствующие о том, что церковь «оказалась не на высоте исторических своих задач». Это особенно наглядно проявилось в ходе революционных событий в России, немалая ответственность за которые «лежит на русской церкви». И хотя, конечно, искажение принципов соборности, вмешательство «внешних сил» в органический процесс соборования не может разрушить «благодатно-божественную сторону церкви», но наносит существенный урон историческому бытию экклезии. История России и русского православия, как считает Булгаков, убедительно подтверждают это положение.
Итак, понимание догматического развития и богословского творчества у русского мыслителя носит новаторский характер. Саму церковь он определяет как «жизнь, творчество, порыв», поэтому «закон безостановочного движения имеет здесь силу более, чем где-либо»[20]. Религиозный мыслитель должен в этом процессе найти свое место, что и попытался сделать С. Н. Булгаков своим творчеством.
- [1] Булгаков С. Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в современности. М., 1997. С. 8.
- [2] Там же. С. 9.
- [3] Булгаков С. Н. Очерки учения о церкви//Путь. М., 1992. Кн. 1. С. 177.
- [4] Там же. С. 180.
- [5] Там же. С. 177.
- [6] Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. Киев, 1991.С. 76.
- [7] Булгаков С. Н. Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословствова-нию//Путь. Кн. 1. С. 546.
- [8] Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 79.
- [9] Булгаков С. Н. Очерки учения православной церкви. С. 81.
- [10] Булгаков С. Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 178.
- [11] Булгаков С. Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в современности. С. 21.
- [12] Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 83.
- [13] Булгаков С. Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в современности. С. 20.
- [14] Булгаков С. Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 179.
- [15] Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 84—85.
- [16] Булгаков С. Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 59.
- [17] Булгаков С. Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 180.
- [18] Булгаков С. Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в современности. С. 19.
- [19] Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 108.
- [20] Булгаков С. Н. Два града. Т. 1.М., 1911.С. 17.