Власть выразительности натуры и власть внутреннего переживания художника
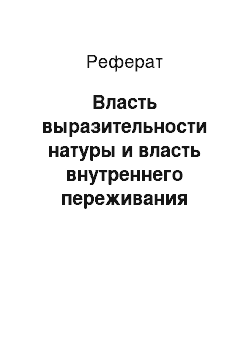
Удивительно спасительными в этой ситуации оказываются возможности вести беседы с вещью, с моделью, с любыми коллизиями жизни и самого сознания, запечатлеваемыми средствами живописи, литературы, драматургии. «Пусть будет благословен гот, кто выдумал письменность, этот разговор человека со своей собственной мыслью, это средство для снятия бремени с его души. Он предотвратил не одно… Читать ещё >
Власть выразительности натуры и власть внутреннего переживания художника (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Сами деятели изобразительного искусства тонко чувствовали известную антиномичность творческого процесса: с одной стороны, очевидную власть выразительности натуры, а с другой — власть собственного внутреннего переживания, рвущегося к во-площению и именно в натуре обретающего свою человечески-индивидуальную символику. Э. Дега, например, размышляя о важности одного и другого, требует от художника, чтобы при воспроизведении предмета «чувствовался его владелец». То есть рисовать предметы обихода так, чтобы в них чувствовалась жизнь их хозяина — мужчины или женщины (например, только что снятый корсет еще хранит форму тела). Иначе говоря, в произведении должен ощущаться след «индивидуального прикосновения». Вместе с тем Дега настаивал, что в картине важно запечатлеть не отпечаток собственного чувства мастера, а попытаться сделать из нее этюд «современного чувства«*.
Существенна ли дилемма «выразительность натуры» — «выразительность индивидуального видения художника» для других видов искусств? Полагаю, что и в тех видах творчества, где нет явного обращения к натуре, все равно ощущается эта проблема. Даже в музыке, предметом которой, как может показаться, является прямая исповедальность, композитор способен ощущать власть Другого и необходимость считаться, взаимодействовать с ним. Так, существует «музыкальный словарь эпохи», «музыкальное ухо эпохи» как набор устойчивых лейтинтонаций, языковых приемов, обладающих для слушателей моментально прочитываемой символикой, как свод художественно-языковых норм, которые сами по себе безличны. Эти «ставшие» языковые клише и выступают в музыке как своеобразная натура, абсолютно не считаться с которой невозможно, и с которой вступает во взаимодействие любой композитор в стремлении выразить свое индивидуальное видение. Тот же свод «естественной выразительности», подобно которому в живописи выступает натура или модель, можно обнаружить и в поэзии. Ахматова однажды высказала такую неожиданную оценку молодому автору: «Ваши стихи не очень талантливы, потому что они — недостаточно бесстыдны»[1][2]. Ясно, что речь здесь шла об опасности обезличенных норм, правил, наработанных приемов ремесла. Устойчивые языковые клише в лирической поэзии, в музыке — это та же неоживленная натура, «безусловность», как нечто предстоящее художнику.
Возникает вопрос: не кажутся ли сегодня банальными тезисы теории художественного творчества, все время пытающиеся взвешивать и определять оптимальный баланс внешней выразительности и выразительности внутренней, явленного и сокрытого, объективного и субъективного в произведении искусства? Не обстоит ли дело так, что новейшая художественная практика движется к нахождению иных форм живописного (и в целом, художественного) артистизма, черпая новую, обогащенную энергетику сугубо во внутренней жизни, в недрах индивидуального воображения творца? Не изменились ли сегодняшние представления о непреложности баланса «Я» — «He-Я» в любом произведении искусства?
Действительно, лексика современных произведений искусства настолько мощно способна мобилизовывать сложные ассоциации, аллюзии, культурные символы, что сегодня уже очень скупыми средствами можно выразить плотную содержательность. Путь от детали к целому в XX в. оказывается гораздо короче, чем в предыдущие времена. Пикассо еще столетие назад утверждал подобное: «Важная особенность современного искусства вот в чем. Такой художник, как, например, Тинторетто, начав картину, работал над ней до тех пор, пока все полотно не было прописано и всюду проработано, тогда только картина была закончена. Л если взять картину Сезанна (еще виднее это в его акварелях), то как только он положил первый мазок, картина уже существует»[3].
Казалось бы, такие наблюдения позволяют судить о возрастании удельного веса «Я» в балансе природно-явленного и индивидуально-творческого. Однако не следует думать, что содержательная наполненность творческого «Я» существует уже до акта созидания. Множество обстоятельств свидетельствуют о постепенном прорастании взаимного диалога художника и модели, этапах постепенного «присвоения» творцом сущности предмета изображения, что, несомненно, вносит изменения и в его человеческую самость. Получается, что на каждом новом этапе погружения в натуру уже и сам художник не равен себе предыдущему, он изменяет высоту планки, исходную точку отсчета и такой процесс оказывается едва ли не бесконечным… Так, Э. Мане, работая над портретом Евы Гонзалес, каждый раз начисто смывал лицо, чтобы на другой день начать писать его вновь. И только на 40-й сеанс портрет был написан в течение дня. М. Пруст рассказывает, что Мане семь или восемь раз начинал его портрет, а после этого сделал его в один прием. Как известно, и Дега никогда ие был вполне удовлетворен своими произведениями. История хранит исключительные примеры превышения его замысла над состоявшимся исполнением: так, в 1874 г. крупный коллекционер, знаменитый баритон Ж.-Б. Фор по просьбе Дега выкупил у коллекционера П. Дюран-Рюэля шесть законченных и уже год назад проданных произведений Дега с тем, чтобы художник мог еще продолжать над ними работать (!)[4].
Показательно в этом отношении и поведение Врубеля, ощущавшего в себе изменения, происходившие в течение всего процесса собеседования с картиной и стремившегося к их максимальному выражению. В 1902 г., когда его картина «Демон» была экспонирована в Петербурге на выставке «Мира искусства», художник продолжал корректировать, дописывать полотно. «Михаил Александрович, — вспоминает Е. Ге, — несмотря на то, что картина была уже выставлена, каждый день с раннего утра переписывал ее, и я с ужасом видела каждый день перемену. Были дни, что „Демон“ был очень страшен, и потом опять появлялись в выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота. Михаил Александрович говорил, что теперь уже Демон не повержен, а летит и некоторые видели полет Демона»[5]. Для Врубеля, как известно, было очень важно быть свободным от любой явной сюжетности, привходящей тенденции. Его наслаждение орнаментальной живописностью картины — фантастической, таинственной, словно мерцание кристаллов драгоценных камней — возникало, по словам самого художника, как результат «ведения любовных бесед с натурой».
Все эти свидетельства проливают свет на творчество не только как интенсивное постижение внутренних характеристик модели, но и как процесс, требующий, но ходу дела гибкого изменения точек отсчета в духовных ориентирах самого автора, особой возгонки его нутра. В непрерывных пульсациях новых вариантов, перечеркиваний, новых способов приближения к модели просвечивает стремление художника к глубинному взаимообмену с сущностью изображаемого, желание достичь максимальной неразличимости в интерпретации «чужого» как своего. Яркий пример рождения такой итоговой предельной слитности — признание Флобера, прямо заявившего читателям своего знаменитого романа: «Эмма Бовари — это я».
Любая личность способна по-новому выявлять себя, вступая в отношения не только с другими личностями, но и с любыми предметами своего окружения. «Я могу ощущать дерево как движение: соки, бегущие по сосудам, льнущая и жаждущая сердцевина, сосущие корни, дыхание листьев, непрестанный обмен с землей и воздухом», — это написал М. Бубер, известный мыслитель XX в., не устававший подчеркивать, что любое отношение есть взаимность. «В таком случае я и сам — неуловимый рост дерева», — так мог бы сказать о себе не только Бубер, но и В. Ван Гог, и любой иной пейзажист.
Буберу, а ранее — Э. Гуссерлю принадлежит в философии заслуга разработки онтологических, экзистенциальных проблем диалога. Важнейший их тезис состоит в том, что монологическое бытие — обескровлено, герметично и в итоге — губительно для человека. Существует всем знакомый феномен рефлексии, сознание человека может многократно обращаться к самому себе, беседовать, советоваться с собой, опровергать, искать. В таком случае монолог может искусно маскироваться под диалог, а неведомые пласты человеческого «Я» — попеременно отзываться на внутренний голос, так что человек будет совершать новые и новые открытия, полагая, что он и в самом деле познал «зов» и «вслушивание». Однако рано или поздно «наступит час такого последнего и обнаженного одиночества, когда безмолвие бытия окажется невыносимым»[6].
Удивительно спасительными в этой ситуации оказываются возможности вести беседы с вещью, с моделью, с любыми коллизиями жизни и самого сознания, запечатлеваемыми средствами живописи, литературы, драматургии. «Пусть будет благословен гот, кто выдумал письменность, этот разговор человека со своей собственной мыслью, это средство для снятия бремени с его души. Он предотвратил не одно самоубийство!», — воскликнул однажды Бодлер. Очевидно, в эти минуты встречи «Я» и «Ты» включается какой-то важный механизм, преодолевающий субъективность каждой из сторон, выводящий их в поле надличностных смыслов. Цельность и полнота человеческой жизни, таким образом, может быть обретена не через культивирование отношений к собственному «Я», не на пути сколь угодно глубоких медитаций и самоуглублений, а с помощью приглашающего жеста руки, через развертывание отношений к другому «Я». Это другое «Я» может быть столь же ограниченным и обусловленным, как и его собственное, но вместе с этим другим «Я» оно прикоснется и к безграничному и к безусловному.
Однако человек, обнаруживший и установивший желанную зависимость, «добровольное пленение» Другим, не всегда затем оказывается свободен в возможностях перефокусировки своего взгляда. Интересное наблюдение на этот счет высказал Т. Манн в одной из своих самых эмоциональных новелл «Хозяин и собака». Близость автора и его любимого пса Баушана была столь сильна, что писатель был не в состоянии заниматься обычной работой, если его друг просто-напросто возлежал рядом в комнате. «В нас настолько крепко сидит уважение ко всему живому, что присутствие хотя бы собаки стеснительно»[7]. Интенция Другого, молчаливо наблюдающего, ожидающего, взыскующего вторгалась в сознание и оттягивала внимание, силы, необходимые в писательском труде для самоконцентрации. Многие исследователи также отмечали этот феномен трудного преодоления однажды вспыхнувшей незримой связи. В такой ситуации любое «Я» может легко оказаться уязвимым. Эта уязвимость рождается в результате «неотступности другого существа или приближения его. Страдать из-за другого существа — значит озабочиваться им, сносить его, быть па его месте, быть снедаемым им. Любовь и ненависть к ближнему, как рефлектированные установки, уже заранее предположили эту уязвимость — милосердие,"стон утробный»"[8]. Триумф взаимного проникновения друг в друга влечет за собой, таким образом, множество последствий.
- [1] Мастера искусства об искусстве. Т. 5. Ч. 1. С. 38, 40.
- [2] Цит. по: Волков С. М. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2004. С. 413.
- [3] Мастера искусства об искусстве. Т. 5. Ч. 1. С. 313.
- [4] Там же. С. 57.
- [5] См.: Врубель: переписка: воспоминания о художнике. С. 37.
- [6] Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа, 1993. С. 122.
- [7] Mann Т. Хозяин и собака // Манн Т. Новеллы. Л., 1984. С. 152.
- [8] Левинас Э. Время и другой: гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 1998. С. 233.