Совращение через подсознание
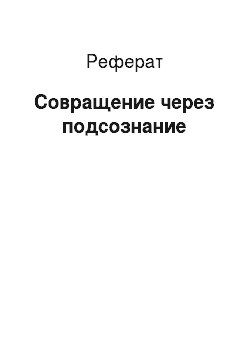
В какой мере рекламная среда неощутимо, через подсознание, программирует социальное поведение людей? Что делает «массаж подсознания» с человеческой психикой? Неосознанное восприятие символических рекламных оргий и кошмаров травмирует и угнетает психику людей. Трезвому пониманию действительного положения вещей препятствует всепроникающий характер массовых коммуникаций. Североамериканское общество… Читать ещё >
Совращение через подсознание (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Американский публицист Уилсон Ки обратился к анализу отношений «реклама — /зритель/ — потребитель», которые к началу 70-х годов считались в западной социологии практически не изученными. Поданным американских социологов, взрослый житель США тратит на чтение газет в среднем 32 минуты ежедневно, воспринимая при этом (большей частью неосознанно) 9−10 тысяч слов. С учетом других массовых печатных изданий эта цифра достигает 20−30 тысяч. Приходящаяся на американца ежедневная «порция телевизионных программ — 6,5 часов хроники, рекламы, различного рода представлений, фильмов и т. п. — это еще 70−80 тысяч слов. Если к этому добавить несколько тысяч слов, которые житель США каждодневно слышит по радио, то в итоге получится не менее 100 тысяч слов, тщательно подобранных, прошедших цензуру и отредактированных. Заключенная в них информация, по мнению многих американских социологов, оказывает решающее воздействие на мотивы повседневного социального поведения людей и, в конечном счете, на само поведение. Значительная часть такого рода информации приходится на рекламу, тем более что эта мощная отрасль индустрии услуг (ежегодный оборот 20 миллиардов долларов) — главный источник финансирования средств коммуникации.
Сто лет назад было установлено и доказано существование подсознательного восприятия как одной из сфер человеческого чувственного опыта. В 1957 году канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд эмпирически продемонстрировал функции мозговых механизмов подсознания: его пациенты во время операции как бы вспомнили давно забытые ими ощущения и события. В смелой хирургии открытого мозга Пенфилд подвергал живой мозжечок находящихся в сознании пациентов электрической стимуляции и просил их сообщать, что они испытывают. Пациенты сообщали о необыкновенно ярких воспоминаниях. Малейшее изменение стимула вызывало отчетливо различимые мысли. Пенфилд нанес на карту расположение каждого воспоминания в мозге, просканировав его поверхность своим зондированием.
Первым сюрпризом было то, что эти воспоминания появлялись повторяясь, в чем годы спустя увидят подобие магнитофонной записи, «проигрывания хита». Пенфилд в своем отчете о постэпилептической галлюцинации 26-летней женщины использует термин «ретроспективный кадр»: «У нее несколько раз были явления того же ретроспективного кадра. Они имели отношение к дому ее кузена или поездке туда — поездке, которую она не предпринимала в течение десяти — пятнадцати лет, но часто ездила туда ребенком».
Результатом исследований Пенфилдом живого мозга был стойкий образ его полушарий как удивительных записывающих устройств, которые, казалось, фантастической способностью запоминания соперничали с недавно популярным фонографом. Каждое из воспоминаний было тонко выгравировано на своей собственной пластине, тщательно каталогизировано и зарегистрировано мозгом и могло быть воспроизведено, подобно песне музыкального автомата, нажатием соответствующих кнопок.
Все же подробное рассмотрение необработанных расшифровок Пенфилдом его зондирующих экспериментов показывает, что память процесс нс столь механический. Один из примеров — некоторые из ответов 29-летней женщины на уколы Пенфилда в левую височную долю: «Что-то приходит ко мне откуда-то. Сновидение». Четыре минуты спустя, точно в том же самом месте: «ландшафт, кажется, отличается оттого, что был перед этим…» В близлежащей точке: «Подождите минуту, чтото вспыхивает надо мной, мне что-то снится». В третьей точке, дальше вовнутрь мозга: «Мне продолжает что-то сниться». Возбуждение повторено в том же месте: «Я продолжаю видеть вещи — мне продолжают сниться вещи».
Эти записи говорят, скорее, о сноподобных проблесках, нежели о дезориентирующих повторных показах раскопанного в подвальных закутках архивов разума. Субъекты этих опытов признают их как фрагментарные полу-воспоминания. Они блуждают с тем небрежно «смонтированным» привкусом, с каким возникают сновидения — несфокусированные сплетни из осколков и частей прошлого, переделанного в коллаж сновидения. Эмоциональная окраска дежавю отсутствовала. Никакого особого смысла, что это «подобно тому, что уже было» в отношении к настоящему не выдвигалось. Проигрывания никого не вводили в заблуждение.
Человеческие воспоминания терпели крах. Они терпели крах в каждом случае своеобразным путем, забывая овоши в списке продуктов, покупаемых в бакалее, или забывая об овощах вообще. Воспоминания часто повреждаются в тандеме с физическим ушибом мозга, так что мы должны ожидать, что некоторые воспоминания связаны в некоторой степени временем и местом, поскольку связь со временем и пространством — одно из определений реальности.
Но современные представления познавательной науки склоняются больше к новому образу: воспоминания, возникающие подобно событиям, суммируются из многих дискретных, не подобных воспоминаниям фрагментов, сохраненных в мозгу. У этих обломков полу-мыслей нет какого-либо фиксированного собственного места; они пребывают в мозгу повсюду. Их способ сохранения существенно отличается от мысли к мысли — обучение тасовать карты организовано иначе, чем изучение столицы Боливии, и способ этот тонко различен у разных людей, и столь же тонко — в различные моменты времени.
Есть более вероятные идеи/переживания, чем способ комбинирования нейронов в мозгу. Память тогда должна организовываться таким образом, чтобы размещать больше возможных мыслей, чем она имеет мест для их хранения. У нее не должно быть ни полки для каждой мысли о прошлом, ни места, зарезервированного для каждой потенциальной мысли о будущем Ссылаясь на основоположников психоанализа, Уилсон Ки пишет, что неосознанная субъектом информация, в течение долгого времени таящаяся в глубинах подсознания, может послужить единственным побуждением к совершенно немотивированным, на первый взгляд, поступкам и действиям. Использование этого феномена дает возможность предпринимателям манипулировать в своих интересах желаниями и склонностями потребителей. Дело в том, что «человеческий мозг функционирует крайне неэффективно. Люди „знают“, то есть сознают, лишь малую часть того, что они в действительности знают. Громадные запасы информации, хранящиеся в глубинах подсознания, являются основным источником важнейших убеждений и первичных (интуитивных) оценок. Сознательная же оценка, рационализация, придание чему-либо определенного значения зачастую есть не более чем результат сложного процесса приспособления к подсознательным убеждениям» (Совращение через подсознание: тайные способы, присеняемые в рекламе, с. 19).
В октябре 1962 года в Патентном бюро США было зарегистрировано новое изобретение, имеющее самое непосредственное отношение к проблеме человеческого подсознания. Речь идет о тахистоскопе — приборе, который впервые сделал возможным прямое вторжение в сферу подсознания и направленное воздействие на него. Тахистоскоп — это устройство, посылающее на экран во время киносеанса рекламные кадры-импульсы, повторяющиеся каждые пять секунд с экспозицией в 1/3000 секунды. Потребитель не в состоянии сколько-нибудь сознательно воспринимать такого рода информацию, и вышеназванные импульсы неуловимы даже для человека, пытающегося их обнаружить. Эффективность этой невидимой рекламы целиком связана с подсознательным, неконтролируемым восприятием ее.
Демонстрация тахистоскопа вызвала бурное возмущение американцев. Американцы очень чувствительны к сколько-нибудь явным покушениям на их якобы независимые взгляды и суждения, и результаты испытаний прибора показали истинную цену этой «независимости». В течение шести недель 45 699 зрителей, побывавших в кинотеатре, где был установлен тахистоскоп, подсознательно воспринимали два простеньких рекламных призыва: «Проголодались? Ешьте поп-корн» и «Пейте кока-колу». В результате спрос на эти продукты в округе возрос соответственно на 57,7% и 18 %>.
После этого эксперимента ряд ведущих американских печатных изданий поместили резкие протесты общественности. В законодательных инстанциях шести штатов и даже в сенате США появились законопроекты о запрете коммерческого использования какой-либо техники воздействия на подсознание. Эти проекты имели в свое время широкую огласку, однако ни один из них так и не получил силу закона. Тем более странным представляется поистине всеобщее убеждение американцев в противозаконности манипуляций подсознанием потребителей. Так, в ходе опроса, проведенного среди крупных бизнесменов и ответственных служащих муниципалитетов, 90% опрошенных выразили уверенность в том, будто рекламное применение техники, влияющей на подсознание, уже давно запрещено как в США, так и в Канаде.
По словам Уилсона Ки, американцы относятся к рекламе с удивительным безразличием, а средства массовой коммуникации по-своему культивируют это безразличие. Дело в том, что иллюзия независимости потребителя — необходимое условие успеха рекламной кампании. «Люди утверждают, что они не обращают внимания на рекламу, что они привыкли решать свои дела сами, собственным умом, и говорят это вполне искренне. Индустрия массовых коммуникаций уже давно открыла эту „сопротивляемость“ рекламе, которая вырабатывается у потребителя на сознательном уровне восприятия. Но подсознание человека беззащитно, и именно на него-то и обращено сейчас внимание специалистов по рынку».
Поэтому художники, занятые в области рекламы, пишет Уилсона Ки, стараются сделать эту последнюю неинтригующей, «туповатой», малопривлекательной для критического, разумного осмысления. Если это удается, подсознание потенциального покупателя становится наиболее уязвимым для обработки специальными приемами. Ставшее расхожей банальностью выражение «кричащая реклама» в полной мере отражает, по мнению автора, всеобщее глубокое заблуждение насчет сущности современной рекламы. «Реклама не кричит, не привлекает к себе внимания, то есть осмысленного взгляда. Истинное содержание рекламы обрушивается непосредственно на подсознание, порабощает его и, в результате, командует потребителем».
Для продавца, рекламирующего товар, самое страшное — это безразличие возможного покупателя. Поэтому реклама обязательно должна вызывать эмоции, причем эмоции, недоступные контролю сознания, ибо «если смысл подсознательной информации становится очевидным для сознания, значит убеждающий потенциал этой информации разрушен». Значима только сила эмоционального импульса, так что «эффективность рекламы никак не связана со смысловой окраской вызываемых ею эмоций: они, повторяем, не должны быть осознанными».
По мнению многих западных исследователей рекламы, в круге эмоциональных переживаний человека важнейшее место занимают так называемые «подпольные» переживания, находящиеся в конфликте с социально-культурными «табу». Темы таких переживаний обычно связаны с зарождением, началом жизни (любовные или сексуальные мотивы), либо с концом жизни, умиранием (мотивы страха смерти). В течение многих веков именно к ним были обращены символы древних примитивных религий. Сейчас эти темы самые популярные в «творчестве» мастеров «подсознательного* убеждения, сотрудничающих в американских рекламных агентствах. Излюбленным приемом современных художников рекламы является так называемое «внедрение» (embedding) «Внедрение» как художественный прием — это тщательное вписывание в фон рекламной картинки либо в пространство между изображенными здесь предметами или фигурами символов или чаще всего слов, несущих большую эмоциональную нагрузку, но скрытых от сознательного восприятия. Эти «внедренные» невидимые рисунки моментально воспринимаются на подсознательном уровне практически каждым человеком. И поскольку современный человек привык доверять фотографии, печатная реклама в массовой периодике обычно подается как высококачественная цветная фотография. Наделе же рекламная «фотография* сплошь и рядом является художественным полотном, исполненным акриловыми красками с применением специальной техники. Такая техника позволяет, во-первых, добиться сверхъестественной «фотографической» убедительности, недоступной собственно фотографии, и во-вторых, создает наилучшие условия для «внедрения» в рекламу информации, ориентированной на подсознание. Наиболее популярным словом у художников рекламы, своего рода «классическим» материалом внедрения, является «секс». Зачастую для этой цели используются и нецензурные слова, иногда складывающиеся в своего рода мозаику.
Изучив рекламу ряда американских массовых изданий, Уилсон Ки пришел к выводу, что такая практика — дело обычное, широко распространенное. По его свидетельству, каждое мало-мальски крупное рекламное агентство имеет в штате по крайней мере одного специалиста-художника, владеющего техникой внедрения; азы такой техники преподаются в большинстве школ коммерческого прикладного искусства.
Некоторые читатели, пишет Уилсон Ки, моментально воспринимают намеренно «внедренные» рисунки, то есть видят их сразу. Но для большинства людей «внедренная» в рекламу информация остается невидимой до тех пор, пока они путем специальной тренировки (на это могут уйти недели) не научатся «выключать» сознание и расслабляться, рассматривая рекламу. «Внедренные» слова, символические оргии и кошмары чаще всего бывают тщательно вписаны в стаканы со льдом и алкоголем: жидкая, эффектно подсвеченная фактура дает богатые возможности как для умелого художника, так и для «подсознательной» фантазии потребителя.
Одним из наиболее эффектных средств в искусстве обработки подсознания аудитории служит использование стереотипов. «Мир массовых коммуникаций США — это, прежде всего, мир стереотипов, мир иллюзорный, далекий от реальности. Каждое издание покупается и читается, потому что может сказать читателю то, что он хочет услышать о мире и о самом себе как о центре его мифической «Вселенной». Эта «Вселенная» населена министрами и баскетболистами, космонавтами и популярными певицами, героями комиксов и монархами, и, конечно же, бесчисленными персонажами рекламы, — личности подлинные и вымышленные, все они имеют характерные признаки образов-стереотипов благодаря настойчивой и высокопрофессиональной деятельности жрецов «масс-медиа» (с. 37).
Говоря о стереотипе как инструменте манипуляций подсознанием, можно привести в качестве иллюстрации пример так называемой «семейной стереотипизации», когда в глазах рядового гражданина «герои» массовых коммуникаций приобретают черты членов некоей «психологически идеальной» семьи, состоящей из отца — лидера политического, матери — лидера духовного, ребенка-умельца и ребенка-шута. Такая мифическая семья существует в подсознании миллионов жителей стран как образцово-безупречная ячейка общества. Например, с удивительной естественностью соответствуют своим «семейным» прототипам персонажи многих популярных телешоу, участники ансамбля «Битлз», хоккеисты-профессионалы из «Бостон брюинз», правительственные кабинеты, в частности, администрация Никсона в ее первоначальном составе: роль «духовного лидера» «масс-медиа» отводили бывшему государственному секретарю Роджерсу, роль «ребенка-умельца» — Киссинджеру, а роль «шута» — Спиро Агню с его скандальными публичными выступлениями.
Кстати, образ президента всегда был одним из наиболее фальшивых стереотипов мира массовых коммуникаций США. Ведь любой преуспевающий американский политик уже в силу своего положения — личность противоречивая, скрытная и неоднозначная. Однако образы послевоенных президентов США, так хорошо знакомые американцам по журналам и телевидению, просто поражают своей незамысловатой ясностью, завершенностью и прямо-таки неправдоподобной глупостью. Такой прием принижает и «приближает» к рядовому обывателю статус высшей государственной власти, создает неосознанное чувство доступности президента, порождая тем самым демократические иллюзии. Любой стереотип, оставаясь нереальным, нуждается, тем не менее, в постоянном уточнении, совершенствовании. Это необходимо дни поддержания и упрочения иллюзии его подлинности, его жизнеспособности.
За последние годы массовая периодика США переживает сложный процесс переориентации на более узкие и специальные аудитории: закрываются, не выдержав конкуренции, некогда популярные иллюстрированные журналы «для всех», а каждое новое издание создается в расчете на вполне определенный круг читателей, причем успех каждого из этих изданий зависит от того, насколько точными окажутся стереотипы новинки, насколько они близки именно данной аудитории.
Поскольку же ни одно массовое издание экономически не может уцелеть сегодня без рекламы, причем рекламы успешной, изучение качественных и количественных характеристик аудитории — важнейшая задача не только для издателя, но и для рекламных агентств: специфическая читательская аудитория есть в то же время и специфический рынок для специфических товаров, требующих специфической рекламы Полуподпольные издания так называемой «молодежной субкультуры» сыграли ведущую роль в рекламе многих товаров молодежного рынка. Существует тесная взаимосвязь аудитории — потребителя стереотипов и аудитории — потребителя товаров. Культ молодежи, исповедуемый средствами массовой коммуникации, дал рынок целым новым отраслям промышленности, и многочисленные молодежные «революции» получают благодаря «масс-медиа» свое экономическое воплощение в дополнительных миллиардах долларов капиталистической прибыли.
Эксперты скептически относятся к мифу об исключительном положении молодежи в американском обществе, они не верят в прогрессивный характер молодежного миросозерцания. Современный американский подросток, пишет автор книги, с его непомерным самомнением и инертностью, вскормленный тщательно приготовленным варевом из приглаженных намеков на мировые трагедии, есть существо недоразвитое. Эту недоразвитость можно целиком относить на счет разрушительного действия средств массовых коммуникаций, которые свой «главный побудительный мотив, мотив дохода… искусно трансформируют в мотив «общественного интереса». Иллюзия «общественного интереса» поддерживается и усиливается другими социальными институтами, поскольку «…средства массовых коммуникаций должны служить интересам, — как очевидным, так и скрытым, — господствующей системы власти в «любом обществе» .
Ущербность чувственного восприятия современного молодого американца связана с его оторванностью от реальной жизни, с убожеством стереотипов, навязываемых ему средствами «масс-медиа». Модели для личного поведения и поступков выискиваются сегодня не в мифах о богах и богинях, не в жизни наших известных воинов, ученых, художников, путешественников или интеллектуалов, не в страданиях мучеников, святых и героев, но в стереотипной рутинной шелухе, перемалывающейся на телестудиях, — шелухи, большая часть которой незаметно проникает в наше подсознание и определяет наши основные ценностные ориентации.
Современную рекламу можно считать наиболее тщательно фабрикуемым продуктом массовых коммуникаций. Высокая экономическая эффективность рекламы приносит огромные прибыли предпринимателям и вместе с тем вынуждает их расходовать на рекламу громадные средства, оплачивая идеи и таланты лучших специалистов в области современного изобразительного искусства и прикладной социологии. Неудивительно, что рекламные стереотипы сработаны с изысканной точностью: при всей их кажущейся примитивности, они формируют в подсознании читателя и зрителя естественное стремление к идентификации с ними, стимулируют и программируют поведение человека как потребителя.
Уилсон Ки включил в книгу несколько десятков иллюстраций — рекламных картинок из журналов и из телевизионных передач. По его мнению, какой бы ни была печатная реклама, она не рассчитана на внимательное разглядывание, тем более на анализ. Восприятие ее, как на сознательном, так и на подсознательном уровне, должно быть моментальным: читатель обычно не смотрит на рекламу более 1−3 секунд, и либо она действует мгновенно, либо затраченные на нее деньги можно считать выброшенными на ветер. Уилсон Ки утверждает, что потребитель за эти мгновения попросту не может сознательно воспринять подчас довольно сложные комбинации предметов и фигур: эффект рекламы едва ли не всецело определяется «подсознательным» импульсом.
В качестве примера автор приводит рекламу виски «Сигрэм», помещенную в журнале «Тайм». Анализ некоторых характеристик читательской аудитории (возраст, пол, образование, доход) позволяет ему предположить, что в семьях читателей журнала по большей части доминируют работающие, образованные и материально независимые жены. Рекламная картинка изображает «коктейль-парти» в кругу близких друзей. Что же здесь может стимулировать сбыт виски «Сигрэм»? Что на самом деле происходит во время рекламной вечеринки? На переднем плане привлекательная блондинка, по-видимому, хозяйка дома, прислонясь спиной к зеркалу, с полуулыбкой выслушивает франтоватого мужчину, который явно не хочет, чтобы его слова слышал кто-нибудь еще из присутствующих. В глубине комнаты и в зеркальном отражении видны другие пары, судя по строгой одежде, гости, и мужчина в зеленом пиджаке домашнего покроя, скорее всего муж хозяйки, которая тоже одета «по-домашнему*. Собеседник ее, одинокий мужчина — холостяк, девятый в этой компании семейных людей, пытается (судя по выражению лиц собеседников) соблазнить хозяйку. Читатели-мужчины будут подсознательно идентифицировать себя с холостяком, женщины — вероятно, с хозяйкой, которая не без благосклонности относится к возможности адюльтера. Ее зеркальное отражение говорит о скрытой стороне натуры: яркое и заметное обручальное кольцо в зеркале перечеркнуто щелью между секциями зеркальной стенки, то есть в глубине души наша хозяйка свободна от ограничений замужества. На стене комнаты, как раз над головой хозяйки, висит малозаметная картинка с изображением обнаженной девушки, размышляющей о чем-то, и мужчины, ждущего, похоже, ее решения. Символизм этой картинки усиливает подсознательный импульс рекламы. Три стакана, два с напитком и один пустой, стоящие на столике впереди, недвусмысленно намекают на традиционный любовный треугольник и еще раз подчеркивают пикантность ситуации.
Вот, оказывается, какую невинную интрижку предлагает потребителям фирма «Сигрэм» вместе с бутылкой виски. Читатели журнала, мужчины и женщины, бессознательно отождествляя себя с «героями» рекламы, беззащитны перед ее командой: «Купите! Это же вы!» Ограниченные возможности* сознательного восприятия, его «несовершенство» позволяют скрыть истинные смысл рекламы: индивидуальное сознание обычно блокирует шокирующую, неприемлемую информацию. Зритель буквально не может поверить своим глазам, он инстинктивно отвергает очевидное, если это «очевидное» идет вразрез с его системой культурных ценностей. Но импульс, отвергнутый и подавленный, тем не менее воспринимается, действуя на психику потребителя через подсознание, что в конечном счете и определяет коммерческий успех рекламы.
Одна из иллюстраций, помещенных в книге, комментируется автором в качестве примера такого рода стимулирования. Речь идет о рекламе’годовой подписки на «Плейбой», предлагаемой в одном из номеров этого журнала в качестве лучшего подарка к рождеству. Изображена обнаженная девица, которая вяжет лентой большой венок. Сам венок (автор обращает на это внимание читателей) настолько невзрачен, что его попросту не хочется рассматривать. Уилсон Ки опросил 100 читателей «Плейбоя» и 95 из них смогли пересказать рекламу. Он называет этот интерес поразительным, тем более что номер содержит 260 страниц, а тема рекламы почти никого из опрошенных не интересовала (практически весь тираж поступает в розничную продажу). В результате последующего опроса выяснилось, что не обнаженная девица привлекла внимание читателей (читателей «Плейбоя» этим трудно удивить), многие се вообще нс запомнили, венок же запомнили все. Однако никто из опрошенных не смог назвать причину этого интереса, даже после того, как им была предоставлена возможность еще раз познакомиться с картинкой.
Венок и в самом деле представляется любопытным, пишет Уилсон Ки, хотя, повторяет автор, внимания он не привлекает. Из чего он сплетен, сказать трудно, запомнить же — просто невозможно, что и подтверждают результаты проведенного социологом опроса. На первый взгляд, венок состоит из каких-то неопределенных плодов. Но требуется лишь минимум внимания, чтобы сущность рекламы проявилась с пугающей очевидностью: цветочки венка — это определенно «клубничка», порнография разнузданная и возмутительная, в сколько-нибудь открытом виде совершенно невозможная для публикации в массовом журнале, даже в «Плейбое».
Посвящая одну из глав книги этому изданию, автор приходит к выводу, что в искусстве «совращения в подсознании» «Плейбой» не имеет себе равных. Многие эффективнейшие художественные приемы «подсознательной» техники, ставшие ныне всеобщим достоянием американской «масс-медиа», обязаны этому журналу своим происхождением.
В какой мере рекламная среда неощутимо, через подсознание, программирует социальное поведение людей? Что делает «массаж подсознания» с человеческой психикой? Неосознанное восприятие символических рекламных оргий и кошмаров травмирует и угнетает психику людей. Трезвому пониманию действительного положения вещей препятствует всепроникающий характер массовых коммуникаций. Североамериканское общество, его образ жизни породили колоссальную зависимость от «этики продаж»: зависимость от мастерски сфабрикованных иллюзий и фантазий о нас самих и о мире, в котором мы живем. Способность человека отличать реальность от иллюзий всегда служила критерием здравомыслия. Население США постепенно утрачивает эту способность. Вот простейший пример. В США синтетический апельсиновый сок давно рекламируется так, будто он лучше и полезнее натурального. И когда в телевизионной рекламе речь шла о конкурентах-заменителях, а на экране промелькнули настоящие апельсины, зрители восприняли подсознательный сигнал, внушавший им, что натуральный сок — всего лишь подделка синтетического. Такой «абсурд» стоит десятки тысяч долларов, усилий многих специалистов и, в свою очередь, способен приносить миллионные прибыли.
Телевизионная реклама — особенно коварный искуситель. Достаточно сравнить нечеткое движущееся изображение на мерцающем экране с полиграфически безупречной картинкой на глянцевой странице журнала, чтобы в должной мере оценить чисто технические преимущества, которыми обладает телевидение в «подсознательном» убеждении аудитории. Если можно считать телевидение родом искусства (а сейчас, полагает автор, для этого есть все основания), то именно в рекламе это искусство достигло в США своего расцвета. Гонорары, предлагаемые рекламодателями, привлекают лучших специалистов — режиссеров, операторов, художников. В 2007 году одним только актерам, «занятым в телевизионной рекламе, было выплачено 63 миллиона долларов. Средние издержки на производство одноминутного коммерческого ролика превышают 50 тысяч долларов, достигая подчас 200 тысяч (это в несколько раз больше соответствующих затрат на самые роскошные голливудские постановки). Каждая секунда такого мини-фильма являет зрителю продуманный, тщательно приготовленный и мастерски оформленный материал, каждая его секунда продает продукт».
Развлекательные передачи и некоторые другие программы нередко создаются специально в качестве платформы для рекламы. Они собирают у экранов именно ту аудиторию, которая может служить рынком для рекламируемых товаров, а главной целью таких программ является продажа, и ничто иное. С другой стороны, некоторые хорошие многосерийные передачи, пользующиеся большим успехом, удивительно быстро сходят с экрана: зритель забывает имя продюсера, финансирующего программу, ее содержание и художественные достоинства.
Говоря о содержании рекламных передач, эксперты отмечают «несравненный идиотизм*. В частности, «женщины в телерекламе выглядят как слабоумные неврастенички, психика которых травмирована недостаточно белоснежным бельем из прачечной, не очень удобными подвязками и лифчиками, а главная цель их существования в неукротимом стремлении избавить кухню от пятен, запахов и вызывающих отвращение царапин на линолеуме, и, наконец, — величайшая банальность — в поисках по-настоящему мягкой туалетной бумаги».
Вряд ли стоит удивляться, заключает автор, что в США так невелик общественный интерес к телевизионной рекламе, особенно в сравнении с масштабами психологического и экономического влияния, которое оказывают на аудиторию глупейшие рекламные сюжеты. Но суть дела в том, что всеобщая уверенность телезрителей в собственном интеллектуальном превосходстве над коммерческой рекламной продукцией, иллюзия убожества телерекламы, искусно поддерживаемая всей системой массовых коммуникаций США, в громадной степени увеличивает уязвимость потребителя. Зритель смотрит рекламный фильм лишь для того, чтобы не выключать телевизор, смотрит пустым, невидящим взором, и тем не менее (а вернее благодаря этому), телереклама неизменно утверждает себя в качестве наиболее эффективного средства, стимулирующего потребительский спрос.
«Если хочешь подчинить себе кого-то, дай ему почувствовать превосходство над тобой». Автор характеризует эту американскую поговорку как основной принцип телевизионной рекламы. Короткие коммерческие фильмы-вставки подчиняют «интеллигентного потребителя, апеллируя всецело к его подсознанию. Вот уже почти четверть века Нью-Йоркская рекламная ассоциация ежегодно присуждает награды за самую интересную и художественно совершенную рекламную кампанию в пользу какого-либо продукта или услуги. И до сих пор ни разу приз не был присужден рекламе бестселлера. Можно сделать вывод, что художественные достоинства не оказывают заметного влияния на коммерческий успех телерекламы. Более того, самой эффективной он считает такую рекламу, которая выглядит как случайный, даже скучный киноэпизод, лишенный особой выразительности. Есть все основания полагать, что именно такая реклама воплощает высшие «достижения» искусства «подсознательного внушения», ибо здесь убеждающий потенциал массовых коммуникаций достигает своей высшей отметки.
В 1992 году Служба Главного врача США провела и обнародовала исследование, имевшее целью выяснить влияние насилия в телепередачах на психику зрителя. К участию в исследовании были привлечены авторитетные специалисты — психологи, социологи, журналисты. Однако эксперты так и не установили прямой зависимости между «телевизионной жестокостью» и проявлениями агрессивности у телезрителей.
Средства массовой коммуникации доказали свою способность программировать человеческое поведение, и если в американских «масс-медиа» существует тема, более распространенная, чем секс, так это — насилие. Деньги налогоплательщиков, растраченные впустую, не помогли выявить причинной зависимости между ТВ и насилием, ибо это могло бы поставить администрацию Буша в затруднительное положение перед национальным телевидением и рекламодателями, чье безмятежное состояние, похоже, было главной заботой ученых, участвовавших в исследовании.