Лекция 3 Единое как тождественное в ином
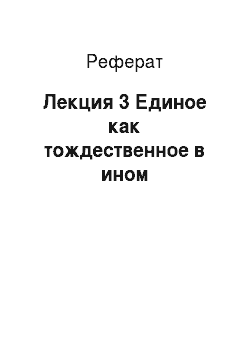
Называя в качестве двух основных форм досуга в древнегреческой культуре атлетические состязания и пир-симпосион, историк Ю. В. Андреев характеризует их прежде всего как «способ балансирования» на границе хаоса и космоса, слепых стихийных сил и разумной упорядоченности. Так, состязания атлетов, как подчеркивает исследователь, — это прежде всего «разновидность божьего суда, конечной целью которого… Читать ещё >
Лекция 3 Единое как тождественное в ином (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Итак, идея — это то, что скрепляет собой, удерживает неопределенное первоначало единого мира, обеспечивая его существование — в том или ином виде, а «умение различать роды и виды» — важнейшее условие такого устойчивого существования. Но, говоря об «умении различать», мы уже неявно оперируем философским понятием различия, выступающим одним из полюсов категориальной оппозиции «тождество — различие» (другой ее вариант — «тождественное — иное»). Эта категориальная пара играет исключительно важную роль в осмыслении мира как «определенного Единого», коль скоро понять этот мир как целое и означает суметь выявить (увидеть умственным взором) тождественное в ином, ту или иную идею на фоне неопределенного Единого. Как же понимается тождество в свете интуиции единства всего существующего?
Во-первых, это тождество субстрата, единой первоосновы мира, позволяющее утверждать, что мир — при всех его изменениях — всегда есть то же самое. В этом отношении удивительным образом положение Гераклита «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим»[1], совпадает с утверждением Парменида в его поэме «О природе»:
Не возникает оно [бытие], и не подчиняется смерти Цельное все, без конца, не движется и однородно.
Не было в прошлом оно, не будет, но все — в настоящем.
Без перерыва, одно…[2],.
при том, что традиционно в истории философии принято противопоставлять учение Гераклита о становящемся, изменчивом мире и учение Парменида о неизменности и самотождественности всего, что существует «по истине». Совпадение оказывается здесь неизбежным ровно постольку, поскольку тождество субстрата, того, «из чего» — все, может быть осмыслено только отрицательным образом. Неопределенность первоосновы мира ухватывается только как невозможность ее помыслить, что и утверждается Парменидом. Только мысля то, что есть (вспомним еще раз парменидовское положение о совпадении бытия и мысли), мы можем понять бытие как определенность и тем самым осознать немыслимость любой неопределенности, любого становления и соответственно несамотождественности (инаковости). Именно поэтому бытие.
…так неподвижно лежит в пределе оков величайших, И без начала, конца, затем, что рожденье и гибель Истинным тем далеко отброшены вдаль Убежденьем[3].
«Рожденье и гибель», или изменчивость, несамотождественность, таким образом, выступают «негативным условием» бытия — тем, что должно быть «отброшено» для того, чтобы установилась определенность. Здесь и обнаруживается «изнанка» учения Парменида — гераклитовский «вечно живой огонь». Миркосмос может быть, только выступая из неопределенности хаоса, а любая тождественность определяется лишь на фоне инаковости, различия.
Во-вторых, из этой неразрывной связи тождественного и иного вытекает и понимание каждой вещи или явления этого единого мира: все, что есть в мире, существует в силу своей самотождественности (существует как что-то определенное: дерево, человек, дом…), однако сама эта тождественность осуществляется только при условии отличения ее от того, что она не есть, — при условии иного. Именно поэтому выявление идеи той или иной вещи как основы ее самотождественности есть процесс, который никогда не может завершиться, в противном случае это «застывшее» тождество обернулось бы полной неразличимостью всего существующего. Иное, или различие, появляется всякий раз, когда мы выделяем ту или иную вещь в ее тождестве с собой. Эта неустранимое^ различия — а значит, и постоянной изменчивости и мира, и каждой его вещи — подчеркивается, в частности, в платоновском диалоге «Софист», один из участников которого утверждает относительно природы иного: «…Эта природа проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие своей причастности идее иного»[4].
Тождественность вещи себе, таким образом, никогда не может быть полной, она всегда более или менее тождественна себе (своей идее), сохраняя в то же время частицу отличия от самой себя. Именно это обстоятельство и делает мир «вечно живым огнем», каждая вещь которого тоже живая, т. е. изменчивая, становящаяся, не способная застыть в неподвижности тождества. В мире, основой которого выступает неопределенное Единое, вещи не существуют в своей отдельности, «сами по себе», они должны каждый раз рождаться заново из стихии первовещества, в которой «все превращается во все». Рискнем предположить, что именно здесь кроется объяснение сочетания, казалось бы, несочетаемых черт греческой культуры: с одной стороны, пристального внимания к форме как таковой, проявляющегося и в культе красивых вещей, и в линиях греческой архитектуры, и в строгости соблюдения всевозможных ритуалов. С другой же стороны, это стремление к отточенности формы (а значит, и к воспроизведению этой формы во всей ее тождественности себе) соединяется, как подчеркивают исследователи, с ярко выраженным игровым характером греческой культуры.
Называя в качестве двух основных форм досуга в древнегреческой культуре атлетические состязания и пир-симпосион, историк Ю. В. Андреев характеризует их прежде всего как «способ балансирования» на границе хаоса и космоса, слепых стихийных сил и разумной упорядоченности. Так, состязания атлетов, как подчеркивает исследователь, — это прежде всего «разновидность божьего суда, конечной целью которого было выявление среди участников игр людей и городов, пользующихся особой благосклонностью богов…»[5]. Само состязание в этом контексте есть не что иное, как «…азартная игра с таинственными, непостижимыми для человеческого разума силами»[6]. Вторая же распространенная форма досуга — симпосий, согласно автору, также является не столько дружеской пирушкой, сколько способом выхода на предел рассудочного повседневного существования: «…греки расценивали любой, даже самый обычный, симпосий, как своего рода пограничную ситуацию: участники попойки, в их понимании, как бы балансировали на грани, разделяющей хаос и гармонию, и вели приятную, увлекательную, но по-своему и рискованную игру с коварным божеством, всегда готовым околдовать человека, заманить его в искусно расставленную ловушку и лишить разума и вообще человеческого облика»[7].
В контексте вопроса о соотношении тождества и различия это стремление к выходу на границу порядка и хаоса, разумного и неразумного имеет вполне очевидный смысл. Речь идет о чаще всего интуитивном понимании событийного характера любой тождественности, иными словами, о понимании того, что вещь или явление должны всякий раз рождаться заново в своем равенстве себе, что их существование не может быть простым длением (продолжением одного и того же). По сути дела, эта приверженность греков к игре выступает здесь еще одним проявлением той самой «точечности» мышления, о которой говорилось выше.
Эта взаимная предположенное™ понятий тождества и различия вполне определенным образом преломляется и в сфере теоретического мышления. Именно с открытием тождества как основы существования любой вещи связано появление античной логики как особой формы теоретического знания. Как известно, закон тождества является одним из трех законов, положенных Аристотелем в основу логики как науки. Именно при условии признания тождественности предмета суждения становится возможным сформулировать определенные правила, согласно которым это суждение выносится и связывается с другими. Таким образом, не только вещь или явление существуют в силу тождества себе (своей идее), но и сколько-нибудь определенное знание об этой вещи тоже обеспечивается самотождественностью ее понятия. Однозначная определенность — своего рода залог качества суждения, его способности высказывать истинное, то, что есть. Только задавая вполне определенный набор признаков, характеризующих тот или иной предмет, мы оказываемся в состоянии выявить законы, в соответствии с которыми этот предмет существует в тех или иных ситуациях.
Зададимся, однако, вопросом: как здесь возникает само определение? На чем мы основываемся, когда определяем, что есть та или иная вещь? Здесь-то и обнаруживается обстоятельство, которое выше было обозначено как «событийный характер тождества»: границы тождества всякий раз устанавливаются заново в его отношении к иному, к тому, что от него отлично. Это означает, что логика как учение о формах правильного рассуждения никогда не может исчерпать собой знания о мире, не может претендовать на полноту такого знания. Определяя способ мышления, сформировавшийся в греческой культуре, как «дедуктивный рационализм», С. С. Аверинцев подчеркивает его парадоксальный характер: «…это рационализм, рациональность, методичность, научность которого жестко связаны именно с его дедуктивностью, обусловлены дедуктивностью, поскольку лишь дедукция дает полноту формальной доказательности; но дедуктивность требует внерациональных, вненаучных оснований, и притом так, что их принятие предстает не как компромисс, временно допускаемый развивающейся наукой, но как стабильный структурный принцип рационализма»[8].
Иными словами, дедукция как движение мысли от общего к частному всегда основывается на некоем тождестве (тождественности общего понятия). Однако здесь-то и кроется парадокс: само это исходное понятие опирается на «внерациональное основание», т. е. коренится в ином. Мысль, опирающаяся на интуицию единства всего существующего, всегда балансирует на границе тождества и различия, логики и ее внелогического основания. Это балансирование определяет и еще один важный аспект мышления, связанный с работой категорий тождества и различия. Эти понятия «обеспечивают» одну из ведущих операций человеческого мышления (как в повседневной жизни, так и в рамках научно-теоретического мышления) — операцию сравнения.
Как известно, сравнивать между собой можно только те вещи или явления, которые в чем-то тождественны друг другу. Признавая частичную тождественность вещей или явлений, мы можем этой тождественностью пренебречь, выявляя их отличие друг от друга применительно к тому или иному признаку. Так, можно сравнивать людей по росту, весу, способности быстро бегать, высоко прыгать… Но можно в соответствии с этими же критериями сравнивать и, к примеру, человека и любое животное. Так или иначе, определяющим здесь выступает тот конкретный показатель, который отличает одну вещь от другой вне ее связи с другими свойствами вещи, безотносительно к этим свойствам. Именно этот принцип сравнения лежит в основе своего рода «идеологии рекордов», во многом определяющей мировоззрение современного человека, идеологии, наиболее ярким выражением которой является знаменитая «Книга рекордов Гиннесса». Самый высокий человек, самый толстый человек, самый большой пирог, самая длинная сосиска… За всеми этими титулами скрывается некое искажение идеи тождества как той гармонии, которая уравновешивает стихийные разнородные силы и служит основой устойчивого существования вещи. В самом деле, является ли, собственно, пирогом «самый большой пирог» или сосиской «самая большая сосиска», иными словами то, что уже нельзя съесть (во всяком случае, без определенных неудобств)? Не выступает ли определение «самый толстый человек» скорее угрозой для человеческой самотождественности, нежели знаком превосходства?
В связи с этим рискнем утверждать следующее: «идеология рекордов» оказывается возможной только в контексте сугубо внешнего понимания тождества — как формального понятия той или иной вещи или явления. Иными словами, при условии разрыва той изначальной связи тождества и различия, логики и ее внелогического основания, которое определяет собой мышление в рамках интуиции мира как определенного Единого. Именно эта интуиция тесно связывает тождественность вещи себе с понятием меры, нарушение которой всегда грозит разрушением самотождественности того, что существует только тем или иным образом. Утверждение этой связи тождества и меры определяет, в частности, пафос следующих слов Сократа в платоновском диалоге «Федон»: «…существует лишь одна правильная монета — разумение, и лишь в обмен на нее должно все отдавать; лишь в этом случае будут неподдельны и мужество, и рассудительность, и справедливость — одним словом, подлинная добродетель: она сопряжена с разумением, все равно, сопутствуют ли ей удовольствия, страхи и все иное тому подобное или не сопутствуют. Если же все это отделить от разумения и обменивать друг на друга, как бы не оказалась пустою видимостью такая добродетель, поистине годная лишь для рабов, хилая и подложная»[9].
«Разумение» здесь — та способность, которая рождается всякий раз заново, только в том «умном месте», о котором говорилось выше. Эго «место» как раз и располагается на границе космоса и хаоса, и именно здесь — снова и снова — рождается, возникает на фоне различия, иного. Поэтому, например, никогда нельзя ограничиться простым формальным определением «мужества»: необходимо мыслить это определение в свете идеи мужества, или, если выражаться еще более определенно, необходимо иметь интуицию мужества. Это означает, в свою очередь, что сам мыслящий (реально, на деле) отождествляется с идеей мужества, оказывается причастным этой идее. Именно эта причастность позволяет ощущать (а не просто знать — внешним, формальным образом) ту меру, нарушая которую, мужественный человек оказывается либо трусом, либо безумцем, рискующим собой без всякой необходимости.
Эта способность мыслить тождество как умение «находиться в идее» имеет еще один важный аспект: свободу мыслящего по отношению к понятию в его терминологическом смысле — как чисто внешнему определению вещи. Платоновские диалоги, в которых прямо противоположные определения одного и того же сталкиваются друг с другом, никогда не сливаясь в одно, — наглядный пример такой свободы. Эти определения только на первый взгляд кажутся предположениями, которые одно за другим отбрасываются на пути к достижению истины. Внимательный взгляд обнаруживает, что каждое из этих определений в конечном счете сохраняет свою силу и значимость, но при одном важнейшем условии: если они мыслятся в свете интуиции, непосредственного вйдения-переживания определяемой вещи или явления. Так, в диалоге «Алкивиад I» Сократ говорит собеседнику Лахету: «…Определить мужество — что это за способность, которая и в радости, и в горе, и во всем остальном… остается самою собой и потому именуется мужеством»[10]. После ряда безуспешных попыток, каждый раз обнаруживающих свою недостаточность, Лахет сознается: «…Я негодую при мысли, что не могу выразить в словах то, что у меня на уме. Мне кажется, я понимаю, что такое мужество, и не знаю, каким образом оно от меня только что ускользнуло, так что я не могу схватить его словом и определить»[11]. Собственно, здесь диалог мог бы и закончиться — ровно постольку, поскольку именно это положение, в котором находится Лахет («понимаю, но не могу схватить словом»), и есть подлинное место «пребывания в свете идеи». Находящийся в этом месте отчетливо видит недостаточность любого определения как «схватывания словом», но видит он это именно потому, что понимает (усматривает умственным взглядом) определенную вещь или явление. Именно смысл вещи как источник любых (зачастую — прямо противоположных) определений оставляет мыслящему «свободу маневра», возможность пользоваться дефинициями, не теряя из вида целостность смысла. Особым образом эта свобода проявляется в способности человека давать определения самому себе, отождествляя себя с «кем-либо» или с «чем-либо».
В греческой культуре это отождествление являлось важным моментом человеческой жизни, но в то же время никогда не становилось полным, всегда имело в какой-то мере игровой характер. Одно из самых ярких проявлений этой способности — отношение человека к государству (полису) в греческой античности. С одной стороны, человек здесь не существует иначе, чем в качестве гражданина того или иного полиса (города-государства). В этом отношении можно признать, что понятия «человек» и «гражданин» (того или иного полиса) фактически отождествляются, на что и указывает знаменитое аристотелевское определение:
«Человек — это политическое животное». О том, насколько значимой для античного грека была его принадлежность к определенному государству, свидетельствует такая черта греческой культуры, как неустанная забота о сохранении и поддержании своеобразия каждого полиса (его самотождественности). Как отмечает Ю. В. Андреев, в каждом из этих крошечных государств «…различались вкусовые оттенки сортов вин или оливкового масла, по которым всегда можно было определить место их производства. Различались приемы мастеров, расписывавших столовую посуду, формы керамики, бронзовых изделий, терракотовой и мраморной скульптуры, архитектурные силуэты храмов и общественных зданий, нравы и обычаи обитателей каждого городка, их версии общегреческих мифов и преданий, чтимые ими божества, принятые ими конституционные акты и своды законов, местные календари, монеты, диалекты и даже начертание одних и тех же букв алфавита. Каждый полис упорно цеплялся за свои древние традиции, своих богов и свой государственный суверенитет, стремясь во что бы то ни стало сохранить свою неповторимую индивидуальность, то „лица необщее выражение“, которое позволяло различить его среди огромной „толпы“ других почти таких же, как он, маленьких государств»[12].
«Сохранение неповторимой индивидуальности» полиса выступает здесь, по сути дела, средством сохранения человеком самого себя, своей индивидуальности, связываемой прежде всего со статусом гражданина. Я существую прежде всего как (афинянин, критянин, спартанец…) — вот основной мотив такого стремления к неповторимости. Однако это же стремление обнаруживает и невозможность полного отождествления, обнаруживает ту свободу по отношению к понятию («афинянин», «критянин» и т. д.), о которой было упомянуто выше. Это отождествление человека с полисом не является полным прежде всего потому, что человек здесь всегда нечто большее, нежели гражданин того или иного государства, он сам признает свою принадлежность к последнему и, таким образом, отличает себя от него. На этом неуловимом отличии, собственно, и держится удивительная общность греческой полисной культуры, которая, в свою очередь, четко отличает себя от варварского мира, окружающего ее со всех сторон. Принцип «единства в многообразии» (Ю. В. Андреев), определяющий эту общность, наглядно демонстрирует характер связи категорий тождества и различия в рамках греческой мысли: тождество (принадлежность к полису) существует только в контексте инаковости, различия (человек принадлежит к данному полису именно потому, что может принадлежать и к другому). Эллинский мир, в отличие от варварского, как раз и объединяет тех, кто может быть гражданином того или иного полиса, иными словами, кто рассматривает гражданство (принадлежность) как дело своей свободы.
- [1] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 1. С. 275.
- [2] Цит. но: Там же. С. 295.
- [3] Цит. по: Там же. С. 296.
- [4] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 327.
- [5] Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1999. С. 212.
- [6] «Там же. С. 213.
- [7] Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. С. 214.
- [8] Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма //Аверинцев С. С. Образ античности. СПб., 2004. С. 18.
- [9] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 21.
- [10] Платон. Диалоги. М., 1998. С. 237−238.
- [11] Там же. С. 240.
- [12] Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. С. 85.