Творчество за пределами соцреализма.
Обращение к антиутопии. Е. Замятин. А. Платонов
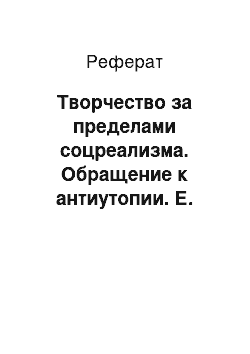
Самым загадочным и, наверное, самым «сокровенным» созданием Платонова можно считать повесть «Котлован». В основу произведения легли события, связанные с коренными социальными преобразованиями в России конца 1920;х — начала 1930;х гг., — проведением индустриализации и коллективизации. В них участвует бывший рабочий Вощев, попавший в бригаду землекопов. Вместе с ними он роет котлован иод фундамент… Читать ещё >
Творчество за пределами соцреализма. Обращение к антиутопии. Е. Замятин. А. Платонов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В первые полтора десятилетия XX в. в русской литературе происходило становление жанра антиутопии. Антиутопия генетически связана с утопией, но направлена против нее или против тех утопических тенденций, которые могут проявляться в действительности.
Антиутопия ведет спор не только с утопией как литературным жанром, но и с утопическим мышлением, с различными формами осуществленных или осуществляемых идей и проектов. Если создателей утопических произведений интересуют черты идеального и разумного общества и порядка, а личность превращена в элемент социально-политической системы, «встроена» в готовую модель и «жертвоприносится целому» (Г. Флоровский), то авторы антиутопических произведений сосредоточивают внимание на внутреннем мире человека в его противостоянии системе, государству, обществу, социальной или технократической идее, которые выдаются как совершенные и незыблемые. Герой антиутопии, вступая в конфликт с «идеальным» социумом, разрушает установленный ритуал, ломает привычный порядок, вносит в действие остроту и динамику. Он старается проявить свое «я» вопреки законам и правилам обезличенного общества. Антиутопия подвергает пародийному осмеянию содержание и структуру утопии. Она создает трагикомический образ утопического произведения, причем в качестве объекта пародирования может выступать любой из жанров. Авторы антиутопий обращаются к фантастическим сюжетам, мотивам, снам, изображению неземных миров, сверхъестественных превращений героев, сдвигов во времени и пространстве. Они используют приемы гротеска, гиперболы, аллегории, чтобы показать разлад между человеком и обществом, расщепленность личностного сознания, непригодность утопических моделей бытия.
В начале XX в. в русской литературе кристаллизуются доминантные жанровые признаки антиутопии. С наибольшей полнотой они проявились в таких произведениях, как «Вечер в 2217 году» (1906) Н. Федорова, «Под кометой» (1910) С. Бельского, «Королевский парк» (1911), «Жидкое солнце» (1912) А. Куприна, «Под стеклянным колпаком» (1912) С. Соломина, «Грядущая борьба» (1914) А. Оссендовского, «Республика Южного креста» (1905), «Восстание машин» (1908), «Торжество науки» (1917) В. Брюсова. Эти произведения объединял общий пафос — вызов тотальному коллективизму, стремлению установить некий однообразный и единственно возможный строй, вере во всесилие научно-технического прогресса и его способности автоматически обеспечить счастье человечества.
Новый этап в развитии антиутопии начался после октябрьских событий 1917 г. Расцвет антиутопии или тех жанров, которые тяготели к ней, был обусловлен реакцией художников на утопическое мышление в политической, общественной жизни, в искусстве и литературе 1920;х гг., на тоталитарные претензии государства полностью подчинить личность идеологическим нормам и предписаниям. Многие антиутопии постреволюционного времени были пронизаны критикой общества, построенного на рационалистическом отрицании Бога, свободы, индивидуума, семьи, традиционных нравственных ценностей, но берущегося создать совершенный социальный строй.
В 1920;е гг. в таких произведениях, как «Гибель Главного города» (1919), «Рассказы об Аке и человечестве» (1919), «Граммофон веков» (1920) Е. Зозули, «Мы» (1921) Е. Замятина, «Роковые яйца» (1924) и «Собачье сердце» (1925) М. Булгакова, «Машины и волки» (1925) Б. Пильняка, «Ленинград» (1925) М. Козырева, «Зависть» (1927) Ю. Олеши, «Чевенгур» (1928), «Котлован» (1930) А. Платонова, антиутопические идеи оказали существенное влияние на характеры и конфликты, движение сюжетов, структуру повествования. В этих произведениях нашло выражение критическое отношение к официальным догматам и идеологемам. Их герои ниспровергали идеологические установки творцов утопических мифов, снимали покровы лжи и идеализации, которыми общество окружило социальные эксперименты. Повествовательной манере антиутопий 1920;х гг.
присущ синтез реального и таинственного, бытового и фантастического, рационального и иррационального. Создавая синкретические жанровые формы, писатели вступили в трагический диалог с современностью, разрушая мир утопических иллюзий.
Творчество Евгения Ивановича Замятина (1884—1937) соединило в единое целое традиции классической литературы и поиски неореализма, открытия науки и опыт реальной жизни, мироощущение фольклора и драматического искусства, осуществило синтез различных художественноэстетических установок.
Первым произведением, принесшим Е. Замятин}' всероссийскую известность, стала повесть «Уездное» (1913). Русская провинциальная жизнь предстала в повести как сонное царство, как «отупляющая» глухомань. Жестокая сила, дремучее невежество, равнодушие и грязные инстинкты определяют атмосферу уездной среды. Ее порождением является утюгообразный монстр Анфим Барыба, преступным путем поднимающийся на должность жандармского урядника. Барыба предстает жутким, бездушным, карающим существом: «Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба».
В 1914 г. Замятин опубликовал антивоенную сатирическую повесть «На куличках». Номер журнала был запрещен цензурой, а автор привлечен к суду «за клевету» на русскую армию. Чем же был вызван гнев властей? Замятин, как и девятью годами раньше А. Куприн в «Поединке», запечатлел разрушение личности под прессом страшной армейской жизни. Герой повести, молодой поручик Андрей Иванович Половец, как и купринский Ромашов, отправляется служить на край света, «к чертям на кулички», и попадает в офицерскую среду, которая коверкает и ломает лучшие свойства его натуры.
В 1915—1916 гг. публикуются рассказы Замятина «Старшина», «Чрево», «Апрель», «Африка», повесть «Алатырь», сказки «Бог», «Дьячок» и др. Выходит первая книга писателя. Его имя встает в один ряд с именами М. Горького, И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, Ф. Сологуба.
В 1916 г. Замятин по командировке русского правительства уехал в Англию для работы на судостроительных верфях. Здесь он проектировал и строил ледоколы для России, при этом изучал быт, нравы, традиции английского общества, результатом чего стали рассказ «Ловец человеков» и сатирическая повесть «Островитяне». Объектом замятинской сатиры в повести является «культурное и порядочное» общество, представленное жителями города Джесмонда. Писатель подчеркивает однообразие их существования, подчиненность раз и навсегда установленному порядку-ритуалу. В кругу персонажей выделяется викарий Дьюли, автор социально-утопического проекта «Завет Принудительного Спасения». Согласно проекту, «жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели». Мечта Дьюли — упорядочить и упростить противоречивые, «пестрые», отношения людей, их реакции на окружающий мир. В «Островитянах» заявлен ряд идей, которые полностью реализовались в романе «Мы».
Роман «Мы» был написан Замятиным в 1921 г., впервые опубликован в переводе на английский в 1924 г. в Нью-Йорке. На русском языке был напечатан в пражском эмигрантском журнале «Воля России» в 1927 г., на родине автора увидел свет лишь в 1988 г. Замятин создал роман-антиутопию, в котором представил сатирико-фантастическую модель общества, подавляющего свободу личности, естественные человеческие чувства, уничтожающего природу во имя машинно-технического рая. Это романпредупреждение: страшна система, фабрикующая в массовом порядке людей-роботов, делающая главным инструментом своей политики насилие во всех его формах. «Мы» — это предупреждение об опасности всех утопий: коммунистических, буржуазных, технократических…
Созданное фантазией писателя Единое Государство, функционирующее в 26 веке, подчинило своей власти жителей земли. Все сферы существования в нем строго регламентированы Часовой Скрижалью. Это основной свод законов, который расписывает жизнь каждого с точностью до минуты и делает ее «счастливой и безмятежной». «Я» перестало существовать, растворилось в едином, многомиллионном «мы». Общество состоит из безликих «нумеров», выполняющих заданные им функции. «Нумера» не только потеряли свободу, но и считают, что всякая мысль о ней — «атавизм и преступление». Они избавлены от права выбора, сомнений, искушений и полностью подчинены тем идеям, которые исходят от высшей инстанции в лице Благодетеля.
В Едином Государстве логично и обосновано только то, что не нарушает его «математически совершенной жизни», что укрепляет его мощь и величие. «Великая сила логики» в обществе «нумеров» извратила понятия о нравственности. Добродетелью считается доносительство на родных и близких во имя процветания государства. Здесь жалость и сочувствие — пережиток доисторических времен, а «жестокость — самая трудная и великая любовь». По законам «перевернутой» этики личное сознание, наличие души — это болезни, с которыми человек должен бороться, а любовь — «приятно-полезная функция организма, так же как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее».
В стремлении рационализировать все сферы деятельности человека государство уподобило его машине. Замятин сатирически воссоздал технотронный, совершенный мир, в котором все подчинено «точному, механическому ритму». «Машиноравный» человек не нуждается в общении с природой, считает свой искусственный мир высшей формой существования жизни. Природа в Едином Государстве окончательно покорена человеком. Его пространство отгорожено от животного и растительного мира стеной. «Нумера» по обязанности счастливо созерцают прямые улицы, «божественные параллелепипеды прозрачных жилищ», «квадратную гармонию серо-голубых шеренг». Государство создало особый тип человека, который приспособился к нефтяной пище, освободился от желания свободно перемещаться в пространстве, иметь личное время. Писатель показал, что может произойти с человечеством, если оно начнет осуществлять на практике индустриально-технократические утопии преображения природы.
За соблюдением предписаний и норм следят Благодетель и Хранители. Благодетель не только осуществляет суд и расправу над инакомыслящими, но и является главным носителем философии и идеологии Единого Государства. Он провозглашает «жестокую истину»: путь к счастью лежит через преодоление жалости к человеку и насилие над ним. Он берет на себя грех «палачества» и уверен в своей способности вести людей к земному раю. В его распоряжении весь арсенал Государственной Науки, «которая не способна ошибаться». Ее вершинным достижением стал космический корабль «Интеграл», который должен подчинить «благодетельному игу разума» существа, обитающие на других планетах в «диком состоянии свободы».
В социуме «нумеров» искусство потеряло свою самостоятельную роль и превратилось в «придаток» государственной службы. Оно опирается на примитивно-утилитарные постулаты: во всем должны быть целесообразность и полезность, а красота — порождение несвободы. Полезно лишь то, что служит прославлению величия и мощи государства. «Мы» — полемический ответ Е. Замятина на сочинения утопистов, полемика с Н. Чернышевским, автором романа «Что делать?», и, как оказалось, пророческий роман.
В начале произведения главный герой Д-503 (математик, строитель Интеграла, автор дневниковых записей) предстает как один из адептов Единого Государства. Он считает себя частью «миллионноголового» тела, «клеткой» единого организма. Он с восторгом описывает законы и ритуалы совершенного общества, но — все рушит любовь. Страсть к 1−330, посещение Древнего Дома, выход за пределы Зеленой Стены, полет на Интеграле дают толчок к пробуждению «естественного» человека в «машинизированном нумере». У героя просыпается душа, которую он считал «атавизмом», а вместе с ней и желания, противоречащие нормам и законам Часовой Скрижали. Он вступает в конфликт с государством и нарушает его основополагающие принципы.
Роман заканчивается трагически. Государство подавило восстание части жителей, 1−330 и другие бунтовщики были казнены, а у остальных «нумеров» (Д-503 в их числе) произведена операция лоботомии («удаление фантазии»). Но сюжетная канва роман не ограничивается трагическим финалом. Изображение мира за Зеленой Стеной, где живут лесные люди (мэфи), упоминание о судьбе взбунтовавшейся 0−90, описание красоты и многоликости природы, открывающихся с высоты полета Интеграла — все эти эпизоды выражают надежду писателя на выход из тупика бездуховного существования. Роман-антиутопия Замятина «Мы» — это протест против стремления любых «благодетелей» истребить в сознании людей понятия свободы, любви, милосердия, культуры и фантазии.
В 1920;е гг. Замятин создал ряд самобытных рассказов («Пещера», 1920; «Мамай», 1920; «Рассказ о самом главном», 1923; «Ела», 1928), повесть «Наводнение» (1928), пьесы «Огни ев. Доминика» (1920), «Блоха» (1924), «Общество почетных звонарей» (1925), «Атилла» (1925), выпустил книгу «Большим детям сказки» (1924). В связи с публикацией романа «Мы» за рубежом писателя подвергли травле, его произведения перестали печатать, запретили выход его пьес. В этих условиях Замятин был вынужден покинуть Советский Союз в 1931 г. До конца своих дней писатель жил в Париже.
О чем бы ни писал Андрей Платонович Платонов (Климентов, 1899— 1951) — о войне или мире, о гармонии или хаосе, о жизни или смерти, о глобальных утопических проектах или незаметных явлениях, о великих преобразователях земли или об обыкновенных машинистах, о стариках или детях, — он прикасался к своим героям и к их идеям «обнажившимся сердцем». Отсюда беспредельность ощущаемого читателями сопереживания, особая эмоциональная насыщенность его прозы.
Ранний период творчества Платонова (1922—1926) отмечен созданием ряда научно-фантастических произведений, в которых главное место занимает описание утопических идей и проектов. Это рассказы «Маркун» (1921), «Приключение Баклажанова» (1922), «Потомки солнца» (1924), повести «Лунная бомба» (1926), «Эфирный тракт» (1926). Писатель погрузился в царство научных открытий, перенесся в мир тайн, окружавших человека на земле и в космосе. Герои этих произведений — изобретатели, ученые, чудаки, пытающиеся переделать землю, обуздать тепловую и световую энергию, вырваться в космос. Они верят в силу разума, инженерной мысли, жертвуют всем личным ради научных открытий, но часто их утопические идеи терпят крах.
Повести «Сокровенный человек» (1927), «Ямская слобода» (1926— 1928), «Епифанские шлюзы» (1927) стали итогом напряженных творческих поисков писателя. В них он не только обнаружил свой подход к проблеме судьбы «маленького человека», но и нашел самобытный стиль, обрел оригинальную интонацию. В конце 1920;х — начале 1930;х гг. Платонов пишет рассказы «Родина электричества» (1926), «Песчаная учительница» (1927), «Луговые мастера» (1927), «Такыр» (1934), повесть «Джан» (1935). Их объединяет — при всем различии сюжетов и композиций — вера писателя в возможность совершенствования и изменения человеком окружающего мира. Герои этих произведений — энергичные, молодые, честные люди. Они не могут мириться с несправедливостью природных стихий, с ужасающей бедностью, суеверием и невежеством людей. Это подвижники и преобразователи «земных неустройств», люди дела, а не слова. Таким предстает со страниц рассказа «Луговые мастера» крестьянин Жмых, поднявший односельчан на осушение болот и превративший вместе с ними бросовые земли в плодородные. К этому же типу людей принадлежит Мария Нарышкина из рассказа «Песчаная учительница», бросившая вызов пустыне и остановившая пески.
Переломным в творчестве Платонова следует считать 1929 г., когда был опубликован рассказ «Усомнившийся Макар», написан роман «Чевенгур». Вместе с созданными позднее повестями «Котлован» (1930), «Ювенальное море» (1934), романом «Счастливая Москва» (1933—1936) они обозначили усиление философских, метафизических и сатирико-обличительных тенденций в творчестве писателя, а также определили антиутопический пафос его художественных исканий.
Противоречия послереволюционной России легли в основу конфликтов романа «Чевенгур». Чевенгурский коммунизм, построенный Чепурным и его товарищами, обречен на гибель, ибо в его основании — насилие, демагогия, утопическое желание войти в рай, не обременяя себя трудом и производством материальных и культурных ценностей. В романе рисуются трагические последствия деяний людей, пренебрегших законами природы и истории. Как и всякое выдающееся произведение, «Чевенгур» не может быть соотнен с каким-то одним жанровым определением. Это социальнофилософский роман, в котором писатель органично соединил разнородные элементы: притчу, путешествие, фантастическое действо, антиутопию.
Самым загадочным и, наверное, самым «сокровенным» созданием Платонова можно считать повесть «Котлован». В основу произведения легли события, связанные с коренными социальными преобразованиями в России конца 1920;х — начала 1930;х гг., — проведением индустриализации и коллективизации. В них участвует бывший рабочий Вощев, попавший в бригаду землекопов. Вместе с ними он роет котлован иод фундамент Общепролетарского дома. Бригадир землекопов Чиклин приводит в барак, где живут рабочие, девочку-сироту Настю. Не выдержав тяжелых условий жизни, Настя умирает, и котлован становится ее могилой. Софронов и Козлов направляются в деревню для помощи Активисту в проведении коллективизации. Там они погибают от рук местных мужиков. Прибывшие в деревню Чиклин и его товарищи проводят «ликвидацию кулачества», сплавляя на плоту в океан всех зажиточных крестьян.
Эти конкретные события приобретают философско-метафорический характер. Строительство Общепролетарского дома становится утопией, ради осуществления которой гибнут люди. Гигантский котлован, превращающийся в могилу для рабочих, ассоциируется с хрустальным дворцом из упомянутого романа Н. Чернышевского «Что делать?», с Вавилонской башней. О здании человеческого счастья, за строительство которого заплачено слезой ребенка, размышляет Иван Карамазов в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Трагический итог строительства — смерть Пасти и потеря героями смысла жизни в настоящем и веры в будущее. Отталкиваясь от реально-исторического плана повествования, Платонов напряженно размышляет о том, как может быть искажена высокая идея, если для ее воплощения используются насилие, рабский труд, а человек становится инструментом для выполнения глобальных экспериментов. В повести «Котлован» утопия перерастает в антиутопию. Ее художественное своеобразие обусловлено не только ее антиутопической направленностью, но и сложным сочетанием в ней элементов реализма, символизма, авангарда и пролетарского искусства.
Платонов создал многозначные, символические образы и картины. Среди таких образов — задумавшийся о «смысле и плане жизни» правдоискатель, странник Вощев; эго фантастическая фигура «самого угнетенного батрака», который в кузне «трудился молотобойцем» и превратился в «натурального седого медведя»; это Активист, фанатично исполняющий все директивы и ставший человеком-функцией; это Поп, потерявший веру и вынужденный доносить в ревком о тех, кто «осенил себя крестным знамением». Все они стали воплощением трагических жизненных испытаний, через которые прошла Россия.
В годы Великой Отечественной войны Платонов был корреспондентом «Красной звезды», писал рассказы, очерки, фельетоны, которые вошли в сборники «Броня» (1943), «Под небесами Родины» (1943), «В сторону заката солнца» (1945). Послевоенные годы оказались для писателя очень трудными. Платонова почти не печатали, хотя его литературная работа не прерывалась. Последним его произведением стал сборник русских сказок «Волшебное кольцо» (1951).
Вопросы и задания для самоконтроля
- 1. Назовите отличия антиутопии от утопии.
- 2. Как в романе Е. Замятина «Мы» начинается и развивается конфликт Д-503 с Единым Государством?
- 3. Чему подчинены законы и ритуалы Единого Государства в романе Е. Замятина «Мы»?
- 4. Назовите социально-философские проблемы, которые ставит А. Платонов в повести «Котлован».
Темы для индивидуальных сообщений
- 1. Полемическое, пророческое в антиутопических произведениях.
- 2. Жанровое своеобразие романа Е. Замятина «Мы».
- 3. Образ правдоискателя в творчестве А. Платонова, в повести «Котлован».
- 4. Символические образы и картины в повести А. Платонова «Котлован».
Рекомендуемая литература
- 1. Зверев, А. М. «Когда пробьет последний час природы». Антиутопии XX века // Вопросы литературы. — 1989. — № 1.
- 2. Ланин, Б. А. Русские антиутопии XX века / Б. А. Ланин, М. М. Боришанская. — М.: Онега, 1994.
- 3. Давыдова, Т. Т. Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы первой трети XX века / Т. Т. Давыдова. — М.: МГУП, 2000.
- 4. Лахузен, Т. О синтетизме, математике и прочем… Роман «Мы» Е. И. Замятина / Т. Лахузен, Е. Максимова, Э. Эндрюс. — СПб.: Астра-ЛЮКС; Сударыня, 1994.
- 5. Чалмаев, В. А. Андрей Платонов / В. А. Чалмаев. — М.: Советский писатель, 1989.
- 6. Золотоносов, М. А. Ложное солнце («Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 1920;х годов) // Вопросы литературы. — 1994. — № 5.