Трапеза благочестивых и нечестивых или российский опыт некоммерческой рекламы
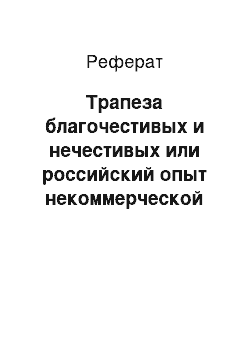
В сентябре 1762 г. в Москве была проведена коронация Екатерины II. В первопрестольной императрица оставалась почти год и на Масленицу 1763 г. повелела устроить уличный маскарад «Торжествующая Минерва». Напомним, что Минерва в римском пантеоне — богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств (аналог греческой Афины). В самом названии был очевиден намек на Екатерину II, и действительно… Читать ещё >
Трапеза благочестивых и нечестивых или российский опыт некоммерческой рекламы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Socielis, idea, politike, agitatio, propagare.
или определение некоторых исходных терминов Особая страница развития презентационных технологий в России — это реклама социальных и политических взглядов, идеологии, т. е. реклама социальная, политическая, идеологическая. В первой главе уже рассказывалось о технологиях презентации властных отношений в России, о том, как через знаки, символы, систему артефактов в сознание населения нашей страны внедрялись такие понятия, как государственность, национальное единство, историческая преемственность, абсолютность верховной власти и т. д. Те области рекламы, о которых будет рассказано в данном разделе работы, связаны, иногда весьма тесно, с технологиями наглядной демонстрации отношений власти, т. е. отношений господства кого-то над кем-то или чем-то, возможности для кого-то распоряжаться эти кем-то или чем-то. Но все же в рекламе социальной, идеологической, политической есть определенная специфика, позволяющая особо выделить эту сторону презентационных технологий в России. Кроме того, если в коммерческой рекламе российский опыт, вследствие очевидных причин, уступает опыту экономически развитых стран, то в искусстве пропаганды определенных идей, агитации за воплощение этих идей в жизнь, распространение с помощью рекламных технологий «норм социалистического общежития» (было такое устойчивое словосочетание) отечественный опыт весьма богат и поучителен. Но, начиная разговор о некоммерческой рекламе, необходимо в первую очередь уточнить некоторые базовые понятия.
Слово «социальный» определяется в словарях как «связанный с жизнью и отношениями людей в обществе». Это практически прямой перевод латинского слова socielis — общественный, которое, в свою очередь, произошло от слов socius — «товарищ» и societas — объединение товарищей, общество. Эти слова и дали начало всему терминологическому гнезду.
Чрезвычайно широкий класс явлений можно отнести к «социальным». Социальными являются, например, судебная система, институт брака, система образования, система материального обеспечения в старости или по нетрудоспособности, да и сам институт власти. Однако, на практике этот термин чаще всего употребляется применительно к так называемой «социальной сфере» — т. е. системе повседневной жизнедеятельности отдельных людей и общностей. В сферу такой повседневности входит взаимодействие отдельных групп населения, межличностное взаимодействие, отношения между человеком и группой. Вся эта разветвленная система социальных отношений регулируется социальными нормами и стандартами (общественно приемлемых взглядов, одобряемого поведения, внешнего вида и т. п.) Социальную рекламу можно определить как рекламу, направленную на распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм, ценностей, моделей поведения, пропаганду сотрудничества и взаимодействия людей. Социальная реклама направлена на семейные ценности, благотворительность, здоровый образ жизни, заботу о гигиене, национальную терпимость, религиозную толерантность, образование, трудолюбие и т. п.
Идеология — это система идей и взглядов: политических, философских, правовых, нравственных, религиозных, эстетических, определяющих мировоззрение. Ключевым здесь является слово «идея». Idea — по-гречески означает «понятие, представление». Сегодня это слово многозначно. Самое общее определение — мысль, понятие о предмете. Более частное: идея — это определяющее понятие, лежащее в основе мировоззрения. Идеология определяет отношение человека к действительности, к окружающему миру, к конкретным фактам и событиям. В зависимости от идеологии, т. е. системы базовых идей, принятых человеком, группой или обществом, одно и то же явление, историческое событие (например, свержение Временного правительства и роспуск Учредительного собрания в октябре 1917 г.) могут квалифицироваться как Великая Октябрьская Социалистическая Революция или как Октябрьский переворот.
Термин «идеологическая реклама» практически не употребляется, хотя иногда говорят о «рекламе идей». Но идея может быть весьма важной, но частной, не определяющей мировоззрение («Я выбираю безопасный секс»). Идеология — система базовых, фундаментальных идей, качественно определяющих сознание, мнение, поведение человека или общности. Государственная идеология — официально провозглашенная система идей, представлений и понятий. Так официальная идеология России времени Николая I была афористично выражена министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем Уваровым в знаменитой формуле «Православие, самодержавие и народность». Советская идеология включала в себя такие базовые понятия как «диктатура пролетариата», «общественная собственность на средства производства», «диалектический материализм», «пролетарский интернационализм». Идеологическая реклама — презентация общественности комплекса именно основополагающих, базовых идей. Если государство тоталитарно, т. е. полностью контролирует все сферы жизни общества, все формы общественного сознания (философию, искусство, мораль, религию и т. д.), то идеологическая реклама существует в стране только как реклама государственной идеологии.
Politike по-гречески — искусство управления государством. Под политикой имеется в виду, прежде всего, деятельность органов государственной власти и государственного управления, отражающая цели и интересы сформировавших эти органы социальных групп, организаций. Под политикой понимают также борьбу политических партий и аналогичных образований за доступ к государственной власти. Итак, политическая реклама это, во-первых, реклама решений и действий органов — государственной власти, государственных лидеров, убеждение населения в необходимости содействовать власти в осуществляемых ею действиях, помогать власти. В этом смысле первой политической рекламой советской власти было опубликование ее первых декретов. Во-вторых, политическая реклама — это реклама, связанная с борьбой различных политических сил за доступ к государственной власти. Поэтому одновременно политическая реклама в условиях демократического, не тоталитарного общества может быть рекламой «антигосударственной», доводящей до сведения населения ошибочность действий власти, несоответствие принятых решений или конкретных мероприятий интересам и целям граждан страны или отдельных групп граждан. В-третьих, к политической относится и предвыборная реклама, связанная с борьбой различных объединений за избрание их представителей в органы власти, фактически — с борьбой за доступ к власти, получение властных полномочий. В условиях тоталитарного общества второй и третий тип политической рекламы отсутствуют вообще или носят декларативно-декоративный характер. Зато оказываются как никогда тесно связанными между собой реклама идеологическая и политическая.
Говоря о социальной, политической, идеологической рекламе, невозможно обойтись без употребления слов «пропаганда» и «агитация». Слово «пропаганда» традиционно несет в себе негативный оттенок. В английском словаре по социологии прямо указывается, что этот термин употребляется «часто неодобрительно». Негативное отношение к пропаганде связано с тем, что ее нередко отождествляют с манипулированием общественным сознанием в интересах заказчика пропагандистских акций. Негативному восприятию этого термина и широкое использование этого метода воздействия на общественное сознание в тоталитарных обществах. Однако само слово оснований для такого толкования не дает. Происходит оно от латинского слова propagare, означающего «распространять», прямой перевод латинского «propaganda» — распространение. В словаре С. Ожегова пропаганда определяется как распространение в обществе и разъяснение каких-то воззрений, идей, знаний, учений. Например, в советский период в Москве существовал «Дом научно-технической пропаганды», занимавшийся распространением научных знаний и технических достижений среди разных целевых аудиторий. Фактически, пропагандистом был герой общеизвестного фильма «Карнавальная ночь», пришедший на новогодний вечер прочитать лекцию «Есть ли жизнь на Марсе».
В социологии и политологии пропаганду трактуют как «систематическое распространение и углубленное разъяснение каких-либо социальных взглядов, идей, теорий с целью их внедрения в общественное сознание и воздействия на процесс соответствующей ориентации индивидов и общностей» Словарь-справочник по социологии и политологии. — М.: 1988, с. 188. Фактически, социальную и идеологическую рекламу можно смело назвать социальной пропагандой и пропагандой идеологии.
Несколько сложнее с рекламой политической. С одной стороны, в ней, безусловно, присутствуют элементы пропаганды. Но, поскольку основная цель политической рекламы — привлечение сторонников власти, обеспечение взаимодействия граждан с властью, сотрудничества власти и граждан, или же поддержка гражданами «заявки на власть», то это направление рекламы больше соотносится со словом «агитация». Это слово происходит от латинского слова agitatio — «приведение в движение». Агитация — действие, преследующее цель убедить в чем-то, склонить к чему-то. Существует и такое определение: «Агитация — распространение идей для воздействия на общественную активность». Агитация от пропаганды отличается степенью конкретности. Известный лозунг «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», — лозунг пропагандистский, а вот не менее распространенный в советский период призыв «Все на выборы!» — агитационный. Можно сказать, что к социальной и идеологической рекламе более подходит термин «формирование общественного мнения», а к политической рекламе — «управление общественным мнением». Скажем, пользуясь случаем, что первым, кто в России обратил внимание на феномен общественного мнения, на необходимость его формирования и управления им со стороны власти, бал друг А. Грибоедова и недруг А. Пушкина, издатель самой популярной русской газеты своего времени «Северная пчела» Фаддей Венедиктович Булгарин. Именно этому вопросу посвящена значительная часть его «записок» на имя государя. Подробнее см.: Алтунян А. Г. «Политические мнения» Фаддея Булгарина. Идейно-стилистический анализ записок Ф. В. Булгарина к Николаю I. — М.:1998.
Столь длинное предисловие к разделу потребовалось для того, чтобы лучше был понятен тот материал, который будет представлен далее, и принципы его систематизации. Но необходимо сразу сказать, что четкого разграничения конкретных рекламных материалов по отдельным видам некоммерческой рекламы добиться не всегда удается.
Торжествующая Минерва или опыт социальной рекламы в России Система трансляции в обществе социально одобряемых норм, ценностей, моделей поведения существовала всегда, без этого человеческое общество не могло бы сформироваться. Понимаемая максимально широко, система таких норм, ценностей, моделей носит название «культура», а процесс из передачи и усвоения определяется в социологии как процесс «социализации». Но говорить о применении в России специальных презентационных технологий для целей социализации можно говорить с середины ХVII века, с начала распространения печатного лубка. Многочисленные «назидательные» лубки с выразительными названиями «Души чистые и души грешные», «Урок мужьям дуракам и женам щеголихам», «Завидливый сохнет о том, если видит счастие в ком», «О пьянице, пропившемся на кружале», «Парамошка с Савоськой в карты играл», «Возвращение из Питера промотавшегося трактирщика» вплоть до начала ХХ века выполняли свои социальные функции: формировали негативное отношение к общественно не одобряемым свойствам характера или поступкам. Так, в лубке ХVII в. «Трапеза благочестивых и нечестивых» представлено, как за столом «благочестивых» стоит ангел, а за спинами «нечестивых» озорничают черти. Лубок конца ХIX в. «Вред от пьянства и размышления доброго мужичка о его последствиях» демонстрирует, как борется человек с дьяволом и зеленым змием, перебирая в уме картины своего незавидного будущего.
Были и лубки о «правильном поведении». Так, персонажи лубка «Муж лапти плетет, жена нитки прядет» ставились в пример всем за то, что работают день и ночь, «огню не гасять, обогатетети хотять» (довольно неожиданное для православной страны прославление протестантских добродетелей). Иногда «транслируемые ценности и образцы поведения» выглядят, на сегодняшний взгляд, шокирующе. Так в лубке «Муж жену бьет» одобрялось физическое наказание супруги за неверность («неходит тебе от меня гулять»). Были и лубки — прямые инструкции на тему «как себя вести». Например, шрифтовой лубок напоминал правила поведения в гостях: «Всяк знай себя — указывай дома. А где посадят — тут и сиди. А что поставят — то и кушай. Что поднесут — то пей, а не пролей». Были и лубки о «народном здравоохранении», как бы сказали сейчас. В одном из них последовательно излагалась «техника» пользования баней, напоминалось, что «легким паром» можно вывести вшей. Екатерина II решила пропагандировать с помощью лубков достижения медицины. При ней был выпущен лубок о пользе прививок против оспы. На нем была изображена привитая крестьянка со здоровыми детьми и не привитая, покрывшаяся из-за болезни оспинами, с такими же рябыми детьми. Текст гласил:
Какой позор рябым уродливым мальчишкам, Смотрите, как они хорошим ребятишкам Дурными кажутся; и как от них бегут, Товарищами их в игрушку не зовут.
С уродами ж играть как будто все бояться И так спешат от них скорее прочь убраться.
Вот батюшка родной, Ведь ты тому виной, Что с нами не играют И с страхом убегают!
Коль истинно любил Коровью оспу бы привил!
Или текст с другого «противооспенного лубка»:
Ах вы девушки-подружки, Поглядите на чуду, На рябова та Филатку!
Его рожа та дурная, Его харя то рябая.
Щеки бледные, рябые Тараканы знать кусали, И глаза его косые Знать то куры исклевали!
Вы красавицы молодки Перестаньте Вы смеяться.
Надо мною забавляться.
Тому масть с отцом виною, Что я страшен так собою.
Коровью оспу бы привили, То здоровья б не лишили!..
Меня наносная сгубила, Всей дородности лишила Ровинский Д. Русские народные картинки. — СПб, 2002, цветная вставка ХLIX-L.
В эпоху политкорректности такой текст в рекламе немыслим, построение аргументации на основе дискриминации лица, не использующим рекламируемый объект, запрещено и корпоративной этикой, и российским законом «О рекламе». Но в то более откровенное время этот текст не вызывал возражений, а аргументы полагались весьма здравыми и действенными. Правильно была выбрана и целевая аудитория — родители, желающие здоровья и благополучия своему ребенку.
Забегая вперед, скажем, что критерии этичности рекламы различаются не то что по столетиям, но и по десятилетиям одного века. Так на плакате 1939 г. перед зрителем — жертва дорожного происшествия. «Я не соблюдал правил уличного движения…», — как бы говорит нам мужчина на костылях. Крупное «Я» образует тело человека, нижняя часть «хвостика» отсутствует, намекая, что мужчина потерял правую ногу. Но читается этот визуальный знак так: без ноги твое «Я» уже неполноценно, у инвалида остается лишь часть «Я», не рискуй своим «Я». Прекрасная креативная находка художника (он неизвестен), но мысль абсолютно непригодная для публичного обнародования в наше время, когда слова «инвалид» и «неполноценность» всячески стараются развести в массовом сознании.
Во времена Екатерины II в целях социальной рекламы творчески применили известную в России презентационную технологию — театрализованную процессию. Вообще публичные зрелища, торжественные процессии, массовые мероприятия существовали у разных народов «от века». Они всегда были частью наглядной демонстрации системы властных отношений (царский выезд, инаугурация президента РФ), приверженности религиозным ценностям (крестный ход), военных успехов (фейерверки ХVIII века, салюты в ознаменование побед Советской Армии на фронтах Великой Отечественной войны, парад Победы в июне 1945 г. и т. д.). С их помощью выражалась приверженность определенной идеологии (октябрьские и майские демонстрации на Красной площади), поддержка существующей власти (торжественные заседания в Кремле по случаю государственного праздника). Но именно Екатерина Великая первой решила «приспособить» эту презентационную технологию для социальной пропаганды.
В сентябре 1762 г. в Москве была проведена коронация Екатерины II. В первопрестольной императрица оставалась почти год и на Масленицу 1763 г. повелела устроить уличный маскарад «Торжествующая Минерва». Напомним, что Минерва в римском пантеоне — богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств (аналог греческой Афины). В самом названии был очевиден намек на Екатерину II, и действительно, коронация завершала очень долгий и сложный период ее борьбы за абсолютную власть. В печатном «изъяснении» к маскараду говорилось, что цель его — показать «гнусность пороков и славу добродетели». Главным устроителем действа был первый русский актер Федор Волков, авторами — виднейшие литераторы своего времени Александр Сумароков и Михаил Херасков. Участники маскарада (4 тысячи человек — все профессиональные и полупрофессиональные актеры Москвы, крепостные музыканты, ярмарочные кукольники, студенты Славяно-греко-латинской академии) под звуки маршей и пение хоров прошли и проехали по московским улицам, изображая эти самые пороки и добродетели через аллегорические «живые картины». Предполагалось высмеять, в поучение народу, пьянство, невежество, несогласие, блудодейство, мздоимство, спесь, мотовство, распутство. Шествие растянулось на две версты. Показ всех картин занял три дня и произвел огромное впечатление на московских обывателей своей пышностью. Так перед «колесницей Добродетели» вышагивали «науки» и «художества», сзади на белых конях ехали «герои, прославленные историей», за коими шли пешком «философы» и «законодатели». Русский писатель Вячеслав Шишков в романе «Емельян Пугачев» так описывает, опираясь на архивные материалы, это зрелище: «Тут было наворочено всего: движущиеся горы, портшезы, колесницы, трубачи, посаженные на верблюдов фурии, арлекины, нетопыри, преогромные исполины, смехотворные карлы; вот хромая правда на костылях, вот храбрый дурак верхом на быке лицом к хвосту, вот верблюд тащит громадную колесницу, на которой — люлька, а в люльке — старуха играет в карты и сосет рожок, при ней — маленькая девочка с лозою, вот „акциденция, сидящая на яйцах, и три вылупившихся из яиц гарпии“, и прочая, и прочая, всего сорок живых картин. Не спеша и чинно все двигалось вперед. И несмотря на то, что при каждой картине свой хор звучно и стройно пел стихи, поясняющие содержание картины, народ безмолвно пялил глаза и ничего не понимал ни в акциденциях, ни в гарпиях». Разобраться в аллегориях большинство зрителей не могло и поэтому «пороки» и «добродетели», являвшиеся в данном случае предметом публичной презентации, в сознание «рекламной аудитории» не внедрились, а пропали втуне. Не в первый и не в последний раз стереотипы рекламистов не совпали со стереотипами рекламной аудитории. Одни мыслили образами, заимствованными из европейской книжной культуры, другие более привыкли к «Парамошке с Савоськой». Сам же Федор Волков во время маскарада простудился и в начале апреля умер.
В течение всего ХIХ века важных, заметных событий в области социальной рекламы специалистами не отмечается, хотя, без сомнения, она имела место хотя бы в виде все тех же «назидательных» лубков. Но вот в конце ХIХ — начале ХХ века она получила очень мощный импульс, и был он связан с расцветом в России культуры благотворительности. Абсолютно доминирующий вид некоммерческой рекламы в период царствования Александра III и, в еще большей степени, Николая II — это благотворительный плакат.
Начало ему положила русская благотворительная афиша. Благотворительность в России существовала всегда, но основным ее каналом традиционно была церковь, средства собирались и направлялись на эти цели через приходы, монастыри. Со времени Екатерины II, учредившей после коронации Воспитательный дом в Москве, социальной поддержкой неимущих стало заниматься и государство. В связи с демократизацией российского общества после отмены крепостного права, в России к концу ХIХ — началу ХХ века в России появилось множество разнообразных благотворительных организаций — не только церковных или государственных, но и частных или общественных. Все они по мере сил боролись с неизбывными язвами российского государства — бедностью, болезнями, голодом, неграмотностью, пьянством, жестокостью к детям. Сложился определенный порядок сбора средств на благотворительность среди дворянства, состоятельной интеллигенции, образованных купцов и фабрикантов. Сбор пожертвований в этой среде проходил чаще всего во время благотворительных балов, базаров, с этой же целью организовывались лотереи, выставки, аукционы произведений искусства. Существовала также целая культура сбора пожертвований в кружки. Например, за цветок ромашки предлагалось опустить в благотворительную кружку (обычно с ними по городу ходили гимназистки и гимназисты) посильную сумму. В Пятигорске до сих пор существует район «Белая ромашка», построенный на собранные таким образом средства для приезжающих на курорт чахоточных. Иногда проводились подписные кампании по сбору пожертвований на памятники знаменитым людям российской истории и культуры. Именно на «подписные» деньги был поставлен памятник А. С. Пушкину в Москве. Вот в таких случаях и потребовался благотворительный плакат. Он не столько призывал пожертвовать на нужды «сирых и убогих» (агитировать за сам принцип благотворительности в русском обществе особой необходимости не было), сколько приглашал имущих принять участие в благотворительных мероприятиях того или иного общества: купить по повышенной цене билеты на благотворительный спектакль в пользу неимущих студентов, принять участие в обеде, предполагавшем сбор средств на нужды сирот, приобрести на благотворительном базаре кружева и вышивки бедствующих вдов. Поэтому стилистика этих плакатов диктовалась не негодованием на «общественные язвы», не чувством протеста перед бедами и несчастиями людей, а характером самого светского мероприятия. Это именно афиши, рекламирующие мероприятие по поводу социальных язв, а не плакаты, призывающие бороться с социальными язвами. Поэтому большинство таких афиш начала века мажорны, изысканы, выполнены в популярной среди образованных и состоятельных людей стилистике. Примечательна афиша, приглашающая на московский Праздник цветов на Беговом кругу, сбор от которого «поступит в пользу состоящего под председательством Его Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны Московского Дамского Комитета Красного Креста и Городских попечительств о бедных г. Москвы». Название бала дублируется на французском, что явно напоминает о великосветском характере мероприятия, участникам обещают премировать «лучше украшенные экипажи флагами, лентами и другими знаками». Классикой считается афиша благотворительного базара кукол, созданная «мирискусником» Л.Бакстом. Сбор от продажи кукол был направлен в помощь родильным приютам Петербурга. Социальных плакатов, стилистика и содержание которых не находилось бы в противоречии с трагизмом ситуаций, вызвавшими сами эти плакаты к жизни, в начале века было очень не много. Как правило, в этом случае вспоминают лишь плакат академика живописи А. Архипова, посвященный бездомным детям и изображавший маленьких замерзающих оборвышей.
Художественную стилистику русской благотворительной афиши изменила Первая мировая война. Что же послужило причинами перемен. Во-первых, резко возросло число обществ содействия фронту и семьям фронтовиков, соответственно возрос и объем публикуемой ими рекламной полиграфии. К созданию плакатов стали привлекать большее число художников, соответственно, увеличилось разнообразие тем и художественных средств. Во-вторых, в первый период войны в России поднялась очень сильная волна патриотизма, в том числе в среде художественной интеллигенции. Крупнейшие русские живописцы и графики считали своим долгом внести своим творчеством вклад в поднятие духа русского воинства, в помощь пострадавшим и их семьям. В жанре военного плаката работали Апполинарий Васнецов, Константин Коровин, Борис Кустодиев. В целом уровень изобразительной рекламы вырос. В-третьих, жертвователями стали все слои населения, а не только состоятельные люди. Поэтому изменились методы благотворительной деятельности, изменились и средства художественного воздействия — все чаще на плакатах демонстрировались «ужасы войны» — раненные, заснеженные окопы, беженцы. Число таких сюжетов нарастало по мере роста недовольства ходом войны и действиями царя и правительства. И если в самом начале войны благотворительный плакат все еще часто был афишей о светском мероприятии «по поводу помощи жертвам войны», то достаточно быстро он превратился в изобразительную публицистику. Первым таким плакатом стал плакат художника Леонида Пастернака (отца известного поэта), называвшийся «Раненный солдат». Под ним в первые дни войны на Невском проспекте пел Л. Собинов, собирая пожертвования для раненных. Плакат за короткое время расклеили по всей стране, проданы были сотни тысяч открыток — репродукций. Плакаты призывали жителей России жертвовать на дома для увечных воинов, собирать средства польским семействам, пострадавшим от военных действий, помочь семьям погибших на фронте артистов балета и цирка, устроить рождественскую елку пострадавшим от войны детям. Иногда тематика таких плакатов довольно необычна. Так, неоднократно предлагалось собирать на кинематограф для солдат, на библиотеки для действующей армии, на солдатские бани. Благотворительные сюжеты абсолютно доминировали в военном плакате.
В период революции, гражданской войны, НЭПа направленность социальной рекламы стала абсолютно иной, тема благотворительности исчезла из нее на восемьдесят лет, эпизодически появившись лишь в период катастрофического голода в Поволжье в 1921 г. Автор плаката 1921 г. «Помоги голодающим» — художник-самоучка из старинного рода донских казаков Дмитрий Стахиевич Орлов. Но известен он под псевдонимом Дмитрий Моор. Он же — автор знаменитого плаката 1920 г. «Ты записался добровольцем?», многократно обыгранного и используемого как цитата (как правило, некорректно) до сих пор. В 1922 г. вышла серия плакатов Главполитпросвета по методам помощи голодающим. Художником был Б. Черемных, автором подписей — В.Маяковский. Призывы там совершенно конкретны:
Каждые 30 рабочих и служащих Усыновите одного ребенка из голодных мест!
Или шлите необходимое ему в село, или пусть у вас живет и ест.
«10 человек, кормите одного голодающего!».
«Главная наша забота — дети!».
На всех собраниях и сходах Проводите лозунги эти.
После начала 20-х годов благотворительные плакаты появились только уже в конце 80-х. Это были плакаты Советского фонда милосердия и здоровья.
Один из первых социальных плакатов советской власти был посвящен охране культурного наследия. Этот плакат был издан в 1919 г. по распоряжению наркома просвещения А. В. Луначарского. Одной из основных тем социальной рекламы в советский период была «женская» тема. Очень любопытен «феминистический» плакат 1920 г., посвященный пропаганде новых социальных возможностей, предоставленных революцией трудовой женщине. Работница показывает рукой на светлый город будущего с домом матери и ребенка, с женсоветом, детским садом, столовой, библиотекой, школой для взрослых, клубом. «Женская тема» довольно отчетливо прослеживается в плакатах на протяжении всего советского периода. Связано это было не только с задачами ликвидации дискриминации по полу, но, главным образом, с необходимостью вовлечения этой части населения в общественное производство. Теме «женщина на производстве» посвящено и несколько подписей к «профплакатам» и к плакатам о кооперации В. Маяковского (1924 г.):
1. Профсоюз ;
по женскому рабству удар.
Профсоюз ;
защитник женского труда.
2. Под защитой союза, при равном труде мужчине и женщине зарплата наравне.
3. Женщины, освободясь от кухонной маяты противной ряды кооперации заполняйте вами!
Работой кооперативной мужчина и женщина выравниваются правами.
4. Долой безобразников по женской линии.
Парней-жеребцов зажмем в дисциплине.
Последний лозунг из серии плакатов «Трудовая дисциплина» по теме удивительно «ложится» на современную американскую и западноевропейскую кампанию по противодействию сексуальному насилию на рабочем месте. Сейчас на Западе это постоянная тема социальной рекламы.
Позднее, уже в 30-е годы, появились предназначенные для женщин рекламные плакаты, которые, строго говоря, были рекламой коммерческой, но имели очевидный социальный подтекст. Они пропагандировали товары и услуги, облегчающие быт, снимающие с женщины часть домашней нагрузки. Женщина-работница, воин, ученый, колхозница, врач, инженер, т. е. женщина, занятая «не женским» делом, — ее образ «красной строкой» проходит через советскую плакатную графику. Но, видимо, первой «политкорректной», с точки зрения современных феминисток, социальной рекламой был один из плакатов времен Первой мировой войны, изображавший женщину-токаря, работающую на военном заводе. Аналогичные плакаты в США — «Клепальщица Рози», «Сделай работу, которую он оставил» — появились в США только в период Второй мировой войны См.: Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. — СПб: 2002, с. 295.
Обратное превращение — работницы в женщину — наметилось только в конце 50-х — начале 60-х годов. Так если в 30-е годы праздник 8 марта трактовался исключительно как день международной солидарности женщин-работниц, то во времена «оттепели» он стал восприниматься во все большей мере как день женщины, праздник не столько политический, сколько коллективный и семейный, соответственно, на праздничных плакатах появился и «семейный» визуальный ряд («Поздравляем маму!»). Вообще же тематика социальной рекламы менялась в соответствии с «задачами момента». В период гражданской войны основным объектом социальной рекламы были, фактически, методы выживания населения в тяжелых условиях. Так, например, в 1920 г. появилось «Окно РОСТА» (автор — В. Маяковский) по борьбе с холодом. С началом НЭПа, восстановлением экономики, на первое место в социальной рекламе вышли сюжеты, посвященные ликвидации неграмотности, борьбе с «пережитками прошлого», внедрению в жизнь санитарных норм и правил, навыков работы на крупных предприятиях. В двадцатые годы социальной рекламой активно занимался В. Маяковский. Выдающимся образцом некоммерческой рекламы являются подписи В. Маяковского к плакатам Санпросвета. Целью этой рекламной кампании было внедрить в быт малограмотного населения, не привыкшего еще к условиям городской жизни, основные правила гигиены, т. е. изменить, как мы сейчас говорим, «стереотип поведения целевой аудитории». Примером некоммерческой рекламы были и придуманные Маяковским лозунги по соблюдению рабочими техники безопасности, дисциплины на предприятиях, соблюдению противопожарной безопасности и пр.
Вот некоторые подписи В. Маяковского к плакатам:
Санпросвет.
1. Убирайте комнату, чтоб она блестела.
В чистой комнате ;
чистое тело.
2. Зубы чисть дважды, Каждое утро и вечер каждый.
3. Курить;
бросим.
Яд в папиросе.
4. То, что брали чужие рты, в свой рот не бери ты.
5. Запомните ;
надо спать в проветренной комнате.
6. Товарищи, мылом и водой мойте руки перед едой.
Всего было издано 35 таких плакатов.
Лозунги по безопасности труда:
1. Работай только на прочной лестнице.
Убьешься, если лестница треснется.
2. На работе волосы прячьте лучше:
от распущенных волос — несчастный случай.
3. Электрический ток ;
рабочего настиг.
Как от смерти рабочего спасти?
Немедленно еще до прихода врача надо искусственное дыхание начать.
Лозунги «Трудовая дисциплина» .
1.Антисемиту
не место у нас ;
все должны работой сравняться.
У нас один рабочий класс И нет никаких наций.
2. Не издевайся на заводе над тем, кто слаб, Оберегайте слабого от хулиганских лап.
3. В маленьком стакане, в этом вот, может утонуть огромный завод.
4. Долой с предприятий кулачные бои!
Суд разберет обиды твои.
Подписи к «профплакатам».
Я — член союза.
Союз позаботится, чтобы ко мне не подошла безработица.
Рабочий один слаб, профсоюз ;
защита от хозяйских лап.
Везде, где труд, рабочий где. ;
На страже Кодекс Законов о труде.
Противопожарная безопасность.
Горят электрические машины и провода.
Засыпь песком !
Вредна вода.
Молнию не тушат никакие воды.
Хранят от пожара ;
громоотводы.
С огнем не шути!
Сгореть можно, С огнем обращайся страшно осторожно.
Лозунги Электрозаводу.
1. Того, кто любит водкой нализаться, не проймет никакая рационализация.
Смотри, чтоб время болтовней не тратили.
После работы наговоришься с приятелем.
Принципиально новых тем в советской социальной рекламе за 30−40-е годы не появилось. Она по-прежнему концентрировалась вокруг пропаганды санитарных знаний («Вступайте в общество Красного креста и красного полумесяца СССР»), трудовой дисциплины и безопасности труда («Носите на производстве рабочую одежду»), борьбы с «пережитками» (прежде всего через сатирический плакат-карикатуру). Поощрялось образование, «честный труд на благо Родины» и т. п. С 30-х годов социальная реклама все чаще смыкается с идеологической, социальные ценности презентируются, как правило, на фоне идеологических символов.
Однако, с середины 50-х годов стала отчетливо проявляться и противоположная тенденция — идеологическая информация доносилась до аудитории через «семейный» видеоряд (отец, целующий дочку на фоне осенних листьев и маленького красного флажка в руке девочки — плакат 1960 г., посвященный 7 ноября). Даже традиционная для социальной рекламы тема — социальные завоевания Советской власти, — на рубеже 50-х и 60-х годов годов начала отображаться по-новому, через символы, связанные с «личным» семейным очагом, например, с получением новой квартиры. Стоит напомнить, что именно тогда начала реализовываться программа индустриального жилищного строительства («пятиэтажки»).
Среди новых тем, появившихся в социальной рекламе в конце 50-х, следует отметить начало активной пропаганды соблюдения правил уличного движения, особенно обращенной к детям. Это понятно — машин на улицах становилось все больше. Так на новогодней рекламной листовке для детей начала 60-х годов напечатано большое стихотворение о том, что на следующий год Дед Мороз обязательно спросит: «Как учились? Как гуляли? Как порядок соблюдали? Зная правила движения, кто забыл их выполненье? Кто к машине прицеплялся на коньках когда катался?» и т. д. Картинка же на листовке впечатляюща — Дед Мороз в открытом ЗИЛе остановился перед «зеброй» (они тогда только появились), по которой идут первоклассники в шубах и валенках. Еще одна популярная тема социальной рекламы конца 50-х годов — противопожарная безопасность, особенно связанная с новой еще техникой — бытовыми электроприборами, газовыми плитами и колонками. Реклама активно призывала максимально обезопасить свой городской быт, для многих еще новый, со всех сторон: закрывать краны, уходя, тушить свет, звонить 04 при запахе газа, мыть овощи и фрукты кипяченой водой, не перебегать перед поездом, употреблять свинину, только проверенную ветлабораторией, проветривать духовой шкаф перед использованием, не забывать открывать шибер перед топкой домашней печи (приведены подлинные темы социальной рекламы 50-х годов).
В конце пятидесятых годов появилась экологическая реклама, указывающая на необходимость тушить костры, уходя из леса, не загрязнять водоемы отходами промышленности, не вылавливать молодь промысловых рыб, беречь птиц. Реклама настойчиво напоминала, что лов лосося и форели запрещен, что браконьер — враг рыбных богатств, и что каждый гражданин должен посадить дерево.
Именно в пятидесятые — шестидесятые годы стали активно пропагандироваться достижения советской науки, прежде всеговыход в космос, первые полеты с человеком на борту, овладение силой атома. Целый блок рекламных материалов в начале 60-х был посвящен пропаганде химии, которая «широко простирает руки свои в дела человеческие». Это не удивительно, так как именно в это время была объявлена партийно-правительственная программа химизации. После 60-х годов социальной рекламе стало уделяться меньшее внимание.
«Лутчеб те милионы на ферверк издержаны были…».
или рекламные технологии и идеология Напомним, что выше мы определили идеологическую рекламу как пропаганду базовых, фундаментальных идей, качественно определяющих сознание, мнение, поведение человека или общности, осуществляемая с помощью присущих рекламе технологий. Именно в идеологической рекламе набор этих технологий особенно широк.
Одной из фундаментальных идей России всегда, за исключением очень коротких исторических периодов, была идея державности, мощи и непобедимости страны. Выражалось это, в том числе, пышностью царского двора, подчеркнуто масштабным празднованием коронаций, «викторий», памятных исторических дат. При Петре зародилась очень высокая в России культура военных парадов, сохранившаяся до последних лет существования СССР. В советскую эпоху культура «идеологических перфомансов» получила новый толчок. Начиная с первых лет советской власти, в стране регулярно проводились уличные демонстрации, манифестации, парады физкультурников, для чего специально оформлялись среда проведения этих мероприятий. Местом подобный действ была и Красная площадь, и пионерский лагерь. По большей части, они несли очевидную идеологическую нагрузку, хотя иногда, особенно после 50-х годов, обходились и без нее.
Массовые действа, их сценарии и оформление были частью особой области творчества, получившей после революции название «агитационно-массовое искусство (агитпроп)». К нему относят сегодня монументальную пропаганду (установку памятников и монументов идеологического содержания), оформление празднеств, оформление агитпоездов и агитпароходов, постановку массовых зрелищ и т. п. Традиции такого искусства уходят корнями в глубокую древность, в торжественные процессии, в сакральные действа, магические ритуалы. Торжественные «царские выходы» да сих пор производят впечатление, даже в виде их модели, демонстрируемой Большим театром в первом действии оперы «Борис Годунов». С провозглашением империи пышность процессий только возросла. Вот как выглядел торжественный въезд в Москву императрицы Елизаветы Петровны в феврале 1842 г. Царица ехала в карете, запряженной восьмью парами лошадей, окруженная огромной свитой. На пути ее следования построили четыре триумфальные арки «от разных граждан», по обеим сторонам Тверской «в парад были поставлены полки», императрицу приветствовал хор учеников Славяно-греко-латинской академии в белых одеждах и с лавровыми ветками в руках и т. д. и т. п. И сегодня впечатляют кадры старой кинохроники, запечатлевшей торжества в Кремле по случаю 300-летия Дома Романовых. В лучших традициях подобного рода действ была разработана церемония инаугурации президента России в 2000 г.
Своеобразной наглядной демонстрацией идеи державности всегда считались торжественные процессии, посвященные возвращению войск после успешной кампании. Сохранились свидетельства очевидцев о торжественном входе русских войск во главе с Петром I после победы под Азовом в 1696 г. Все в этой процессии было призвано отразить мощь русского оружия. Были сооружены триумфальные ворота, на всем пути улицы украшены были лавровыми венками, повсюду были выставлены аллегорические картины подвигов Геркулеса и Марса мало, правда, понятные московским обывателям.
В период войны со Швецией традиция устройства торжественных процессий в честь побед приобрела небывалый размах. Так в Москве в 1709 г. в честь победы под Полтавой для прохождения войск было выстроено 7 триумфальных арок и несколько «великих пирамид» на пьедесталах. На украшавших их панно и картинах изображались реальные персонажи и аллегории: Карл Х11, увидевший во сне Александра Македонского, Россия, отринувшая от себя изменника Мазепу, эпизоды пленения шведских войск и самой Полтавской битвы. Все эти «политические картины» выполняли агитационную, информационную и даже просветительскую задачу. К украшению города во время подобных празднеств привлекались знаменитые архитекторы Д. Трезини и Б-К. Растрелли-старший. Позднее, во второй половине ХУ111 века, в подобных работах активно участвовали архитекторы, чьи имена, составляют гордость русского зодчества — М. Казаков и В. Баженов.
Не менее любопытным направлением презентации события, идеи, характерным для ХVIII века, были праздничные фейерверки, отличавшиеся редкой помпезностью. Мы уже упоминали об этой социальной технологии, рассматривая аллегорию как стилеобразующий компонент российской рекламы в первой половине XVIII в. Сейчас проанализируем эти зрелища с содержательной стороны.
Внедрил фейерверки и иллюминации в русский быт Петр I, хотя впервые фейерверк по западному образцу в России был устроен еще при Алексее Михайловиче родственником царя — боярином Нарышкиным. По свидетельству современников, все перепугались насмерть. Впрочем, сохранились свидетельства, что еще в ХУ1 веке скоморохи проводили на Москве «огненные потехи». Патриарх давал им на то разрешение на неделю перед Рождеством и на время от Рождества до Крещения.
Петровские «огненные потехи» устраивались по всякому «приличествующему» поводу, сопровождались пушечной пальбой, звуками труб и стрельбой из мушкетов. Объяснялось это не только любовью самого царя к шумным и необычным забавам, но и более серьезными причинами. Подобные торжества служили средством воздействия на общественное мнение как внутри страны, так и за рубежом, для чего на них специально приглашались иностранцы. Впрочем, эти зрелища популярны в разных странах до сих пор и используются они примерно с такими же целями. Так, можно вспомнить необыкновенной пышности «огненные потехи», устроенные в разных городах мира по случаю миллениума, или впечатляющее шоу в ночном небе Шанхая в 2001 г. в честь проходившей там встречи глав государств-членов АТЭС.
Как уже говорилось ранее, в XVIII в. в России фейерверк специально проектировался, чтобы создать осмысленное зрелище, знако-символический ряд, фактически текст, наглядно представляющий аудитории важную идею или достижение. Специально сочинялись девизы, писались транспаранты, обученные за границей фейерверкеры при участии Петра подбирали состав зарядов для получения нужного цвета. Затем картина фейерверка воспроизводилась на «потешных листах» (гравюрах) и распространялись среди «целевой аудитории». Как пишет современный исследователь, условный и аллегорический язык фейерверков был тесно связан с идеями общественной жизни того времени, среди которых главной была идея «государственности». Фейерверки были, фактически, пропагандистской технологией, воздействовавшей на широкий круг зрителей См.:Сариева Е. А. Фейерверки в России ХУ111 века //Развлекательная культура России ХУ111-Х1Х веков. Очерки истории и теории. — СПб: Дмитрий Буланин, 2001, с. 90. Петр I хорошо понимал значение подобных зрелищ для воздействия на население. В одной из своих записок он писал по поводу неправильно использованных денег: «Лутчеб те милионы на ферверк издержаны были… нечто б дивное и памяти достойная вещь была, и народ в тот час великой плезир имел» Соболева Н. А. Старинные гербы российских городов.-М.: 1985, с. 38.
Описан фейерверк, состоявшийся 1 января 1710 г. по случаю Полтавской баталии. Был там транспарант с Юпитером, поражающим Фаэтона («от возношения низвержение»), и гора каменная, символизирующая «Швецкое государство», из горы выходил лев, который «являл армию швецкую». Государство российское изображено было в виде столпа с короною, на которую покушался лев. Но затем явился орел «для защищения оного столпа». Являл он собой русскую армию. Орел «оного льва огненными стрелами расшип с великим громом». Безусловно, зрелище впечатлило бы и избалованную современную публику.
Еще более впечатляющим был фейерверк по случаю поднесения Петру почетного титула «Великого, Отца отечества и Императора Всероссийского». Современник описывал его как незабываемое зрелище. Сперва открылось взорам большое здание, изображавшее храм Януса. Двери в него были открыты, а внутри стоял, образованный голубым огнем, старый Янус с лавровым венком и масличной веткой в руках. Затем к храму с обеих сторон двинулись два рыцаря из голубого огня, один с двуглавым орлом на щите, другой — с тремя коронами. Рыцари прикоснулись к воротам храма и они закрылись. Воины тогда подали друг другу руки. Как только ворота закрылись, грянули пушечные выстрелы из всех имевшихся орудий и ружей, загремели все литавры и барабаны 27-тысячной Финляндской армии. Как только адская пальба утихла, над храмом загорелся щит с изображением Правосудия, попиравшего ногами двух фурий. Над эмблемою горела надпись «Всегда победит!». Слева же зажегся щит с кораблем в гавани и надпись «Конец венчает дело». Над каждой надписью сияло по звезде. Затем закрутились шары, колеса и фонтаны из огненных искр. Такие же шары и колеса пустили по Неве. Для нас в этих символах не все понятно, но образованные современники разбирались без особого труда. Храм Януса в Риме открывали только в дни войны. Лавровый венок в одной руке — символ победителя, масличная ветвь в другой — символ неизбежного после всякой войны мира. Закрывающиеся ворота свидетельствовали об окончании военных действий. Рыцарь с орлом — Россия. Рыцарь с тремя коронами — Швеция (три короны и по сию пору шведский герб). Их рукопожатие — окончание былого противостояния. Две фурии — недоброжелатель России и ненавистник России и т. д.
Но самым необычным, поистине «варварским» примером такой «световой рекламы» была «иллюминация», устроенная Петром Великим в Москве в феврале 1723 г. После окончательного заключения мира со Швецией старшая дочь Петра — Анна — была просватана за наследника шведского престола, герцога Голштинского. В честь жениха Петр решил торжественно сжечь деревянный Преображенский дворец. «В этом доме зрели мои первые замыслы против Швеции, и пусть вместе с ним погибнет всякая мысль, могущая когда-нибудь вооружить мою руку против этого государства», — сказал он, обращаясь к герцогу. С наступлением сумерек император поджег фитили. По контурам здания побежал голубой, белый и зеленый огонь (химический состав топлива был разработан при участии Петра), внутри же взметнулось пламя обычного пожара. Петр с несколькими барабанщиками отбивали дробь, торжественно и тревожно звонили колокола, вверх летели ракеты Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. — М.: 1988, с. 122.
В Х1Х веке фейерверки носили уже почти исключительно увеселительный характер, знако-символическая их составляющая была практически утеряна. Возродилась она в советский период. Праздничные иллюминации и салюты стали важной визуальной приметой советской эпохи, причем большое внимание уделялось именно их символическому смыслу. Так, фотографии салюта в мае 1945 г. над Кремлем вошли во многие учебники истории как символ победы страны в самой страшной из пережитой ею войн. В праздничной иллюминации всегда присутствовали идеологические символы — звезды, лавровые ветви, красные гвоздики, герб СССР (его всегда иллюминировали на здании Центрального телеграфа в Москве). Популярны были символы индустриализации и коллективизации — трактора, линии электропередач, ГЭС с потоками воды (обычно такую световую картину выкладывали на здании Мосэнерго, что напротив Кремля). В дни 7 ноября и 1 мая многие семьи специально выходили вечером «в центр» посмотреть праздничную иллюминацию и салют. Это, безусловно, способствовало формированию чувства причастности к происходящему, групповой принадлежности, социальной идентификации. В статье, посвященной агитационно-массовому искусству двадцатых годов читаем: «Праздники концентрированно воплощали мечту о светлом будущем, являлись своеобразной художественной моделью такой мечты… Праздничным оформлением стремились преобразить будничный облик улиц, площадей, отдельных зданий. Совместным участием разных искусств на фоне старого города создавался своеобразный город будущего, конечно, не как реальный архитектурный проект, а как грандиозная многослойная метафора, как выраженная художественными средствами идейно-эмоциональная программа» Стригалев А. Агитационно-массовое искусство (Агитпроп).// Москва-Париж. 1900;1930. Каталог выставки. — М.: 1981, т.1, с. 113.
Наиболее масштабными идеологическими действами стали проведенные в Москве два Всемирных фестиваля молодежи и студентов (VI — 1957 г. и ХII — 1985 г.) и Игры ХХII Олимпиады в Москве (1980 г.). По сути, это были так называемые «специально организованные события», цель которых — спровоцировать поток благожелательных публикаций в СМИ, привлечь массовое внимание к организатору этого события, продемонстрировать через эти каналы идеи, возможности и достижения организатора. Технология эта широко применяется в рекламе, но еще более популярна она в другом направлении формирования общественного мнения — «паблик рилейшнз».
VI фестиваль, состоявшийся в разгар оттепели, должен был продемонстрировать новый имидж СССР как миролюбивой страны, открытой для людей доброй воли со всего мира. Такого количества иностранцев в Москве не видели никогда, разве что во время знаменитого провода пленных гитлеровцев через Москву 19 июля 1944 г. (57 600 немецких солдат и офицеров и 19 генералов). На фестиваль приехало 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны. С начала 30-х годов СССР был очень закрытым государством. Не только выезд, но и въезд был крайне ограничен. Информация о СССР, публикуемая на западе в массовых изданиях, была преимущественно негативная (холодная война была в разгаре). Задача была — продемонстрировать то, что дала советская власть человеку, в первую очередь молодежи, заставить говорить о фестивале и тем самым — о Москве, о СССР во всем мире. Для этого нужно было действительно грандиозное действо и оно состоялось. За две недели фестиваля прошло множество мероприятий. Открытие состоялось на построенном накануне фестиваля стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. По воспоминаниям простых москвичей, праздник был действительно грандиозный и не слишком заформализованный. Торжественное открытие, вечер солидарности с молодежью колониальных стран, праздник труда, встреча сельской молодежи, день девушек, студенческий карнавал.
Неприятностей, правда тоже хватало, в основном они касались «неуставных» личных контактов рядовых советских граждан и зарубежных участников. Но главные неприятности начались потом, когда людям стали «советовать» не переписываться с иностранцами, с которыми они познакомились на фестивале и т. д. Такими действиями постарались ввести в официальные рамки реакцию на это событие внутри страны. Тем не менее, московский фестиваль — одна из самых ярких примет «оттепели». На «внешнем рынке» цель была, в общем, достигнута, фестиваль вызвал большой международный резонанс. Одним из участников фестиваля был Габриэль Гарсиа Маркес. Он писал: «Мы увидели тогда главное — реальную жизнь Советского Союза, проблемы, которые с успехом решает народ. Впервые мы увидели, сколько лжи обрушивает на социализм буржуазия. Московский фестиваль для многих стал подлинным открытием социализма».
Важной составляющей успеха стало праздничное оформление Москвы во время фестиваля. Были задействованны и объемные конструкции («факел фестиваля» на Ленинских горах), и световые кинетические устройства, и традиционные панно, транспаранты, флаги Подробнее см.: Коваленко Е. Фестиваль. — Декоративное искусство СССР, 1957, юбилейный номер; Жуков Н. Искусство и быт// Художник и современность — М.: 1961 г. Как писали позже, «город был уподоблен гигантской выставке, в ее нарядной экспозиции и разворачивались разнообразные церемониалы молодежного празднества… Простота пластического языка, романтическая приподнятость и жизнеутверждающий оптимизм при большом разнообразии творческих подчерков — вот то основное, что определило оформление города» См.: Немиро О. Праздничный город. — Л.: Художник РСФСР, 1987, с. 56.
Вторым событием такого масштаба была московская Олимпиада. При проведении олимпиады город, ставший столицей Олимпиады, преследует, как правило, три цели — прославиться (особенно если город небольшой), привлечь инвестиции и дать толчок развитию города, получить коммерческую выгоду. Москва приглашала к себе Олимпиаду с целью продемонстрировать новый имидж СССР как миролюбивого открытого государства. В принципе эти претензии имели под собой определенную почву — СССР был одним из организаторов Хельсинкского процесса, экономические связи с капиталистическими странами стали стабильными и крупномасштабными (в основном, за счет поставок нефти и газа). Вместе с тем, массовое сознание на Западе сохраняло в себе «образ врага». Для изменения имиджа страны необходима была крупная акция, которая могла бы сформировать поток благожелательной информации и тем самым поколебать этот образ.
С точки зрения организационной, московская Олимпиада, по свидетельству многих спортивных деятелей, до игр в Сиднее не имела себе равных. Церемонии открытия и закрытия Олимпиады навсегда запомнились всем, кто их видел. Как сказал один из деятелей МОК: «Это можно повторить, но нельзя превзойти». Церемонии эти разрабатывал и готовил к показу два года огромный коллектив из представителей разных профессий — художников, хореографов, спортсменов, модельеров, репетиторов, парикмахеров, пастижеров и др. Костюмов, например, было сшито 36 тыс. Руководил всем этим действом известный режиссер массовых представлений, народный артист СССР Иосиф Михайлович Туманов. Особое впечатление производил «живой экран», где по сценарию возникали статичные или движущиеся картины (официальная эмблема Олимпиады, развевающийся олимпийский флаг, Кремль, летящие гуси-лебеди, плачущий Миша и т. д.). Главным режиссером фона был художник Лев Немчик.
К олимпийским играм в Москве были выстроены прекрасные спортивные сооружения, гостиницы, новые телецентр и пресс-центр, хороший жилой район «Олимпийская деревня». Было закуплено много оборудования, которое в основном потом эксплуатировалось в городском хозяйстве. Однако главные задачи — пропагандистские, -полностью решить не удалось. Во-первых, в связи с вводом войск в Афганистан, отказались приехать делегация США, ФРГ, Японии и нескольких небольших стран. Значительное число делегаций (стран НАТО и ряд других) выступали в ослабленном составе, т.к. власти не разрешили участие спортсменам, состоящим на государственной службе (военнослужащим и пр.). Кроме того, эти делегации выступали не под национальными флагами, а под олимпийским знаменем. От участия воздержались некоторые спортивные федерации, особенно пострадала из-за этого конно-спортивная программа. Такая реакция не была эмоциональной и случайной. Разрушать «образ врага» не хотелось, тем более что сам «враг» дал прекрасный повод этого не делать. Однако еще до событий в Афганистане в СССР прогнозировались, в том числе и на уровне вероятностных математических моделей, возможные сценарии срыва Олимпиады. Сорвать Олимпиаду не удалось, не удалось понизить ее спортивный уровень (количество рекордов превысило уровень предыдущей Олимпиады в Монреале), но удалось ослабить пропагандистский эффект акции за счет того, что в ведущих странах было до минимума сокращено освещение Олимпиады в электронных СМИ. А именно этот канал информации является в современном мире основным. Открыть телевизионное окно в СССР, в общем-то, не удалось, а именно на это, собственно, и рассчитывали в первую очередь организаторы Олимпиады. Во-вторых, заорганизованность внеспортивных мероприятий, отсутствие свободного общения, возможности пойти на те соревнования, на которые хочешь (билеты не продавались, а распределялись), делали еще более явной для граждан, да и для иностранцев, реальную закрытость советского общества, оторванность его от большей части мира. Тем не менее, Олимпиада получила отклик большой и в целом положительный, хотя и не столь однозначный, как рассчитывали. Прорыв в «мировое сообщество» не вполне удался.
С точки зрения рекламных технологий, Олимпиада продемонстрировала возможности советских графиков работать «на уровне мировых стандартов». Очень удачной была признана официальная эмблема Олимпиады, напоминавшая одновременно и о спорте (беговые дорожки стадиона), и о наиболее характерном для Москвы силуэте (башня со звездой). На официальную эмблему Олимпиады был объявлен конкурс, который выиграл малоизвестный график из Литвы В.Арсентьев. Именно его эмблема украшала в дни Олимпиады все спортивные арены. Удачным был и неофициальный талисман — Миша. Его создателем был известный иллюстратор детских книг В.Чижиков. Для всех видов спорта был разработан набор пиктограмм, позволявших легко идентифицировать проводимые на этой арене соревнования. Эти пиктограммы были дипломной работой молодого дизайнера Н. Белковой — оканчивавшего в то время Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Были также разработаны специальные пиктограммы для обозначения сервисных служб Олимпиады (питания, медобслуживания и т. д.). Их авторами стала большая группа московских графиков из Комбината графического искусства. Был создан также официальный шрифт Олимпиады (буква «О» в нем была абсолютно круглой — под олимпийское кольцо), дававший возможность сразу выделять из общего потока информации официальные материалы Олимпиады. Автор его — московский художник А.Музанов. Во ВНИИ полиграфии была создана цветовая гамма Олимпиады — светло-зеленый, зеленый, голубой, красный, оранжевый и золотой. Оргкомитетом было выпущено 250 плакатов на тему «Олимпиада-80» общим тиражом 18 750 000 экземпляров Ческидов К. Г. Художник и Олимпийская Москва — М.: Советский художник, 1984 г.; Трескин А., Штейнбах В. История Олимпийских игр. Медали, значки, плакаты. — М.: 2001, с. 46.
Последним крупным событием такого же типа в СССР был ХII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985 г. В Москву приехало 20 000 делегатовиз 157 государств. Церемонии открытия и закрытия были весьма впечатляющими, хотя в своих основных составляющих они повторяли Олимпиаду-80. Но сам лозунг, годившийся для 50-х — «За антиимпериалистическую солидарность, за мир и дружбу между народами» — уже не был столь актуальным для середины восьмидесятых. Более значимыми стали проблема прав человека, экологии, борьбы с терроризмом, противоречий между Севером и Югом, демографические проблемы развивающихся стран. Поэтому большого интереса в мире программа фестиваля (Антифашистский центр, антиимпериалистический трибунал, Центр мира и разоружения и т. п.) не вызвала. «Борьба с инакомыслием» со стороны властных структур всех уровней и типов затрудняла свободное ведение дискуссий, особенно там, где касалось критики внешней или внутренней политики СССР. Поэтому фестиваль продемонстрировал скорее системные пороки строя, невозможность его модернизации, адаптации к меняющемуся миру.
Итак, пропаганда идеологии с помощью «перфомансов» была доведена в СССР почти до совершенства, хотя их эффективность в последние два десятилетия существования СССР можно ставить под сомнение.
Еще одной важной пропагандистской технологией в России было возведение монументальных сооружений с очень значимой идеологической составляющей. Уникальным этот подход назвать нельзя. Везде и во все времена пирамиды, храмы, колоссы, стелы строились не столько для нужд прагматических (сохранение тела, отправление обряда, обозначение места события, указание пути мореходам), сколько «идеологии для»: продемонстрировать мощь государства, мудрость правителя, покровительство ему со стороны высших сил, приверженность избранной системе ценностей и т. п. Само понятие «монумент» происходит от латинского слова «monere». Одно из его значений — «напоминать», «обращать внимание». «В образах монументов, — пишет искусствовед, — чаще всего выражается емкая идея, выработанная в ходе развития общества, принятая обществом и пропагандируемая обществом» Турчин В. С. Монументы и города. — М.: 1982, с. 113.
В России всегда значимые события отмечали возведением храмов. Так, храм Христа Спасителя был посвящен увековечению памяти о победе православной России в войне против «двунадесять языков» в 1812 г. В галерее по периметру храма были вмурованы в стены 177 мраморных досок с именами погибших, раненных и награжденных офицеров войны с Наполеоном. Но ни одного солдатского имени на этих досках не было.
Более поздней традицией стало возведение памятников выдающимся людям или монументов в честь исторических событий. Первыми российскими монументами европейского типа были «медный всадник», открытый в 1782 г. при огромном стечении народа, и памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Открытие последнего в 1818 г. в Москве на Красной площади сопровождалось военным парадом. Первым российским мемориалом стало «Бородинское поле» — комплекс памятников и храм на месте сражения. Начиная с петровского времени, для торжественного прохода победоносного войска воздвигались временные или постоянные триумфальные ворота (арки). Одна из них, первоначально построенная на Тверской улице в честь победы над Наполеоном, была в 60-х годах восстановлена на Кутузовском проспекте Москвы. Безусловно, эти и другие подобные сооружения несли в себе «идеологическую нагрузку».
В советскую эпоху эта технология дала ряд выдающихся образцов мирового пропагандистского монументализма. В апреле 1918 г. был принят, по инициативе В. И. Ленина, декрет Совнаркома «О памятниках республики». Ленин же подписал список лиц, которым предполагалось поставить памятники. Первый раздел — герои освободительной борьбы, революционной мысли (Маркс, Энгельс, Плеханов, Спартак, Гарибальди — всего 31 имя). Второй раздел — 35 имен писателей, композиторов, художников, актеров, ученых (Толстой, Достоевский, Комиссаржевская, Врубель, Андрей Рублев, Менделеев). «Ленинский план монументальной пропаганды» — так он стал называться впоследствии — стал активно осуществляться с лета 1918 г. Но, имевшийся в распоряжении скульпторов материал (низкосортный цемент) был столь нестойким, что большинство памятников разрушилось. До нашего времени сохранились только памятники А. Герцену и Н. Огареву у старого здания МГУ, К. А. Тимирязеву, В.Воровскому.
Выдающимся монументальным проектом советской эпохи стала «башня Татлина». Владимира Евграфовича Татлина (1885−1953) числят одновременно среди основоположников и супрематизма, и конструктивизма, и кинетизма (художественного направления, в основе которого лежит идея движения как формообразующего принципа). Но, какой «изм» не возьми, Татлин входит в число выдающихся художников-дизайнеров ХХ века. Самое известное произведение Татлина — проект памятника III Интернационалу. Памятник был заказан ему Наркоматом просвещения в 1919 г. В 1920 г. был сделан макет 6 м. высотой, который хранится теперь в Третьяковской галерее.
Проектом предусматривалось возведение сооружения высотой в 400 метров. Это должен был быть не только памятник, но и функциональное здание, предназначенное для размещения администрации III Интернационала, массовых мероприятий «победившего международного пролетариата». Спиралевидный стальной каркас конструкции обнажен. Внутри каркаса расположены вращающиеся с разной скоростью гигантские застекленные первичные объемы (куб, пирамида, цилиндр). Нижнее помещение — в форме куба — предназначалось для конференций. Время оборота вокруг оси — год. Средний объем — пирамида, вращающаяся вокруг оси за месяц, — должно было служить для размещения исполнительных органов Ш Интернационала. Наконец, верхний прозрачный цилиндр, оборачивающийся за сутки, должен был стать информационным центром, снабженным всеми сверхсовременными средствами связи. На «крыше» сооружения должны были быть установлены антенны и проекционные экраны. Между внутренними объемами предполагалось пустить подъемные механизмы. Спроектированная Татлиным конструкция напоминает о «Городе будущего» Велемира Хлебникова, в котором в воздухе висят шары и призмы из стекла.
Итак, искусство — связующее звено между «мозгом всемирной революции» и обществом (тем, что находится за пределами конструкции). Вечное движение, включенное в спираль — смысл истории. Каждый человек — малый элемент на это гигантском пути из прошлого в будущее. Такая идея была заложена в этот проект. Искусствоведы называют «башню Татлина» социально-технически-художественная конструкция, а еще — наиболее системным воплощением «искусства социальной режиссуры».
Идея монументальных композиций башенного типа в конце ХIХ и в начале ХХ была широко популярна у скульпторов и архитекторов, хотя во все времена, на протяжении всей человеческой истории особо высокая башня рассматривалась как символ человеческих дерзаний (вспомните легенду о Вавилонской башне). «Вавилонской башней XIX века» назвали современники ажурную металлическую башню высотой 320 м, построенную в 1889 г. в Париже. Никакого прагматического назначения она тогда не имела, это было крупнейшая в мире специальная рекламная конструкция, предназначенная для привлечения внимания к Всемирной выставке, открытие которой совпало к тому же со 100-летним юбилеем Великой французской революции. Воспринималась эта конструкция многими как зримое воплощение триумфа буржуазной эпохи, начало которой положила именно революция 1789 г. В 1898 г. О. Роден создал проект колоссальной башни «Памятник труду». В башне должны были располагаться многочисленные рельефы, олицетворяющие непрерывный труд человека, историю ремесел, техники, научных открытий. На куполе башни предполагалось разместить две огромные фигуры крылатых гениев. В 1902 г. скульптор Г. Обрист создал проект колоссального монумента, своей формой (спираль с наклонной центральной осью) очень напоминающий «башню Татлина». Уже после проекта Татлина — в 1929 г. — советский архитектор К. Мельников разработал проект огромного памятника Х. Колумбу в Санто-Доминго, в основу которого также была положена спиралевидная конструкция Подробнее см. там же, с. 90.. Эти проекты не были реализованы.
К строительству «башни Татлина» никогда не приступали, скорее всего, о нем всерьез никогда и не задумывались. Но эта конструктивистская утопия, вошедшая во все фундаментальные работы по архитектуре и дизайну ХХ века, оказала прямое влияние на другой проект, который только вследствие совпадения ряда обстоятельств не был построен. Речь идет о Дворце Советов. Впервые идея была озвучена в декабре 1922 г. на Первом съезде Советов СССР, утвердившем Договор об образовании СССР. С. М. Киров, бывший тогда секретарем ЦК компартии Азербайджана, в своем выступлении сказал: " … нам скоро станет тесно, нам потребно будет более просторное помещение, которое могло бы вместить представителей трудящихся всего мира. Поэтому нам необходимо заняться возведением рабочего дворца на лучшей площади Москвы, столицы СССР, чтобы этот дворец был эмблемой пролетарской мощи" Цит. по: Бочаров м.П. История паблик рилейшнз. Нравы, бизнес, наука. — М.:2000, с. 140.
Первый вариант проекта архитекторов Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейха был утвержден в 1932 г. Дворец должен был стать основным градообразующим стержнем «новой социалистической Москвы». К этой точке привязывался Генеральный план реконструкции столицы, принятый в 1935 г. Но первый доклад о необходимости кардинальной перестройки города прозвучал в 1931 г. на Пленуме ЦК (докладчик — Л.М.Каганович). Уже в этом плане были обозначены главные составляющие нового города — метро, канал Москва-Волга, семь «высоток», наземная железная дорога (не была построена). Но основной стройкой был объявлен Дворец. Именно он должен был стать колоссальнейшим сооружением эпохи, кульминацией идеи социалистического массового общества, осуществившего Светлое Будущее под руководством Вождя. Увенчивать здание должна была грандиозная статуя Ленина. Фактически весь комплекс и был постаментом этой стометровой статуи. Вождь и масса — такую идею закладывали в это колоссальное сооружение его создатели: идеологи и архитекторы. Дворец Советов должен был стать самым высоким сооружением в мире. Именно он (а не Кремль) рассматривался как архитектурный центр будущей столицы.
Проект начал осуществляться. Вместо Храма Христа-Спасителя выкопали огромный котлован, но оказалось, что плывуны делают строительство подобного здания на этом месте невозможным. Может быть, технологическое решение и было бы найдено, но огромные потери в Великой Отечественной войне сняли это строительство с повестки дня. Затем выкопанную яму оборудовали под грандиозный общедоступный бассейн «Москва», теперь же на прежнем месте по старым обмерам восстановлен Храм Христа-Спасителя.
Но не только в столь очевидно идеологических проектах была заложена ИДЕЯ. Как написано в одной из работ по архитектуре, изданной в 1952 г., «в эпоху социализма архитектура приобретает особенно большое воспитательное значение… советская архитектура с каждым годом все успешнее выражает те большие и прекрасные чувства и идеи, которые разительно отличают идеологию советского общества от растленной идеологии империалистического мира… Реконструкция Москвы, постройка метрополитена и высотных зданий — все это осуществляется по инициативе товарища И.В. Сталина» Сарабьянов В. Н. Архитектура и общественное сознание. — М.: 1952, с. 40. Действительно, эти вполне функциональные здания и сооружения отчетливо несут на себе идеологические приметы времени, да и сами служили такими приметами. Так, серия высотных домов в Москве, заложенная в Генеральный план реконструкции Москве еще в 30-е годы, стала олицетворением застывшего в камне салюта в честь Победы. Интересная деталь. На предвыборной открытке «Все на выборы в Верховный совет РСФСР 18 февраля 1951 г.» (об этих открытках речь впереди) изображен проект здания МГУ на Ленинских горах. Само здание еще только строилось, оно было закончено в 1952 г. На этой открытке центральный корпус в непривычном для нас виде: здание завершает не известный всем шпиль со звездой в лавровом венке, а огромная скульптура на конусообразном постаменте. По легенде, Сталин незадолго до окончания строительства приехал «на объект» и спросил: «А где же шпиль?». Хотя шпиля проектом не предусматривалось, сказать, что его и не будет, не решились и проект был задним числом изменен.
Еще одна «идеологическая конструкция» была в советское время реализована в полном объеме и столь удачно вписалась в социальные стереотипы «Москва» и «Кремль», что сделанное в начале девяностых годов предложение об ее уничтожении было встречено «в штыки» людьми, придерживающимися разных политических взглядов.
Кремлевские звезды над нами горят, Повсюду мы видим их свет.
Хорошая Родина есть у ребят И лучше той Родины нет.
Рубиновые звезды столь прочно срослись в массовом сознании со столицей, что иногда кажется, будто они всегда увенчивали 5 кремлевских башен (Спасскую, Никольскую, Троицкую, Боровицкую, Водовзводную"). Это, естественно, не так, но история этого символа «Москвы-столицы СССР» действительно длиннее, чем сами звезды.
В 1654 г. сильно пострадала от пожара Спасская башня. Башню отремонтировали, а над новым шатром на шпиле укрепили двуглавого золотого орла. Затем орлов посадили еще на три башни — Никольскую, Троицкую и Боровицкую. Наполеон, покидая Москву, дал приказ взорвать Кремль, в том числе и башни. Полностью это не удалось, но башни, в том числе и с орлами, сильно пострадали. Башни и орлов восстановили, позднее к ним прибавились 2 орла на Историческом музее и герб Ивана III украшал Кремль и Красную площадь до 1935 г. Только через 17 лет после революции было принято решение Совета народных комиссаров о замене царских символов советскими. Решено было к октябрьским праздникам 1935 г. заменить орлов на 4 звезды с серпом и молотом. Куратором проекта был назначен Серго Орджоникидзе, изготовлял звезды авиационный завод в Москве ЦАГИ. Звезды были металлическими (стальной каркас и позолоченные листы красной меди). В центре звезды располагались двухметровые серп и молот, выложенные из драгоценных и полудрагоценных камней (на 4 звезды пошло 7 тысяч камней общим весом 240 кг). Ночью звезды подсвечивались прожекторами. Размер у звезд был разный (от 4,5 м между концами противоположных лучей, до 3 м). Это объяснялось разной высотой башен: звезды одного размера казались бы разными по величине. Звезды вращались вокруг своей оси на подшипниках, хотя каждая весила около тонны. 4 октября 1935 г. звезды установили.
Через год стали ясны огрехи проекта. Звезды казались слишком большими, непропорциональными башням, камни покрылись городской пылью и перестали сверкать. В мае 1937 г. было принято решение к октябрьским праздникам 1937 г. установить новые звезды. Старые демонтировали, одна из них украсила только что построенный Речной вокзал. Началась без сна и отдыха работа над реализацией проекта.
Новые звезды стали не только наглядной «идеологической доминантой», но и выдающимся произведением мирового дизайна и мировой инженерной мысли. Звезды имеют очень сложную форму. Каждый луч — многогранная пирамида. Остекление двойное: рубиновое стекло сверху и молочное внутри (чтобы не видно было источника света). Рубиновое стекло имеет разную плотность, оно не выцветает. Рефрактор из 15 граней вокруг лампы (есть лампы 5 тыс. ватт, есть — 3,7 тыс. — т.к. размер звезд от 3 до 3,7 м) создает иллюзию равномерной освещенности всех частей сооружения. Одновременно с лампой включается мощный вентилятор, иначе стекло треснет от температуры. Если вентилятор останавливается, мгновенно выключается источник света. Звезды «горят» не только ночью, но и днем, иначе они кажутся черными. В войну на звезды надели чехлы и впервые их включили вновь 11 мая 1945 г.
Наконец, еще один осуществленный в том же 1937 г. проект сооружения с очень сильной идеологической составляющей — колоссальная статуя «Рабочий и колхозница». Это самое выдающееся произведение монументальной пропаганды советского периода. Даже сейчас скульптура поражает. Высота 24 м, длина шарфа — 30 м. Весил этот шарф 5,5 тонн и должен был держаться без вертикальной опоры. Длина руки рабочего — 8,5 м, высота головы — 2 м, общий вес статуи — 75 тонн. Статуя кована из стального листа и сварена, что тогда считалось самой передовой технологией. Это первое в мире сварное сооружение такого размера и сложности. Внутри находится сложная опорная конструкция. Вес собственно стальной оболочки — 9 тонн. Толщина листов — 0,5 мм. В качестве единственного аналога «Рабочего и колхозницы», равного ей по «идеологической составляющей», называется, как правило, медный колосс «Свобода, освещающая мир», созданный скульптором Ф. Бартольди и инженером Г. Эйфелем (автором Эйфелевой башни). Она была подарена США Францией и в 1886 г. ее установили на острове в гавани Нью-Йорка. Высота колосса 46 м, вес — 225 тонн.
Статуя «Рабочий и колхозница» была задумана ведущим советским архитектором Б. Иофаном как составная часть советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. Проект Иофана, победивший на специальном конкурсе, представлял собой длинное, поднимающееся уступами здание 34 м высотой. «Советский павильон рисовался мне как триумфальное здание, отображающее своей динамикой стремительный рост достижений первого в мире социалистического государства, энтузиазм и жизнерадостность нашей великой эпохи построения социализма», — вспоминал позже архитектор. В процессе работы родилась идея увенчать здание символической скульптурой — юноша и девушка, олицетворяющие хозяев советской земли — рабочих и колхозное крестьянство. В руках они должны были держать серп и молот. Считается, что Иофана натолкнула на эту идею греческая скульптура V века до н. э. «Тираноборцы», поза которой действительно похожа на задуманную Иофаном скульптуру. Именно Иофан придумал первый эскиз «Рабочего и колхозницы» и внес его в свой проект.
Место, выделенное для советского павильона, возвело архитектурную и художественную задачу в ранг не просто агитационной, а политической. Павильон СССР располагался на одной оси с павильоном Германии, входы находились напротив друг друга. Архитектором немецкого павильона был А. Шпеер — министр строительства в нацистской Германии, автор Генерального плана реконструкции Берлина. Павильоны как бы противостояли один другому. За ними, в центре, построили Дворец Шайо, где располагалась экспозиция Франции. Советский и германский павильоны образовывали как бы вход на основную территорию выставки. Германский павильон был построен примерно по тому же принципу, что и советский — вертикаль, от нее горизонталь, но без уступов. Вертикаль (выше, чем советский павильон вместе со скульптурой) венчал фашистский орел. Рабочий и колхозница как бы надвигались на этого орла, с трудом доставая его серпом и молотом. Кроме того, скульптура превосходно отражала девиз всей выставки — «Искусство и техника в современной жизни».
Борис Иофан в общих чертах набросал скульптуру и определил ее размер — треть общей высоты сооружения. На скульптуру был объявлен конкурс и победила Вера Игнатьевна Мухина. Родилась она в 1889, в купеческой семье. Умерла в 1953. В начале века училась в студиях Юона и Машкова. В 1912;1914 г. г. работала в Париже в студии великого скульптора О.Родена. В 1914 г. путешествовала по Италии. Из известных работ Мухиной можно назвать еще памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде и памятник П. И. Чайковскому у Московской консерватории. Правда, последний проект был осуществлен уже после ее смерти и подвергся искажениям. В основном, все ее монументальные работы после «Рабочего и колхозницы» реализованы не были.
Вот какую оценку дает этому произведению один из крупных современных специалистов по искусству 30-х годов: «Весь комплекс и собственно мухинский опус по традиции видятся едва ли не государственным символом СССР, победившего социализма, в одном ряду с башнями Кремля, увенчанными красными звездами. У многих современников это зрелище вызывало неподдельный энтузиазм. Но тогда же…, и особенно часто сегодня… оно представляется тягостно адекватным выражением тоталитаризма отечественной модели, в параллель ансамблю германского павильона на той же парижской выставке. Признавая, что создание Мухиной-Иофана дает основания для столь полярных оценок, нужно, однако, иметь в виду тот факт, что в историко-художественном контексте оно меньше всего является акцией коньюнктурной, кем-либо продиктованной, вмененной авторам. Корни их замысла были не только в стремлении воспеть триумф пятилеток и явление миру сталинской Конституции. Сами по себе они рассматривались художниками как воплощение исконной мечты человечества… Сама композиция комплекса как нельзя более очевидно развивает мотив движения-взлета… Ее концепцию отличает безусловная психологическая обоснованность» Морозов А. И. Конец утопии (из истории искусства СССР 30-х годов). — М.: 1995, с. 109. Мухина разрабатывала тему движения, порыва, ветра в своем искусстве много лет. Считается, что в рассматриваемой группе очевидно влияние знаменитой греческой статуи — Ники Самофракийской.
Изготовление статуи (на основе полутораметровой модели) на заводе ЦНИИМАШ, сборка его на заводском дворе (участвовали 160 человек), перевозка в Париж (везли в 28 вагонах, некоторые блоки не проходили через туннели, приходилось резать их автогеном), сборка его в Париже (331) всего за 11 дней (20 советских монтажников и 28 французских), попытка неизвестных злоумышленников испортить монтажный кран особой конструкции — это сюжет для увлекательного романа. Скульптура стала героиней выставки, как ранее — Эйфелева башня. Мгновенно были напечатаны открытки, ей восхищался Пикассо, республиканская Испания выпустила марку с изображением скульптуры. В СССР также сразу были выпущены плакаты, использующие это изображение, хотя саму статую москвичи еще не видели.
Ромен Роллан писал: «На берегах Сены два молодых советских гиганта возносят серп и молот и мы слышим, как из их груди льется героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе». По своему психологическому воздействию на массы скульптура может сравниться разве что со Статуей Свободы в США. Безусловно, это произведение прославляло советский строй, как бы мы сказали сейчас «презентировало» его положительные качества, это был идеальный специально сконструированный образ (имидж) СССР. Поэтому мы и рассматриваем это выдающееся произведение в курсе истории рекламы.
Через два года состоялась Всемирная выставка в Нью-Йорке, советский павильон опять проектировал Б. Иофан, высокий пилон украшала большая статичная скульптура рабочего. Мухина предлагала на конкурс фигуру обнаженного человека, высоко поднявшего рукой звезду и как бы борющегося с опутывающим его шарфом. Проект принят не был. Был принят наименее интересный с художественной точки зрения проект скульптора В. А. Андреева. Если Парижский павильон стал этапным произведением советской архитектуры и дизайна, то Нью-Йоркский павильон и эту скульптуру знают только специалисты по искусству 30-х годов. Если первый был исполнен веры и энтузиазма, то второй отражал официальный пафос.
После окончания выставки статуя «Рабочий и колхозница» была разобрана, в некоторых местах — разрезана автогеном. Затем она почти полностью была собрана (частично из новых и более толстых листов), но на постаменте, в три раза более низком, чем изначальный. Из-за этого статуя слишком сильно приближена к зрителю, формы ее стали казаться не динамичными, а грубыми, даже неуклюжими. В 1975 г. Моссовет принял решение о переносе статуи на новый, более высокий постамент, подготовка которого была поручена еще живому Б.Иофану. Предполагалось перенести ее на место перед Центральным домом художника, напротив входа в Парк Горького. Но сначала умер Б. Иофан, затем выяснилось, что хотя сами стальные листы в хорошем состоянии (в 80-м году они были отреставрированы), то внутренний каркас нуждается в полной замене. Поэтому перенести статую означает практически построить ее заново. Вопрос опять отложили. Наконец, в 2001 г. московская мэрия приняла решение реставрировать статую и, главное, подвести под нее постамент изначальной высоты. В 2003 г. работы начались. Их окончание намечено на 2005 г.
Статуе больше шестидесяти лет, она всемирно известна и всемирно признанна. Однако и сейчас многими «Рабочий и колхозница» воспринимается прежде всего не как выдающееся произведение монументального искусства, а как символ СССР, сообщение с очень значимым идеологическим зарядом. Именно этим объясняется широкое ее использование в «критических» плакатах эпохи гласности и в последующий период. Столь заметный и общеизвестный артефакт неоднократно включался также в современную коммерческую рекламу.
Чрезвычайно любопытным было развитие в России и, особенно, в СССР, такой неожиданной технологии презентации идей, как декорирование идеологическими символами предметов бытового назначения. Это был своеобразный аналог сувенирной рекламы, только вместо товарного знака или названия фирмы на них наносились идеологические лозунги, композиции соответствующих знаков и т. п. Прежде всего, речь идет о фарфоровых изделиях, декорированных символами с сильным идеологическим содержанием. Сам прием не нов. Так, после войны 1812 г. фарфоровый завод Гарднера выпустил великолепные чайные пары с портретами Кутузова и Багратиона — героев изгнания Наполеона. Еще раньше, по распоряжению Екатерины II в честь побед русского оружия тот же завод изготовил четыре уникальных «орденских» сервиза — Георгиевский, Александровский, Андреевский и Владимирский, основой росписи которых были соответствующие орденские ленты. Сервизы предназначались для торжественных церемониальных обедов императрицы с кавалерами соответствующих орденов.
Однако подлинным «русским эксклюзивом», вошедшим в крупнейшие каталоги искусства ХХ века, стал так называемый «агитационный фарфор» времен Гражданской войны и НЭПа.
Фарфоровая промышленность возникла в России в ХVIII веке (Императорский фарфоровый завод в Петербурге). Однако в продажу императорский фарфор не поступал и рынок обслуживали, главным образом, завод Кузнецова (Дулево под Москвой) и уже упоминавшаяся фабрика Гарднера в г. Дмитров, также под Москвой. Во время гражданской войны почти все заводы не работали, за исключением Императорского, на котором были очень большие запасы сырья и белья (не расписанных изделий). Нужны были новые темы росписей, отличные от «пастушек» и «видов Царского села». Выдающиеся художники, а среди них были К. Петров-Водкин, С. Чехонин (художественный руководитель завода), Г. Нарбут, М. Добужинский, нашли эти темы. Именно на фарфоре, столь «несозвучном» революции материале, получила свою проработку новая советская эмблематика — серп, молот, звезда, красный флаг, аббревиатура РСФСР. Напомним, что именно Сергей Чехонин был одним из авторов герба РСФСР. Первые росписи — это лозунги, без изображений: «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!», «Кто не с нами, тот против нас», «Дело науки — служить людям», «Ум не терпит неволи», «Борьба родит героев», «Кто душой и сердцем молод — в руки книгу, серп и молот», «Благословен труд свободный» и т. д. Воспроизводились «соответствующие моменту» цитаты из Конфуция, Евангелия, Овидия, Цицерона, Томаса Мора, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Текст шел по борту, посуда предназначалась для бытового использования. На лучшие лозунги был в июле 1918 г. объявлен конкурс в газете. Как писал в публикации об условиях конкурса нарком просвещения А. В. Луначарский, они должны были быть «короткие, яркие, глубокие… способные заставить задуматься прохожего человека и зародить искру светлой мысли или горячего революционного чувства в его душе» Андреева Л. Агитационный фарфор // Москва-Париж. 1900;1930. Т.1, с. 118.
Затем появились расписные тарелки, блюда и другие виды посуды на определенную тему — «Интернационал», «Балтийский флот», «Комиссар», «Кто не работает, тот не ест». Были выпущены и фарфоровые статуэтки с «идеологией». Они продолжали старинную традицию русского фарфора — «типы улицы». Только вместо разносчика и квасника в фарфоре воспроизводились матрос Балтфлота, работница, вышивающая красное знамя, красногвардеец. Были выпущены тарелки с портретами В. И. Ленина, Розы Люксембург. Карла Либкнехта, декабристов, тематические сервизы, даже шахматы (красные и белые). Этот фарфор уже, по большей части, не предназначался для бытового использования, а выставлялся в «Окнах РОСТА», на выставках, экспортировался.
Расцвет агитационного фарфора падает на 1918; 1922 годы. Он не был сделан в одной стилистике. Разнообразные школы, каждая по-своему, включала советскую символику в композиции росписи. При этом ставилась задача, как говорил Луначарский, «со всем изяществом выразить чувства людей трудовых». Результат был удивительным и вошел в историю мирового искусства двадцатого века отдельной страницей. Современный искусствовед пишет: «Агитационный фарфор — исключительное явление в истории мирового декоративного искусства. Его появление предопределили реалии художественной действительности первых лет революции, стиль жизни и образного мышления времен военного коммунизма и ленинского плана монументальной пропаганды. В этом новом жанре искусства было ново все. Его отличала активная политическая направленность, лаконизм и доходчивость революционного плаката, жесткая социальная ориентация и культура воплощения монументальных могучих идей в камерной живописи, пусть даже на банальной тарелке… Агитационный фарфор — искусство, поразившее мир своей неожиданностью и неординарностью, оно перечеркнуло устоявшуюся традицию умиротворенной и респектабельной фарфоровой росписи, оно шокировало, восхищало и притягивало, оно было грубовато, простодушно, прямолинейно, как лубок, и одновременно изыскано как поэма тончайшего стилиста и рафинированного эстета Александра Блока „Двенадцать“. В этом новом искусстве поражало все — и нарочитая грубость формы, и профессиональная культура рисунка, ломкий декаданс и манерность фигур в сочетании с категоричностью текстов, которые скорее напоминали приговор революционного трибунала… Агитационный фарфор — искусство странное для современников и потомков. Оно не вмещалось в обывательское сознание своей бесшабашностью и непривычным изыском. Оно было слишком революционно, слишком стилистически грамотно. Слишком авангардно» Шупер И. Лики торжества мировой революции. — Коллекция НГ, 1998, № 3.
Агитационный фарфор — весьма желательный объект на всех крупных художественных аукционах нашего времени. В СССР самые крупные коллекции этих уникальных произведений собрали известные эстрадные артисты М. Миронова и Е. Менакер, а также Леонид Осипович Утесов. Сейчас их коллекции находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства («Музей на Делегатской»). Позднее к задачам пропаганды идеологии были приспособлены и другие направления прикладного искусства, например, палехские панно и шкатулки. Была продолжена и практика выпуска «идеологических» фарфоровых изделий. Так к первым выборам в Верховный Совет СССР в 1937 г. была выпущена целая серия чайных пар (чашка или бокал с блюдцем) на тему «Все на выборы». В 70−80 г. г. от прежней традиции остались разве что мужские чайные пары с надписью «23 февраля» и женские «С праздником 8 марта».
Совершенно особым видом идеологически насыщенного презентационного сообщения были наградные знамена и знамена советских, профсоюзных, комсомольских организаций, воинских частей, пионерских отрядов. По своему назначению, символике они близки агитационному фарфору, политическому плакату.
В 20-е — 30-е годы «идеологический дизайн» был очень разнообразен. Оживление промышленности позволило внести и новые темы, и новые носители в агитационное прикладное искусство. Именно в середине двадцатых, с возрождением текстильной промышленности, появился советский художественный текстиль, пропагандирующий завоевания революции, новый образ жизни (так называемые «тематические ткани»). На тканях воспроизводились советские эмблемы, образцы новой техники, появились «оборонные» мотивы, сюжеты, посвященные коллективизации сельского хозяйства, техническому перевооружению села. Стилистика их разнообразна, но в некоторых образцах очевидна связь росписей тканей с художественными поисками художников авангарда.
Для идеологических целей использовались и еще более непривычные носители. Так, с оживлением пищевой промышленности появилась «идеологическая упаковка». Опять же, ничего принципиально нового в этом не было. Так еще в 1912 г., к столетнему юбилею Бородинской битвы была выпущена «тематические» товары: парфюмерия и кондитерские изделия и пр., хотя их упаковка имела скорее характер напоминания об историческом событии, чем выполняла задачи пропаганды идеи патриотизма, воинской доблести и т. п. (основным «героем» этих упаковок был Наполеон).
В данном разделе проанализированы многие каналы идеологической рекламы. Однако основным массовым носителем «идеологического содержания» в ХХ веке были листовка и плакат. Однако, именно эти пропагандистские материалы наиболее трудно разграничить с рекламой политической, поскольку чаще всего они не просто презентировали фундаментальную, определяющую политику идею, а активно призывали помочь власти в реализации этой идеи, т. е. были материалами агитационными. «Чисто идеологические» плакаты довольно редки, хотя можно выделить большой тематический блок именно таких плакатов, не предполагавших, как раз, конкретных действий по реализации идеи. Это, например, плакаты, открытки на тему «Миру-мир» или «Дружба народов».
Несколько особняком стоят, военные пропагандистские листовки, плакаты и т. д. Часть из них относятся к явно агитационным материалами и более подходят под определение политической рекламы, поскольку они в разной стилистике (от лубка до патетического плаката) призывают аудиторию своими конкретными действиями помочь государству победить врага. Так на лубке времен Первой мировой войны (автор — известный художник «мирискусник» Аристарх Лентулов) фактически описывается один из методов действий в тылу врага: «Масса немцев пеших, конных едут с пушками в вагонах. Да казаки по опушке раскидали немцам пушки и под лих казачий гомон вражий поезд был изломан». В период Великой Отечественной войны большой блок подобных материалов также был посвящен распространению конкретных методов борьбы с врагом.
Но все же большая часть соответствующих плакатов, листовок, носила скорее идеологический, пропагандистский характер, формировала чувство патриотизма, готовности к самопожертвованию, ярости к врагу, национальной гордости. Именно к национальной гордости обращался автор пропагандистского лубка времен войны 1812 г. «Кутузов отвергает мир с Наполеоном». Именно такими были «афиши» генерал-губернатора Москвы Ф. Растопчина, которые он сочинял и распространял по городу в 1812 г. во время похода Наполеона на Москву. Основное их содержание — не конкретные указания, что делать (хотя этот элемент и присутствовал), а именно «идеологические установки». «Государь изволил приказать беречь матушку-Москву; а кому ж беречь мать. Как не деткам! Ей-богу, братцы, государь на вас, как на Кремль надеется, а я за вас присягнуть готов! Не введите в слово. А я верный слуга царский, русский барин и православный христианин. Вот моя и молитва: «Господи, Царю небесный! Продли дни благочестиваго земного царя нашего! Продли благодать Твою на православную Россию, продли мужество христолюбивого воинства, продли верность и любовь к отечеству православнаго русскаго народа! Направь стопы воинов на гибель врагов, просвети и укрепи их силою Животворящаго Креста, чело их охраняюща и сим знамением победиша» Ростопчин Ф. В. Ох, французы. — М.: 1992, с. 213.
Распространенным было обращение в военных пропагандистских материалах к памяти о славных именах российской военной истории, великих ратных подвигах предков. В Первую мировую войну вспоминали Минина и Пожарского, Ермака Тимофеевича. В Великую Отечественную войну Красную, а затем Советскую армию вдохновляли на бой плакатные образы Дмитрия Донского, Суворова, Александра Невского, Чапаева, закрепленные в массовом сознании с помощью предвоенных исторических фильмов. Этот прием применялся и впоследствии. Так на плакате, посвященном послевоенному восстановлению Москвы, мы видим строителя на фоне основателя города — Юрия Долгорукого, который стал весьма популярен в связи с празднованием 800-летия столицы. Но повторим, военные материалы по большей части находились всегда «на стыке» рекламы идеологической (пропаганды) и рекламы политической (агитации).
Все на выборы или политическая реклама в России Начало политической рекламе в России положили, по-видимому, все те же лубки. Сохранились два следственных дела конца XVII в., в которых они фигурируют в качестве вещественных доказательств. По одному из этих дел приближенный царевны Софьи Федор Шакловитый обвиняется в том, что для утверждения верховной власти правительницы в 1687—1689 гг. г. заказал ее гравированные портреты для распространения среди московских стрельцов и дворян. Согласно второму делу, противник петровских реформ Григорий Талицкий использовал технику ксилографии для распространения написанных им «воровских писем» (по сутилистовок) — «Об исчислении лет» и «Письмо об антихристе» Алексеева М. А. Русская народная картинка. Некоторые особенности художественного явления.// Народная картинка XVII—XIX вв.еков. — СПб.:1996, с. 4. Уже в этих первых свидетельствах об использовании рекламных технологий для достижения политических целей определены два важных направления политической рекламы — имиджирование лидера и критика политики, осуществляемой властью.
Имиджирование лидера традиционно считается важнейшим направлением политической рекламы. Современный словарь иностранных слов дает такое определение: имидж — целенаправленно сформированный образ какого-либо лица, явления или предмета, выделяющий определенные ценностные характеристики и призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-то в целях популяризации, рекламы и т. д. Более краткое определение следующее: имидж — это специально формируемое у целевой аудитории впечатление об объекте.
Значительная часть системы презентации властных отношений (например, ритуал, регалии) направлена именно на реализацию этой цели: создать определенное впечатление о лидере у массовой аудитории. Когда технические средства трансляции сообщений на массовую аудиторию еще отсутствовали, эту же задачу выполняли парадные портреты царствующих особ, правителей, президентов. За века сложилась целая культура подобных портретов, в которых, с одной стороны, отчетливо просматривается стиль эпохи, с другой — типичные, «родовые» черты образа «высшей персоны». С появлением технологии тиражирования изображения функция наглядной презентации имиджа лидера во все большей степени переходит к плакату. До революции был выпущен, по сути, один подобный политический плакат. Он был посвящен трехсотлетию царствующей династии и основной его идеей было отразить божественное покровительство дому Романовых и преемственность верховной власти от пращура к потомку.
В период между Февральской и Октябрьской революциями портреты А. Ф. Керенского напечатать успели, но плакаты с ним не известны. Не известны и прижизненные плакаты с образом В. И. Ленина, хотя прижизненный агитационный фарфор с его портретом был. Массированное имиджирование Ленина с помощью рекламных технологий началось позже и довольно быстро было введено в строгий канон (точнее, два строгих канона — «Ленин-вождь» и «Самый человечный человек»).
Богатый материал для анализа политического плаката, формирующего имидж лидера, дают, конечно, плакаты с И. В. Сталиным. Так, на плакате 1931 г. Сталин представлен прежде всего как верный продолжатель дела Ленина, он изображен под развевающимся знаменем с портретом основателя Советского государства. В 1933 г. он уже «капитан Страны Советов, который ведет нас от победы к победе». На плакате 1935 г. Сталин возвышается над проходящими парадом войсками, напоминая человека, играющего в солдатики. Но рядом — вполне соразмерный по росту верный соратник Клим Ворошилов. В 1936 уже привычным становится образ «Сталин-вождь». Начинает использоваться «принцип фараона» — самый значимый персонаж изображается непропорционально большим, маленькие люди — постамент вождя, между вождем и массой — соратники (помельче вождя, но покрупнее народа). В 1940 г. Сталин «думает за всех в Кремле" — Сталин ночью в рабочем кабинете на фоне кремлевских звезд. Примерно тогда же было сочинено стихотворение о негаснущем кремлевском окне. Сталин действительно был типичной «совой» и ложился очень поздно, точнее очень рано, на рассвете. Но окна его кабинета выходили во внутренний двор. «Негаснущее окно», видное с Красной площади, было окном комнаты охраны. Однако на имидж вождя «негаснущее окно» работало. В военный период плакаты со Сталиным, судя по всему, если и выпускались, то крайне редко. Но вот после войны, когда авторитет его в стране действительно стал «яко бога», утвердился строгий канон презентации образа. Сталин уже не «вырастает» из народа, как на плакате 1936 г. Он один, соратники, если они вообще есть, не отличаются от всех прочих, со Сталиным нет никого, выделяющегося из общей массы. До предела такой подход доведен на фотомонтаже 1949 г. когда портрет Сталина в виде то ли солнца, то ли звезды, парит в небе над толпой.
Отдельно от вождя, «соратники» также могли становиться объектами имиджирования. Так портрет Н. С. Хрущев на плакате 1946 г. вмонтирован в рамку, сконструированную из лавровых листьев, дубовой гирлянды, красных флагов и герба СССР — типовых «державных» символов.
В дальнейшем для плакатов с образом лидера страны начинает очень широко использоваться фотография, по сути, плакат лишь служит оформлением официальной фотографии, иногда это нельзя даже назвать фотомонтажом. Распространены были также фотопортретыплакаты членов политбюро ЦК КПСС.
В то время, как официальные власти стремились создать положительный образ лидера, противники этой власти и конкретнее — лидера, в меру своих возможностей старались с помощью тех же технологий сформировать его негативный имидж. Так одной из первых материалов «черного пиар» считается уже упоминавшийся лубок «Кот Астраханский» — карикатура на «усатого» Петра I. К тому же ряду материалов относят и лубок «Как мыши кота хоронили». Сам сюжет очень старый, но в тот период ему был придан именно антипетровский смысл. Особенно этот лубок был распространен среди старообрядцев.
Наиболее агрессивно подобные приемы использовались в период прямого вооруженного противостояния. Лидер-враг, как правило, изображался карикатурно страшным, омерзительным, жалко-смешным. Таков Гитлер на плакатах Кукрыниксы.
В ряде агитационных материалов враг не персонифицировался, а, наоборот, изображался обобщенно, например, в виде «красной гидры большевизма» на плакате белой армии, «кулака-мироеда» или «вредителя» на советских плакатах. Можно вспомнить, что такой подход широко применялся и в Первую мировую войну, когда выпускались уже упоминавшиеся многочисленные листовки-лубки, осмеивающие противника.
Одним из направлений политической рекламы является агитация за проводимую властью политику. Конечная цель этих материалов — добиться поддержки этой политики «словом и делом», «мобилизовать» целевые аудитории на реализацию проводимых властью мероприятий, реформ, акций и т. д. Элементарным, но действенным способом такого воздействия в советский период были листовки — т. е. относительно короткие текстовые обращения и призывы к целевой аудитории со значительным суггестивным элементом. Несмотря на то, что большая часть населения была неграмотна, эти тексты получили наиболее широкое распространение. Цель листовки — добиться определенного состояния общественного настроения или общественного мнения, а в ряде случаев — необходимого поведения целевой аудитории.
Как первую листовку советской власти можно расценивать обращение «К гражданам России», написанное В. И. Лениным и опубликованное в 10 часов утра 25 октября 1917 г., в последующие дни растиражированное. Вот этот текст:
" От Военно-революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов.
К гражданам России.
Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства — это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! «Всемирная история. — М.: 1961, т.8, с. 32.
Этот текст носит в основном информативный характер и рассчитан на формирование благоприятного общественного мнения по поводу произошедших событий («дело, за которое боролся народ …» и т. д.).
Листовки были непременным атрибутом становления советской власти в различных регионах страны, они сопровождали победы или неудачи на фронтах гражданской войны. Вот пример листовки 1918 г.
«К рабочим и солдатам г. Киева.
Пролетарии всех стран — соединяйтесь!
ТОВАРИЩИ!
Чаша долготерпения украинского народа переполнилась! Наглеющая с каждым днем контр-революция, свившая себе прочное гнездо в Киеве под прикрытием Центральной Рады, дошла до предела, когда нельзя уже дальше терпеть этого.
Контрреволюционные генералы и офицеры сбежались в Киев со всей России. Вместе с юнкерами, студентами и прочими сынками помещиков и капиталистов они составили здесь контр — революционные батальоны белой гвардии «вольного казачества», которые заменили собой старых николаевских жандармов и городовых.
Как в старые царские времена, громят они рабочие организации и рабочие газеты. Сотни рабочих, десятки видных борцов революции — деятелей рабочих и солдатских организаций — сидят по тюрьмам. Рабочие и революционные украинские солдаты разоружаются. Вся власть находится в руках украинских Корниловых и Калединых — всех этих Капканов, Шинкарей, Ивановых и прочих воздыхателей по старому режиму.
Товарищи! Дальше этого терпеть нельзя. Революционные полки Украины и рабочая Красная Гвардия уже восстали против власти контр — революции, власти буржуазной Рады.
Довольно пановали над нами помещики и капиталисты то под флагом министерства Керенского, то под флагом Центр. Рады и Ген. Секретариата! Пришла пора и украинскому народу — украинским рабочим, крестьянам и солдатам — свергнуть господство панов и взять всю власть в свои руки, как давно сделали это их русские братья. Настал час, когда на Украине вся власть должна перейти в руки Советов Раб., Солд., Крест. Депутатов Украины.
Созыв Всеукраинского съезда Советов и немедленный переход всей власти в крае и на местах Советам, немедленное разоружение белой гвардии, вольных казаков, офицерских отрядов и милиции, прекращение разгрома рабочих газет и рабочих организаций, освобождение из-под ареста революционных сынов Украины — таковы те требования, за которые борются революционные солдаты и рабочие Киева и всей Украины.
Товарищи рабочие! Товарищи солдаты! Все революционные сыны Украины! На защиту революции! За власть Советов!
Солдаты и красногвардейцы — к оружию! На помощь своим сражающимся братьям!
Рабочие! Будьте готовы по первому призыву ваших организаций всеобщей стачкой поддержать вооруженную борьбу ваших братьев!
Да здравствует революция!
Долой власть буржуазии!
Долой буржуазную Центральную Раду!
Вся власть Советам!
Да здравствует правительство рабочих, солдат и крестьян Украины!
Да здравствует социализм!
Исп.Ком. Киевск. Сов. Раб.Деп.
Киевск. Сов.Профес.Раб.Союза.
Киевск.Сов.Фабр.-Зав.Комитет" Там же, с. 78.
Этот текст рассчитан уже не просто не на формирование общественного мнения. А скорее общественных настроений и провоцирование определенных действий целевой аудитории.
Тексты эти писались доходчивым языком, с большой экспрессией, они не предназначались для того, чтобы давать человеку пищу для размышлений — они предлагали весомые аргументы в пользу представляемой идеи и четко объясняли — что делать, чтобы воплотить идею в жизнь. При этом идея была, как правило, жизненно важной для целевой аудитории. Листовки были оружием обоих противоборствующих в революции сторон.
В мобилизации масс на поддержку действий власти также значительную роль сыграл политический плакат. Такого рода плакаты в России появились только в 1915 году и было это связано с ухудшением ситуации на фронтах Первой мировой войны. Проведение военных операций, необходимость перевооружения армии «на ходу» потребовала концентрации в руках правительства значительных финансовых ресурсов. Правительство решило прибегнуть к внутреннему займу, для чего были выпущены 5,5% облигации. Военный займ покрывал до 23 государственных военных расходов. Распространение облигаций среди населения потребовало значительных агитационных усилий, в том числе были выпущены многочисленные плакаты. Любопытно проанализировать изменение сюжетов этих плакатов. В первый период войны преобладали материалы, апеллирующие к чувству патриотизма, державности, то затем все чаще стали встречаться сюжеты, связанные с помощью сражающимся воинам, а иногда и просто прагматические мотивы (не только патриотично, но и выгодно). Порой лозунги на этих плакатах — «Все для фронта!», «За Родину!» — очень напоминают лозунги Великой Отечественной.
Временное правительство продолжило практику государственного займа, который теперь уже назывался «Заем свободы». Образный ряд этих плакатов иногда был очень близок плакатам 1915;1916 г. г., но появились и новая атрибутика (в том числе и красные знамена), связанная с защитой «свободной России», и новые герои. Особенно интересен один из плакатов, на котором представлены «движущие силы» февральской революции — студент, интеллигентный мастеровой. Их юные фигуры слишком хрупки, незрелы, чтобы справиться с вышедшим из подчинения «начальству» героем другого плаката того же периода — солдатом-фронтовиком.
Практика займов у населения на различные государственные нужды была возобновлена с начала тридцатых годов («заем индустриализации», «заем восстановления народного хозяйства», «заем развития народного хозяйства»). Проводилась довольно активная агитационная работа по их распространению, в т. ч. публиковалась газетная, журнальная реклама. Однако основным методом было не убеждение, а установление практики обязательного приобретения облигаций займа (так называемая «подписка на заем»).
В советский период рекламные технологии использовались для мобилизации общественности на поддержку действий власти очень широко. Так, например, Окно РОСТА 1921 г. демонстрировало сознательного крестьянина, выполняющего декрет Советской власти о весеннем севе: «План Советской властью дан, я доволен ею. Как велит советский план, землю всю засею» (автор — В. Маяковский). В период НЭПа стали популярны материалы о смычке города и деревни, кооперации. С началом политики индустриализации и коллективизации появилось множество плакатов, открыток, посвященных реализации политики в экономической сфере, выполнению плановых заданий пятилеток.
Так, в 20-е и 30-е годы, «внутриполитическое» содержание нередко присутствовало на фантиках, коробках, спичечных этикетках. Активно занимались таким дизайном А. Родченко и В.Маяковский. Так фантики работы А. Родченко, посвященные индустриализации, снабжены подписями В. Маяковского:
Присмотрись к шатунам, На котел прицелься, Хорошо всюду нам Проложить бы рельсы.
Старина — не хромай, Подтянись, что молодо:
Проведемте трамвай От села до города.
Пусть пашет луг Тракторный плуг.
В пятидесятые плакаты призывали ехать осваивать целину, в шестидесятые — строить ГЭС, ЛЭП, АвтоВАЗ, в семидесятые — БАМ. Огромный блок рекламной продукции был посвящен разъяснению внешней политики «партии и правительства».
В тридцатые годы политическая реклама активно мобилизовала общественное мнение на борьбу со всевозможными «уклонами», «вредителями», «врагами народа». Целая серия плакатов была посвящена теме соблюдения секретности, пресечению «неформальных каналов коммуникации» (слухов).
В 1930 г. В. Маяковский разрабатывал тему «Не болтай!». Но тогда это был призыв к правильному использованию рабочего времени:
Болтливость;
растратчик рабочих часов.
В рабочее время ;
язык на засов.
Призыв тот же, но аргументация другая. «Не болтай» — прижимает палец к губам женщина в красной косынке в 1941 г. На плакате рифмованные строки:
Будь на чеку, В такие дни Подслушивают стены.
Недалеко от болтовни и сплетни до ИЗМЕНЫ.
Плакат 1951 г. Сержант говорит рядовому, у которого в руке телефонная трубка:
Не болтай У телефона!
Болтун — находка Для шпиона.
«Болтун-находка для шпиона» стало устойчивым словосочетанием («языковой клеткой») еще раньше. Сохранилась фотография: московская улица осенью 1941 г. На стене дома плакаты «Защитим родную Москву» «Болтун — находка для шпиона. Болтливость — преступление перед Родиной. Нигде, никогда и никому не разглашай военных и государственных секретов» См.: Огонек, 2001, № 50, с. 14.
Тот же сюжет в «телефонном» варианте и на плакате 1954 г. Мужчина что-то оживленно рассказывает по телефону-автомату. За ним наблюдает «интеллигентный глаз» из-под очков. «Болтун — находка для врага». Еще один плакат 1954 г. «Болтать — врагу помогать». Растрепанный человек от всей души «вливает» информацию в своего собеседника. А собеседник — двуликий Янус: одна его половина — советский гражданин, а вторая — то ли немецкий, то ли американский офицер в витом погоне и с моноклем. Холодная война была в разгаре и агитационные материалы, как и идеологическая реклама, сопровождала политику СССР. Плакаты «Не болтай» тесно смыкаются с социальной рекламой, поскольку данную тему можно интерпретировать и как формирование у целевой аудитории определенной социальной нормы поведения.
Основная масса агитационных материалов не отличалась ни художественным своеобразием, ни выдумкой, но были и блистательные исключения. Так, в самом конце пятидесятых годов, когда активно проводилась кампания по продвижению кукурузы в северные области, на экраны вышел первый советский рекламный фильм (точнее, мультфильм) «Чудесница» (художники В. Лалаянц и Г. Аркадьев, текст Л. Позднеева). Талантливо, с юмором, веселыми стихами и в очень хорошей графике в мультфильме излагались и преимущества этой культуры, и приемы ее возделывания, и возможности использования кукурузного зерна и зеленой массы, и незаменимость «чудесницы» в самых разных областях промышленности Я початок натуральный, Я продукт универсальный, Я культура хлебная, Я и ширпотребная.
Начинался фильм с того, как скромная кукуруза — кочан в платочке — на южном вокзале покидает родимую сторонку и отправляется осваивать северные территории. Ее провожают и льют горькие слезы соседи — баклажан, арбуз, дыня и прочие теплолюбивые фрукты и овощи.
Напрасно, Кукуруза, Ты ехать собралась.
Послушайся Арбуза, Останься среди нас.
А тем временем где-то в Псковской или Вологодской области рожь, овес, горох и ячмень (традиционные для тех мест культуры), наряженные в русские рубахи, соображают, «где ж нам взять землицы, чтоб поселить родню? Придется потесниться овсу и ячменю!». Заканчивалась эта довольно длинная история грандиозной кодой (в ритме частушки) с песнями и плясками в честь кукурузы. Трудно сказать, способствовал ли мультфильм росту урожайности кукурузы в не предназначенных для нее природой районах, но успех самого мультфильма был оглушительным, а арию сорняков (хулиганистые чертополохи с гитарами) пели подростки во всех дворах.
Мы себя повсюду сеем, Чтоб лентяям, ротозеям На полях осталась лишь труха!
Ха-Ха!
Несмотря на сильный развлекательный элемент, это была политическая реклама, так как она продвигала в массы актуальный, в то время, компонент внутренней политики.
Другая важнейшая функция политической рекламы — подготовка избирателей к выборам во властные органы разного уровня. Предвыборная реклама — одно из самых старых направлений рекламы. Археологи, исследовавшие засыпанные пеплом в 79 г. н.э. Помпеи, с удивлением узнали, что несчастье произошло в самый разгар предвыборной кампании по избранию чиновников местного самоуправления. Все стены в городе были заняты «предвыборной агитацией». «Прошу, чтобы вы выбрали эдилом Модеста». Вполне политкорректно… А вот уже не столь вежливое пожелание: «Кто будет против Квинтия, да усядется рядом с ослом». На стене помпейского кабачка и сегодня видна надпись о том, что женщины, занимающиеся здесь своим ремеслом, выдвигают кандидатом в эдилы (что-то вроде американского шерифа) знатного горожанина Гая Юлия Полибия, хорошо им знакомого. На стене другого заведения сохранился призыв поддержать кандидата Ваттия, выдвинутого предвыборным объединением «любителей спокойного сна». Объединение придерживалось, говоря современным языком, концепции экологии человека. Такая вот «партия жизни» 1 века до н.э.
Можно предположить, что выборы в Государственную думу в начале ХХ века сопровождались агитационной кампанией, в т. ч. рекламными плакатами, листовками. Они, судя по всему, не сохранились, хотя предвыборные карикатуры в журналах той эпохи дошли до нашего времени. Но вот от советского периода остались оригинальные образцы «предвыборной агитации». Любопытной ее частью были так называемые «Приглашения». Люди старшего и среднего поколения хорошо помнят, как за несколько дней до очередных выборов любого уровня в почтовом ящике появлялась яркая листовка: на одной стороне художественная композиция «на тему» с обязательным лозунгом «Все на выборы!», на другой — текст. Текст всегда начинался так: «Уважаемый товарищ _____________. Напоминаем Вам, что в воскресенье…». Заканчивалась листовка призывом прийти на выборы и отдать свой голос за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Подписи были разными: сначаладоверенные Окружного предвыборного совещания представителей трудящихся, затем покорочеагитколлектив. Слова в листовке повторялись из года в год, а вот визуальный ряд менялся: агитационные картинки старались отразить менявшийся «дух времени». И они его отражали. Именно поэтому немудреные эти листики представляют сегодня интерес. Они даже стали предметом коллекционирования.
Приглашения на выборы конца сороковых… Серп и молот, развевающиеся красные стяги, дубовые и лавровые листья. Стиль очень похож на знаменитый «сталинский ампир», знакомый многим по послевоенным многоэтажным домам в крупных городах страны: пышный декор, лепнина, официальные позы статуй на крышах, солидные гирлянды «плодов и колосьев», пузатые балясины балконов. Лучшим образцом этого «имперского стиля» или «сталинского ампира» по праву считаются московские высотки, формы которых все чаще стараются повторить в своих проектах современные столичные архитекторы. Новые дома, стилизованные «под высотки», становятся сегодня самым престижным московским жильем.
С одной из московских высоток — зданием МГУ — связана любопытная легенда-быль, запечатленная, как ни странно, на одном из приглашений — на сей раз на выборы в Верховный Совет РСФСР 18 февраля 1951 г. До окончания строительства здания на Воробьевых горах оставалось еще два года, но на листовке оно уже во всей своей красе — даже с часами на башнях. Неким намеком на то, что стройка еще продолжается, был, разве что башенный кран на заднем плане. Но вот само здание сразу и не узнаешь: вроде оно, а вроде и не оно. Нет знакомого всем шпиля со звездой в лавровом венке! Вместо него на крыше центральной башни — статуя. Из-за этого здание кажется каким-то кургузым, обезглавленным. А теперь то ли легенда, то ли быль. Действительно, по первоначальному проекту шпиля на университете не предполагалось, а предполагалось увенчать его скульптурной аллегорией то ли науки, то ли просвещения, то ли советского студента… Это, судя по всему, быль, хотя факт мало известен. Легенда же такая. Где-то за год до смерти И. В. Сталин приехал на строительство МГУ. Центральная башня уже была подведена под крышу и стояла в ожидании статуи. «А где же шпиль?» — будто бы спросил Иосиф Виссарионович. Никто не решился сказать, что шпиля не предусмотрено, вождя уверили, что вскоре его установят. В считанные дни проект был переделан и в авральном порядке сложную металлическую конструкцию изготовили и поставили на место предполагавшейся аллегории. Кстати, получилось красиво.
Дубово-ларовыми венками и гирляндами — символами советской государственности — приглашения на выборы декорировались еще долго, до начала 60-х годов. Впервые эти «изобразительные константы» официальных дат и мероприятий были изменены, как уже говорилось, при подготовке к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве (1957 год). Постепенно и на «приглашениях» дубовый венок сначала превратился в скромную дубовую веточку, а затем и совсем исчез. На листовке 1965 г. мы уже видим «семейную сцену», так хорошо знакомую многим из нас по собственному детству: «мама, папа и я» опускают бюллетень в урну. Много чего можно вспомнить, смотря на эти листовки: и какие были флаги у союзных республик, и как должен был выглядеть советский суд (листовка, приглашавшая 13 декабря 1970 г. на выборы народных судей). А вот опять лавро-дуб, правда в виде даже не веточки, а пучка листиков: 1974 год, застой…
Перестройка…Новый лозунг, немыслимый раньше — «Возродим полновластие Советов!». Это с листовки исторических (без иронии) выборов народных депутатов СССР 26 марта 1989 г. И последний листик: «Советам — полновластие!» — выборы народных депутатов РСФСР 4 марта 1990 г. Последние советские выборы в орган власти Эти «приглашения» можно рассматривать как исторические документы. Но настоящая предвыборная реклама появилась в России только в конце 80-х годов в связи с демократизацией общественной жизни в период перестройки и гласности. Причем началось это, видимо, с «самодеятельного творчества» демократической общественности, выходившей на митинги с самодельными предвыборными плакатами, а не с печатных или телевизионных материалов. Сегодня избиратели в предвыборный период могут наблюдать в действии полный набор рекламных технологий: от официальных биографий кандидатов на избирательных пунктах, до «черного пиара». Наша новейшая история показывает, впрочем, что и старые, набившие оскомину лозунги, будучи перенесенными в другой политический контекст, приобретает вдруг значение важнейшего политического призыва. Именно так воспринимался плакат «Все на выборы», вывешенный в г. Грозный в 2000 г. Он ознаменовал собой начало очень сложной и важной для федеральной власти политической акции — выборов первого депутата в Государственную думу России от Чеченской республики.
Итак, краткое заключение… Значительный объем рекламных материалов в России во все времена был связан с рекламой некоммерческой: социальной, идеологической, политической. В советский период она была абсолютно доминирующей, именно в этой области некоммерческой рекламы находится советский рекламный «эксклюзив». Именно это направление применения рекламных технологий в нашей стране может и должно стать в будущем предметом систематических исследований специалистов.