Музыкальный язык в семье художественных языков
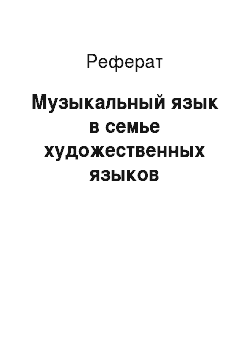
Совершенно очевидно, что, хотя музыка располагает определенными изобразительными средствами, средства эти ограничены и не могут стать основой звуко-интонационной знаковой системы. Ограничены они потому, что звуком можно изображать в точном смысле этого слова — только звуковые же формы бытия, но они в восприятии человеком природы существенного значения не имеют, а в человеческой жизни присущи… Читать ещё >
Музыкальный язык в семье художественных языков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Собственно говоря, пока музыка рассматривается в чисто онтологической плоскости — как развертывающийся во времени звуковой поток, — она вообще не предстает перед нами как вид искусства, как конкретный способ художественно-образного освоения мира. Для того чтобы звучание стало музыкой, звуковая конструкция — или «игра звуков», если воспользоваться терминологией Э. Ганслика, —должна стать особым языком, на котором высказывается некое духовное содержание.
Уже древние греки увидели в гармонически-организованной звуковой конструкции духовный смысл — эмоциональную выразительность: Платон и Аристотель считали музыку звуковой формой «этоса», воплощением нравственных состояний человеческого духа; в средние века музыку связывали с духовным общением человека с богом, а позднее сформировалась теория аффектов, наиболее ярко представленная в «Компедиуме музыки» Рене Декарта. Но такое ее понимание с неизбежностью должно было привести к постановке вопроса: а каким же образом аффект, страсть, эмоция, переживание, чувство могут быть выражены в звуке и переданы от музыканта к слушателю?
Ответ на этот вопрос не мог не привести к сопоставлению музыки и языка, ибо именно речь, слово, язык являются основным и всеобщим средством передачи человеком человеку содержания его внутренней жизни. Отсюда — представление о музыке как о «втором языке», наиболее четко сформулированное Жан-Жаком Руссо, который увидел в «интонациях мелодии, сопряженных с интонациями речи, могучую и тайную связь страстей и звуков»1. Д’Аламбер сформулировал это еще более четко, назвав музыку «видом речи или даже языка, посредством которого выражаются различные чувства души»[1][2]. По мысли Д. Дидро, «…речь следует рассматривать как одну линию, а пение как другую, извивающуюся вокруг первой»[3]. «Языком звуков» называл музыку И. Маттесон[4].
Такой взгляд на музыку складывался и на Востоке еще в средние века — тамильский мыслитель IV в. Ирайянар назвал свой трактат «Музыкальная грамматика», поскольку законы строения музыкальной ткани он рассматривал в сопоставлении со словесным языком, а также языком поэзии и драматического искусства1. Примеры подобного рода можно было бы многократно умножить.
В наше время такой глубокий знаток музыки и серьезный теоретик, как Э. Ансерме, определяет тональную музыку как особый «язык», общедоступный для понимания его эмоционального (аффективного) смысла[5][6]. Исторически она этот язык «постоянно обновляла… — от монодии к полифонии, от полифонии к гармонии, от диатоники к хроматизму», а в XX в. «от определенной и единой тональности к политональности»; попытка создания атональной музыки оказалась бесплодной именно потому, что она лишила музыку качеств языка[7]. Музыкальная структура, писал Э. Ансерме, рождается только тогда, когда наше чувство обнаруживает «аффективное значение» слышимого звучания, т. е. его духовно-эмоциональную наполненность.
Трактовка музыки как особого языка, родственного языку слов, но и существенно от него отличающегося, могла стать на прочную научную основу лишь с развитием семиотики — новой науки, сделавшей своим предметом общие законы хранения и передачи информации, для которых словесные средства оказывались лишь одним из многих коммуникативных каналов; музыка должна была рассматриваться в этом свете как другой, несловесный, хотя и легко соединяющийся со словесным, язык человеческого общения. Так, Ю. Тюлин назвал свою книгу «Строение музыкальной речи», используя данное понятие отнюдь не как метафору[8], а американский музыковед Т. Маноф озаглавил свою монографию «Музыка: живой язык»[9].
Хотя Р. Барт утверждал: «Нам известен лингвистический „язык“, но мы ничего не знаем о „языке“ изображений или „языке“ музыки»[10], он все же заключал, что общая теория знаковых систем должна базироваться на «ряде аналитических понятий, выработанных лингвистикой», поскольку они «обладают достаточной степенью общности, позволяющей приступить с их помощью к семиологическому исследованию»[11]. Однако при таком подходе ни один язык, кроме словесного, не может считаться языком потому, что дискретность знаков, их жесткая организованность (грамматика) и точный смысл каждого (семантика) присущи только словесному языку. В этом смысл суждения Т. Адорно, что «музыка языкоподобна, но музыка — это не язык»[12].
В специальном исследовании музыкально-семиотических проблем И. Иранек последовательно сопоставляет словесный язык и музыку, словно не замечая некорректность такого сопоставления — ведь это отнюдь не однопорядковые явления: с одной стороны, музыка — это не только особый язык, отличный от словесного, но одновременно несомое им духовное содержание, с другой — музыка по природе своей художественное явление, а язык — общекультурное, и лишь в сфере искусства он приобретает художественное качество. Точным было бы сравнение словесного художественного (поэтического) языка и музыкального языка, но это вывело бы нас за пределы традиционного семиотического анализа, который имеет дело с нехудожественными знаковыми системами. Чешский музыковед считал возможным перенести на музыку классификацию знаков, предложенную Ч. Пирсом: музыкальные знаки, заключал он, могут быть выразительными, иконическими (изобразительными) и условными1. Правда, И. Иранек оговаривал, что восприятие передаваемого в произведениях искусства содержания является его субъективной интерпретацией и что «…в сравнении со всеми остальными искусствами содержание музыки наиболее широко открыто для многосторонней индивидуализации»[13][14]. Отсюда — особое значение понятия «интерпретация» в теории музыки: оно говорит о единстве диалектически варьирующегося и инвариантного в ее восприятии, единстве «коннотации» и «денотации» содержащегося в музыкальном произведении[15].
Рассмотрев три тенденции, существующие в современной музыкальной семиотике (или «музыкальной лингвистике»), И. Иранек приходит к выводу, что формирование этой дисциплины «находится еще в самом начале и что само ее право на существование остается сомнительным»[16]. Это верно постольку, поскольку для музыкальной семиотики, как и вообще для семиотики искусства, узки рамки традиционной семиотической теории. Однако безусловный интерес представляет предложенная ученым «семантическая модель музыки как открытой системы»[17], в которой намечается историко-культурный подход к выявлению различий музыкально-семиотических структур. Для последовательного развития этой безусловно верной и перспективной точки зрения не хватает лишь одного такого расширения традиционной семиотической концепции, которое различило бы общение и коммуникацию как две разные семиотические системы и включило художественный семиозис в систему форм человеческого общения[18].
Анализ особенностей музыкального языка требует, однако, не только его сопоставления со словесно-поэтическим, но и с языками других искусств. В этом отношении интересна работа Д. Кука «Язык музыки»; ее автор исходит из того, что традиционные сопоставления видов искусства типа «архитектура — застывшая музыка», «архитектура симфонии» и т. п. чисто метафоричны и потому научной ценности не имеют. Чтобы обрести ее, они должны быть «не метафорами, а аналогиями», к тому же следует учитывать творческие установки самих художников и технические средства каждого искусства, ибо в разные эпохи истории музыки менялись ориентации композиторов на связь с другими искусствами: «Средневековая музыка была в большой степени архитектоничной в своей концепции, романтики интересовались преимущественно литературой, импрессионисты — живописью; современная музыка вновь вернулась к принципу архитектоничности. Впрочем, все три аспекта присутствовали в музыке во все времена…»1 И далее вся первая глава книги, названная «Что представляет собой музыка как вид искусства?», посвящена ее сопоставлениям с другими искусствами и приводит автора к заключению, что при всем своем «техническом» — то есть формальном — отличии от других искусств, с точки зрения «выразительности» — то есть по содержанию, — у музыки есть «три различных аспекта, отражающих ее связи с архитектурой, с живописью и с литературой»[19][20].
Интересно в этой связи и утверждение Г. Орлова, что «из всех искусств музыка — искусство наиболее активное, властное, агрессивное. Свет, видимые краски, формы и движения, печатное слово должны молчаливо ожидать, пока на них обратят внимание. Звук же заставляет слышать себя, даже если это неугодно слушателю. Через звук время не только становится доступным наблюдению и созерцанию, но и получает энергию, привлекая к себе внимание, непосредственно воздействуя на чувства, заставляя само тело слушающего отзываться непроизвольными движениями»[21].
В изучении диалектики связи и различий слова и звука, литературы и музыки, музыкального языка и всех других знаковых систем многое еще остается дискуссионным[22]. Мы не можем сейчас специально и обстоятельно рассматривать этот круг вопросов, нам достаточно заключить, что из изложенного выше общего понимания строения и функционирования искусства следует вывод: музыкальная форма, как и поэтическая, живописная, архитектурная, хореографическая и т. д., двустороння — она является одновременно материальной конструкцией, несущей на себе (точнее, в себе) духовное содержание художественного произведения, и текстом, знаковой системой, языковым выражением-передатчиком этого содержания. Если сущность языка (мы не делаем сейчас различий между понятиями «семиотическая система», «знаковая система» и «язык», употребляя их фактически как синонимы) в его культурном назначении — быть средством общения людей благодаря способности передавать от человека к человеку определенную духовную информацию, тогда строение словесного языка окажется лишь его особенностью, а языки искусства, в частности музыкальный язык, должны быть признаны полноценными, при всем их своеобразии, языковыми, знаково-семиотическими системами. При этом следует учитывать и то, что звуки подчас используются и как вне-художественные сигналы — например, на транспорте, в военном деле. Следовательно, лишь соотнося конструктивную сторону музыкальной формы с ее художественнозвуковой стороной, мы вступаем в царство музыки как искусства.
Эта диалектическая двойственность, двусторонность музыкальной формы — или, точнее, ее амбивалентность, т. е. наличие противоположных свойств и способность оборачиваться то одной, то другой стороной, подобна открытой К. Марксом «чувственно-сверхчувственной» природе товара1 или золотых и серебряных денег, которые являются «природными вещами со странными общественными свойствами»[23][24][25]. Ибо для непосредственного слухового ощущения музыкальное звучание есть всего лишь акустическая конструкция, в лучшем случае обладающая эстетическими качествами — красивая, гармоничная, благозвучная; однако эмоциональная активность нашего сознания обнаруживает в данной звуковой структуре нечто духовно значимое и потому «сверхакустическое» — душевное волнение нельзя ведь услышать, его можно почувствовать и сопережить, слух же улавливает звуковое выражение этого волнения. Такая одухотворенность звучания — как и любой материальной формы искусства — делает ее выразительной, т. е. художественно-значимой.
Специалист, но книговедению утверждает: «Исторически сложились и существуют в обществе три основные системы „языка“: естественный язык, язык музыки, язык изобразительного искусства»1. Этими тремя языками семиотический фонд культуры не ограничивается, но безусловно справедливо признание музыкального, как и живописного, языков однородными с языком словесным и другими знаковыми системами. Вместе с тем нотная запись живой музыки аналогична письменной фиксации речи, что позволяет рассматривать издание нотной литературы в одном ряду с тиражированием книг.
Дифференциация семиотической системы «знак — значение» происходит в разных плоскостях и на разных уровнях: так, в одной плоскости различаются языки коммуникации и языки общения[26][27], в другой — нехудожественные и художественные языки. Показательно сопоставление разных языков в пределах одного и того же словесного знакового материала: одно дело — язык повседневного бытового общения людей и иное — язык научной коммуникации, преодолевающий избыточность многозначной обыденной речи и ее экспрессивность, добивающийся терминологической однозначности слова и очищения интеллектуального содержания высказывания от всяких эмоциональных «шумов»; одно дело — языки делового, научно-технического, организационнопрактического взаимодействия людей и совсем другое — образный, поэтический язык словесного искусства, эмоционально-выразительный и картинно-изобразительный, музыкальный и живописный. Подобные различия мы находим в сфере пластически-изобразительных знаковых систем при сравнении языка черчения и языка художественного рисования, и в сфере пластически-динамических знаковых систем при сопоставлении языка мимики и жеста в повседневной практической жизни и художественных жесто-мимических языков актерского искусства, танца, пантомимы. Но уже в этой последней сфере мы отчетливо видим и другой аспект различения семиотических систем — язык актерского искусства в драматическом театре отличен от языка танца в театре хореографическом: они отличаются друг от друга тем, что первый основан на верном воспроизведении подлинных бытовых форм поведения человека, его мимики, жестов, речи, а второй — на радикальном преобразовании этих форм, вплоть до полного отказа от речевого общения и выработки условных телодвижений классического европейского танца на пуантах или ритуального индийского танца, танца, имеющего свой «код», знание которого является условием его эстетического восприятия; третий язык — язык пантомимы — находится как бы на полпути от жизнеподобного актерского жеста к условному хореографическому «па» и реализуется в широком спектре форм — от пантомимы драматического актера, сохраняющего характер жизненного поведения, но отказывающегося по тем или иным причинам от словесного действия (скажем, в немом кинематографе), через язык мимов Барро, Марсо, Полунина к пантомиме чисто танцевального характера (например, в народном танце и его воспроизведениях профессиональными ансамблями типа «Березки»).
Как видим, перед нами широкий семиотический спектр, на краях которого находятся знаковые системы с противоположным соотношением жизнеподобия и условности, а между ними—ряд связывающих их переходных форм, в тех или иных пропорциях синтезирующих языки актерского искусства и танца. Структура этого спектра — а * ab * ba * b — говорит о том, что мир искусств потому и вправе именоваться «миром», что он охватывает не только весь возможный набор материальных структур — пространственную, пространственно-временную и чисто временную, но и все возможные типы семиотических структур — изобразительную, неизобразительную и разные их сочетания.
Естественно ожидать, что подобная полнота использования и спектральное строение всех имеющихся возможностей свойственны и другим классам искусств — пространственным и временным. Но прежде чем обратиться к анализу музыкального языка, охарактеризуем ситуацию в пространственных искусствах, поскольку это поможет понять закономерности семиотической организации временных искусств. Ибо закономерности эти одни и те же во всех трех классах искусств, но в искусствах пространственных, в силу их наглядности, зримости, семиотическая структура проявляется с непосредственной очевидностью, проливая свет и на различия между разными временными искусствами.
Живопись, графика и скульптура, равно как и присоединившаяся к ним в нашу эпоху художественная фотография, обычно называются «изобразительными искусствами», поскольку их художественный язык, сколь бы он ни был условен, строится на формах, изображающих видимый мир, тогда как архитектура, прикладные искусства и вставший в этот ряд в XX в. дизайн говорят на условном пластическом языке абстрактных форм и формосочетаний, который называют либо «неизобразительным», либо, когда хотят заменить этот негативный термин позитивным, используют понятия «декоративный», или «архитектонический», или «орнаментальный». Каждое из этих понятий фиксирует какие-то свойства данного художественного языка, но не передает всех его особенностей: поэтому, не настаивая на оптимальности какоголибо из них, отметим лишь то, что их сближает и одновременно противопоставляет понятию «изобразительное»: подобно языку танца, язык этих искусств не воспроизводит реальные природные формы, эмпирически данные нашему зрению, но перерабатывает эти формы, доводя их до самой высокой степени условности, то есть до стереометрической и плоскостно-геометрической абстрактности: «единицами» этого языка становятся прямая и кривая линии, плоскости и их пересечения, призматическая и кубическая, пирамидальная и шарообразная формы, цветовые и фактурные поверхности, орнаментальные мотивы, а «грамматикой» — способы соединения этих элементов в композиционной структуре создаваемых предметов, в пропорциях, тектонике, ритме, в светотеневых, цветовых и фактурных отношениях.
Правда, издавна в произведениях прикладного искусства, особенно народного, используются изобразительные мотивы — скажем, сосуду придается форма тела животного или на его поверхность наносится сюжетная роспись; с другой стороны, в живописи и скульптуре XX в. родился и завоевал прочные позиции абстракционизм, который говорит с нами на языке абстрактных, беспредметных, нефигуративных форм (один его вариант, экспрессионистический или ташистский, представлен В. Кандинским и П. Клее, другой, геометрический, рационалистический, супрематистский, П. Мондрианом и К. Малевичем). Здесь, как и в сфере пространственно-временных искусств, существуют не только «чистые», но и переходные художественные языки, синтезирующие принципы предметно-изобразительного и абстрактно-неизобразительного формообразования: так, живопись движется навстречу орнаментальному языку прикладного искусства, постепенно наращивая черты условности самого изображения — скажем, от В. Сурикова к М. Врубелю; затем картина, «прирастая» к стене архитектурного сооружения, к облицовке камина, к поверхности вазы или шкатулки, становится декоративной живописью — от росписей того же М. Врубеля к рисункам С. Чехонина на фарфоре; отсюда — прямой и короткий путь к так называемому изобразительному орнаменту, мотивы которого сохраняют похожее на натуру воспроизведение предметов природы, вещей, даже людей (особенно широко распространенных в народном искусстве, в частности в вышивках и декоративной деревянной резьбе), далее — к абстрактному геометрическому орнаменту (типа античного меандра). И, наконец, к абстрактной росписи поверхности, которой приписывается самостоятельная ценность станковой картины (хотя, как показала история русской и западноевропейской художественной культуры, наиболее плодотворным оказалось использование языка абстрактной живописи именно в прикладных искусствах и в архитектуре).
Подобный ряд переходных форм можно проследить и в движении от архитектонических искусств к изобразительным на уровне объемнопластическом: от включения в архитектурные сооружения отдельных изобразительных элементов, подобно кариатидам и атлантам, растительным и зооморфным капителям колонн, к соединению архитектурных и изобразительных форм — скажем, в памятниках великим людям или в таких синтетических произведениях, как здание петербургского Адмиралтейства или Советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., объединивший здание-постамент и скульптурную группу «Рабочий и колхозница», и, наконец, к приданию всему сооружению скульптурно-изобразительной формы — скажем, формы трактора зданию театра в Ростовена-Дону; особенно часто это происходит в прикладном искусстве, при различном изобразительном решении форм сосудов. Таким образом, и в этой сфере искусств структура, а <-" ab <-" о Ьа b определяет аналогичное пространственно-временньш искусствам спектральное движение от полюса конкретной изобразительности к полюсу условно-абстрактного художественного языка.
В этом свете особенно наглядным становится семиотическое строение временных искусств. Давно было отмечено, что существует явное структурное сходство музыки, с одной стороны, с танцем, а с другой — с архитектурой; отсюда известное определение музыки как «движущейся архитектуры», а архитектуры — как «окаменевшей музыки», популярное в немецкой эстетике начала XIX в. и поддержанное П. И. Чайковским, специально отмечавшим «поразительное родство» этих искусств, «несмотря на различие эстетического материала и форм».
«В самом деле, — разъяснял он, — изящное сочетание линий, красота рисунка без всякого отношения к реальному воспроизведению явлений природы, единство основного мотива, проявляющегося в целом и в деталях, равновесие в эпизодических частях — не есть ли все это равномерное достояние обоих искусств, столь противоположных в материальном способе служить воспроизведению красоты и столь единых и родственных в области эстетического творчества!»1
«Я придаю большое значение архитектоничности в музыке (буквально — „музыкальной архитектуре“. — М. К.), качеству, которым я никогда не хотел бы пожертвовать устремлениям литературного или живописного порядка», — говорил А. Онеггер. Приведя это суждение, Э. Бюше остроумно заметил, что на протяжении всей своей истории музыка, «отдаляясь от литературы, сближается с архитектурой» и постоянно «колеблется между этими двумя полюсами»[28][29].
С другой стороны, всеобщее признание получила в европейской эстетике формула греческого поэта Симонида младшего «живопись — немая поэзия» (ее перевернутое выражение: «поэзия — говорящая живопись»). Очевидно и родство литературы и искусства актера, которое является воплощением литературного текста пьесы. Слово используется в литературе прежде всего в его способности изображатъ-описывать события человеческой жизни и явления природы, воссоздавать внешний, материальный мир и внутренний, духовный мир человека — или такими, каковы они реально, или такими, какими они могли бы быть, согласно известной формулировке Аристотеля, «по вероятности или необходимости», включая мифологические или любые другие фантастические способы преобразования реальности, ее утопические метаморфозы, идеальные модели и мрачные современные «антиутопии».
Может показаться, что такой трактовке сущности искусства слова противоречит лирическая поэзия, которая непосредственно выражает духовные состояния и движения, ничего предметного не изображая; неоднократно приводившийся пример — пушкинское Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем…
Однако существование лирической поэзии не опровергает обосновываемый нами тезис — по той простой причине, что она является не «чистой» формой искусства слова, а переходной, синтезирующей его качества с качествами музыки — ведь лирика возникла в процессе распада древнего синкретического мусического комплекса, сохранив неразрывную связь его словесного и музыкального компонентов; именно отсюда свойственная поэзии метро-ритмическая структура, система рифм и ассонансов, большое значение музыкального звучания стиха1. Следовательно, объяснение этой и других форм требует предварительного анализа собственно музыкального языка.
Совершенно очевидно, что, хотя музыка располагает определенными изобразительными средствами, средства эти ограничены и не могут стать основой звуко-интонационной знаковой системы. Ограничены они потому, что звуком можно изображать в точном смысле этого слова — только звуковые же формы бытия, но они в восприятии человеком природы существенного значения не имеют, а в человеческой жизни присущи, главным образом, речи и, соответственно, адекватно воспроизводимы словесными же средствами; это и происходит в искусстве актера. Музыка пытается подчас изображать и беззвучные явления, но она способна делать это только опосредованно, возбуждая ассоциативные связи свето-цветовых, пространственно-гравитационных, пластически-динамических отношений материального мира и отношений звуковых, темброво-ритмически-интонационных; но такие связи слишком зыбки, неопределенны и субъективны для того, чтобы лечь в основу музыкального языка, который, как всякий язык, должен быть общедоступным и заключать в себе устойчивые общезначимые смыслы. Поэтому, если вокальная музыка в ряде случаев строится на воспроизведении звучания человеческой речи, — это происходит в форме речитатива и производных от него ариозных формах (вспомним позицию А. Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды»[30][31] или стремление М. Мусоргского переплавлять в музыку интонации «простого человеческого говора»[32]), то музыка инструментальная, не будучи прямо и непосредственно связана с речью, имеет иные корни. Поскольку же вокальная музыка и инструментальная сущностно идентичны и развиваются в единстве, эти инвариантные свойства музыкального языка и должны быть теоретически осмыслены.
Свойства эти обусловлены прямой связью звучания с духовными процессами, протекающими в глубинах эмоциональной жизни человеческой психики (речь идет именно о духовном уровне эмоций, о чувствах интеллектуализированных, а не о низших, физиологических раздражениях)[33].
Говоря о неизобразительной природе музыкального языка, следует сразу же уточнить, что означают сами понятия «изобразительная» и «неизобразительная», ибо, как показывает опыт, теоретики вкладывают в них разный смысл, что порождает нередко бесплодные дискуссии. Мы понимаем под «изображением» воспроизведение конкретных материальных предметов, их чувственно воспринимаемого облика в любом материале — скажем, изображение человека другим человеком актером, его жестами, мимикой, речью, или же средствами камня, красочного слоя на холсте, фотоснимка. Представляется очевидным, что воплощение духовных состояний человека в тех или иных материальных формах — звуковых, цветовых, жесто-пластических — некорректно определять тем же понятием, что и воспроизведение человеческого тела, речи, поступка, — по той простой причине, что здесь искусству приходится не повторять, хотя и с известной условностью, реальные формы изображаемого, а придавать материальную форму духовному процессу, которой у него самого — скажем, у чувства любви, или у мысли о тщетности славы, или у переживания величия подвига во славу Родины — нет. Поэтому трудно согласиться с Д. Лукачем, когда он пытался отстоять «миметический характер музыки», поскольку она отражает «внутренний мир человека», что и отличает ее объект от объектов прочих видов искусства[34]. Но правомерно ли называть одним и тем же понятием — «мимесис» — художественное моделирование материальных и духовных объектов? (То, что так поступали древние греки, не может служить аргументом — на начальной стадии научного мышления многие понятия еще диффузны, да и существенные различия материального и духовного не были отрефлектированы.).
Но есть тут и другой аспект проблемы, связанный с необходимостью разграничения содержания понятий «изображение» (или «мимесис») и «отражение»: искусство всегда отражает состояния общественного сознания, но может не изображать при этом жизнь в ее конкретных формах — как не изображают ее ни музыка, ни танец, ни архитектура.
Язык музыки покоится не на воссоздании каких-либо жизненно реальных форм — природных или культурных, пространственных или временных, зримых или слышимых (хотя изобразительный момент в музыке существует), а на прямой связи выражаемого с выражающим, слышимого с переживаемым, звучащегос эмоциональным, материального с духовным. Речь идет, конечно, не о том, что композитор или исполнитель выпевает то, что в данный момент испытывает, — музыкант воплощает воображаемые им общечеловеческие переживания. Точно так же, говоря о музыке как о «языке чувств», нельзя понимать это в том смысле, будто музыкант передает, внушает — заражает слушателей своими эмоциями: хотя известный суггестивно-гипнотический момент в воздействии музыки на наше сознание имеется, он является не более чем моментом и его сила прямопропорциональна степени физиологизма, а не духовности, испытываемого переживания; оно становится собственно эстетическим только тогда, когда — что поняли уже древние греки — приводит к «катарсису» — духовному очищению человека под воздействием искусства, в частности музыки.
Эмоциональное содержание музыкального языка является обобщенным в такой же мере, в какой обобщенный характер имеет интеллектуальное содержание слов. Различие же между этими двумя языками в том, что в большинстве случаев слово не только «значит», но и «обозначает», то есть называет конкретный предмет (стол, березу, льва, девочку) или конкретное действие (летит, кружится, говорит, пилит); в основной своей лексической массе словесный язык изобразителен, позволяя рисовать любые картины жизни («словесная живопись»). Что же касается музыкального языка, то он неизобразителен по своей природе, ибо музыкально-интонационные структуры значат, но не обозначают — переживание как духовный процесс нельзя «изобразить», его можно только «выразить» (изобразить можно лишь выражение эмоции — скажем, жестовое, интонационное, словесное, что в полной мере делают актеры, живописцы, скульпторы, и лишь по сложной ассоциации и в ограниченной мере — музыканты).
Отличие выражаемой интонациями эмоциональной жизни человеческого духа от выражаемых вербально интеллектуальных процессов и объясняет отсутствие в музыкальном языке свойственной языку словесному дискретности знаков, имеющих фиксируемые и словарно описываемые значения, — ведь сама эмоциональная жизнь континуальна, а не дискретна, тогда как работа мысли понятийно «квантована». Мы имеем в виду то существенное отличие мысли от переживания, которое порождает понятийно-словесную форму ее протекания и выражения, отсутствующую в течении человеческих чувств: интеллектуальный процесс четко структурирован внутри себя, протекая в вербализованной форме сцепления определенных понятий, каждое из которых имеет устойчивый собственный смысл и которые соединяются друг с другом по законам логики и грамматики: скажем, «музыка_вид_искусства» или «этот_разговор_мне_интересен». Эмоциональный же процесс является непрерывным перетеканием одного состояния в другое и вытеснением одного другим, он движется плавно, а не пунктирно, непрерывно, а не рывками, тогда как мысль, строго говоря, не течет, а скачет, каждое понятие включается в интеллектуальный поток как звено, имеющее самостоятельный контур и скрепленное логически как с предыдущим, так и с последующим. Поэтому музыкальный язык лишен структурной расчлененности словесного языка, не существует ни «музыкальной лексики», ни «музыкального словаря». Музыкальному языку родствен язык хореографический, так же выражающий континуальное, непрерывное течение человеческих чувств, — только другой его уровень, нежели тот, который выражает музыка: язык танца способен передавать пластически воплощаемые переживания, а музыкальный язык — эмоциональные процессы, невыразимые жестом и мимикой.
Мы вернемся к этой проблеме, когда будем рассматривать духовносодержательный уровень связей и различий между искусствами и их взаимоотношения на уровне внутренней формы. Пока заключим, что музыкальный язык принадлежит к тому же типу художественных знаковых систем, что и хореографический. Отметим также, что между музыкальным языком и изобразительным языком словесного искусства располагается широкий спектр переходных форм, рождаемых синтезом слова и интонации: песня, романс, кантата, оратория занимают в этом спектре ближайшую к чистой музыке полосу; напеваемый стих, мелодекламация — полосу, ближайшую к чисто словесным формам поэзии, хотя и испытавшим влияние музыки, но — особенно в письменной форме — принадлежащим к литературе; между этими полосами располагаются такие формы, в которых слово и музыкальная интонация находятся в известном равновесии, — речь идет о музыкальном речитативе.
Как видим, семиотическая структура временных искусств оказывается той же самой, что и рассмотренные нами выше спектральные ряды: а <-" ab <-" Ьа Ь. «Начиная с первых этапов своего развития вокальная музыка, подобно маятнику, склоняется то в сторону „музыкальной речи“, то в сторону „чистой мелодии“», — говорит об этом спектре В. Васина-Гроссман1. П. Чайковскому — хотя его оперы и романсы отнюдь не лишены речитативного начала, «Каменный гость» А. Даргомыжского казался «оперой без музыки», ибо в романтической музыкальной концепции Чайковского речитатив — «это только связующий момент между отдельными частями музыкального здания», необходимый как «контраст к лирическим моментам оперы» и не более того. Отсюда — ироническое отношение композитора к «нашим доморощенным оперным реалистам»[35][36], равно как и романтическая интерпретация пушкинских произведений, которую он осуществил и в «Евгении Онегине», и в «Пиковой даме»; отсюда и убеждение в невозможности адекватной передачи в опере язвительно-ироничного характера Гамлета[37]. Что же касается той полосы спектра словесно-музыкальных структур, которая лежит по соседству с музыкой в сфере поэзии, то она начинается с реализации ахматовского принципа доминанты музыкального начала стиха:
Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое, то есть симметрична по отношению к позиции А. Даргомыжского — М. Мусоргского.
Резюмируя все сказанное в общей таблице, мы получаем наглядное представление о строении мира искусств, основанном на двухмерной модификационной способности внешней формы художественного творчества:
Схема 5
Временные. | Пространственно; временные. | Пространственные. | |
Неизобразительные. | Музыка. | Танец. | Архитектонические искусства. |
Изобразительноорнаментальные. | Переходные и синтетические формы. | ||
Изобразительные. | Искусство слова. | Актерское искусство. | Изобразительное искусство. |
- [1] Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII вв.еков. — М., 1976. — С. 426.
- [2] Там же. — С. 445.
- [3] Там же. — С. 477.
- [4] Matteson J. Der vollkommene Kapellmeister. — Hamburg, 1739. — S. 82.
- [5] Музыкальная эстетика стран Востока. — М., 1967. — С. 100, 101.
- [6] Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. — С. 203, 213.
- [7] Там же. — С. 181.
- [8] Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. 2-е изд. — М., 1969.
- [9] Manoff Т. Music: a living language. — N. Y., 1982.
- [10] Барт Р. Основы семиотики // Структурализм: «за» и «против». — М., 1975. — С. 124.
- [11] Там же. — С. 115.
- [12] Adorno Th. Quasi una Phantasia. — Frankfurt a. M., 1963. — S. 9.
- [13] Jiranek J. Zu Grundfragen der musikalischen Semiotik. — B., 1985. — S. 93—96.
- [14] Ibid. — S. 98—99.
- [15] Ibid. — S. 102.
- [16] Ibid. — S. 52—55.
- [17] Ibid. — S. 20.
- [18] Решение этой задачи предложено мной в книгах «Mensch — Kultur — Kunst"и «Философия культуры». — СПб., 1995.
- [19] Cooke D. The Language of Music. — L.; Oxford; N. Y., 1974. — P. 1—2.
- [20] Ibid. — S. 32.
- [21] Орлов Г. Указ. соч.— С. 54—55.
- [22] См.: Кон Ю. О понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. — М., 1969; Арановский М. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. — М., 1974; Мальцев С. Семантика музыкального знака: Автореф. дис. …канд.искусствовед. — Л., 1980; Scriabine М. Introduction au Iangage musical. — P., 1961. Le Iangage musical. — P., 1963. (Здесь исследуются четыре типа музыкального языка —классический китайский, африканский, тональный европейский и язык современноймузыки. Особенности понимания музыкального языка и его отличия от пониманияязыка словесного обсуждались в 1971 г. на специальной конференции в ФРГ, по материалам которой издан сборник статей, достаточно представительно характеризующийсостояние семиотического изучения данной проблемы в европейском музыкознании (правда, без участия российских ученых, хотя наука других восточно-европейских странпредставлена такими музыковедами как 3. Лисса, А. Шафф, Д. Золтаи). См.: Musik undVerstehen. Aufsatze zur semiotischen Theorie, Asthetik und Soziologie der musikalischen О
- [23] О Rezeption / Herausg. von Р. Faltin und H.-P. Reinecke. — Koln, 1973; см. также: SchneiderR. Semiotik der Musik. Darstellung und Kritik. — Munchen, 1980 (в книге содержится анализ ряда концепций музыкального языка А. Шаффа, У. Эко, Г. Морриса, Н. Рюве, Ж. Пат-тье и др.); Perspectives on Contemporary Music Theory / Ed by W. Steiner. — University ofTexas Press, 1981; Die Zeichen. Neue Aspekte der musikalischen Asthetik. II / Herausg. vonH. W. Henze. — Frankfurt a. M., 1981.
- [24] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. — С. 81—82, 100 и др.
- [25] Там же. — С. 92.
- [26] Беловицкая А. Общее книговедение. — М., 1987. — С. 136.
- [27] См.: Каган М. Мир общения. — С. 272.
- [28] Чайковский П. Музыкально-критические статьи. 4-е изд. —Л., 1986. — С. 74—75.Впрочем, это не мешало П. И. Чайковскому ясно видеть и «внутреннее родство» междумузыкой и словом, поэзией, в частности, в опере (см.: там же. — С. 318).
- [29] Buchet Е. Op. cit. — Р. 41—43.
- [30] См.: Каган М. Морфология искусства. — С. 212 и сл.
- [31] Даргомыжский А. Избранные письма. — М., 1952. — С. 53.
- [32] Мусоргский М. Письма. — М., 1981. — С. 68.
- [33] См.: Раппопорт С. Искусство и эмоции. 2-е изд. — М., 1972.
- [34] Лукач Д. Своеобразие эстетического. — Т. 4. — М., 1987. — С. 6.
- [35] Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. — Ч. 2—3. — М., 1978.
- [36] Отрицательно оценивал Чайковский и речитатив как основу вокальной структурыопер Вагнера — см. там же. — С. 281.
- [37] См.: там же. — С. 92—93.