Чтение как феномен культуры (1997)
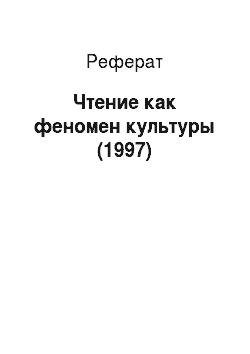
Таковы три типа чтения, обусловленные тремя информационнокоммуникативными ситуациями: передать некую информацию, подлежащую адекватному усвоению; выработать совместными усилиями участников процесса общения новую информацию, отсутствовавшую в таком виде в исходном тексте; соединить обе задачи, выдвигая на первый план то одну, то другую (3). Такое строение семиозиса может быть объяснено наличием… Читать ещё >
Чтение как феномен культуры (1997) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Обыденному сознанию всегда, а долгое время и наукам, в поле зрения которых попадало чтение, оно представлялось достаточно простым и легко объяснимым процессом. Лингвистике — процессом распознавания смысла читаемого текста. Психологии — проявлением интеллектуальной энергии, необходимой для достижения этой цели (особенно когда дело касалось чтения текста, написанного на плохо знакомом читателю языке). Педагогике — обучением ребенка механизму чтения на родном и изучаемом языках. Семиотике — применением знания кода, на котором закодировано словесное сообщение необходимого для извлечения значения из системы знаков, образующих данный текст. При этом несомненным казалось, что от характера читаемого текста процесс чтения не зависит, он одинаков при восприятии любых текстов, написанных на знакомом читателю языке, а степень проникновения в его содержательные глубины и мера адекватности его понимания зависят лишь от индивидуальных особенностей человека, его ума, уровня культуры, знания использованной терминологии, внимательности и т. п. Между тем уже появление герменевтики двести лет тому назад привело к проблематизации чтения особого рода текстов, написанных в прошлом и посвященных мифологическим, религиозным, художественным сюжетам. Их восприятие требовало, как выяснилось, особых психологических приемов — вживания в текст, эмпатии, перенесения читателя силою его воображения в то, что он вычитывает в тексте, и соответственно, определенной интерпретации прочитанного. Эти выводы вошли в круг истин гуманитарного знания, но не получили должного философского и семиотического обоснования, а значит, и психологической, лингвистической и педагогической проработки.
Правда, навстречу герменевтике в последние десятилетия все более решительно пошла эстетика. Опубликованная в 1961 году статья В. Ф. Асмуса «Чтение как труд и творчество» не получила широкого резонанса, ибо возобладавшее у нас, начиная с 30-х годов, сведение искусства к познанию действительности, к получению объективных истин (концепция «большого реализма» Д. Лукача — М. Лифшица и теория отражения Т. Павлова, канонизированные в 40—50-е годы как истинно марксистские и единственно марксистские; понятно, хотя классики марксизма никакой ответственности за это не несут), приравнивало искусство к науке, а значит, и восприятие художественных произведений к способу восприятия научных сочинений. Однако в 70—80-е годы все чаще, все глубже и шире выявлялась особая, специфическая активность сознания человека в процессе восприятия произведений искусства (см. работы Л. М. Левидова, С. X. Раппопорта, О. Д. Пиралишвили, автора этих строк). Проблема эта живо обсуждается в зарубежной литературе. «В последнее время, — свидетельствует М. Науман, — все определеннее выдвигается в центр внимания вопрос о том, как взаимосвязаны литература и публика, писатель и читатель, сочинение и чтение, освещаемые и в рецептивно-эстетическом, и в литературно-социологическом, и в структуралистском аспектах» (1. S. 139). Но все же далеко не все моменты этой взаимосвязи представляются уже хорошо изученными, а особенно требует уточнения само понятие «читатель».
В данной статье и делается попытка разработки такого обоснования.
1.
Исходный пункт нашего рассуждения — различение двух типов информационных процессов и обусловленное этим различение двух типов языков: назовем их «монологическими» языками и «диалогическими». Мы говорим о них во множественном числе потому, что имеются в виду не только словесные языки, но все знаковые системы, функционирующие в культуре, — языки жеста и мимики, графический, живописный, объемно-пластический, звуко-интонационный (см. анализ семиозиса культуры в моей монографии «Философия культуры» —.
2). В этом легче всего убедиться, сравнив чертеж с художественным рисунком. В одном случае целью является передача содержания, которое при «чтении» чертежа должно быть понято и усвоено точно, однозначно и потому одинаково всеми. Во втором случае целью является такое «чтение» рисунка, в котором зритель оказывается не простым реципиентом, но, в известной мере, соавтором художника, ибо он имеет право, более того, он обязан, сознает он это или нет, прочесть данный графический текст по-своему, исходя из своего индивидуального опыта, эрудиции, характера и одаренности. Уже здесь выясняется, что чтение художественно значимого рисунка становится сотворчеством. Тем самым восприятие художественного рисунка превращается в своего рода диалог, инициированный художником, а восприятие технического чертежа — является усвоением монолога, изложенного на бумаге чертежником. Точно так же жест солдата, отдающего честь офицеру, жесты футбольного судьи, регулировщика уличного движения, верующих, когда они отбивают поклоны или крестятся, или звучание фанфары, клаксона, дверного звонка — все имеет четкое и строгое значение, доступное описанию в соответствующих «словарях», и потому оно может использоваться как императивное указание необходимости определенных действий, кто бы эти указания ни получал. А жест хореографический и пение требуют от каждого воспринимающего собственного «прочтения», основанного на вызываемых ими ассоциациях, ощущениях, эмоциональных реакциях, в результате чего их восприятие становится диалогическим, принципиально отличаясь от понимания монологического высказывания военного трубача или уличного регулировщика.
Наличие этих двух противоположных знаковых систем не исключает того, что они нередко выступают не в «чистом виде», а в синтетичной слитности. Так в обыденной жизни в жестикуляции и возгласах, издаваемых в нашем общении с родными и близкими, монологические и диалогические «единицы» текста сливаются в единый текст или незаметно переходят друг в друга, поскольку, скажем, рукопожатие, формально обозначающее приветствие, по-разному интерпретируется в зависимости от характера жеста, точно так же конкретный интонационный, тембровый и силовой «рисунок» восклицания «Иди ко мне!» придает этому четкому указанию конкретный смысл, заставляя воспринимать его как приказ, как призыв, как мольбу, как надежду или как требование и т. д. и т. п. Таким образом, семиотическая структура высказывания во всех знаковых системах представляет собой некий спектр, на краях которого находятся чисто монологическая и чисто диалогическая формы, а между ними «полосы» синтетические, с постепенным нарастанием силы одного типа и, соответственно, ослаблением другого. В этом свете становится объяснимым то, что и словесные языки, как устный, так и письменный, имеют то же спектральное строение, образуемое движением от монологического к диалогическому типам высказывания: в одном случае оно подчиняется хорошо известной по исследованиям семиотиков схеме: «адресант — послание — адресат», а в другом — по не замечаемой семиотиками, но столь же реальной схеме: «партнер — текст с совместно вырабатываемым значением — другой партнер». Сферой безусловного господства первого являются точные науки, сферой второго — искусство слова, а между ними — широкое пространство меняющихся по пропорциям форм связи монолога и диалога в речевом общении и в письменной коммуникации людей в обыденной жизни. Мы читаем поэтому письмо друга не так, как учебник по геометрии или постановление властей, но и не так, как рассказы Чехова или стихи Блока.
Таковы три типа чтения, обусловленные тремя информационнокоммуникативными ситуациями: передать некую информацию, подлежащую адекватному усвоению; выработать совместными усилиями участников процесса общения новую информацию, отсутствовавшую в таком виде в исходном тексте; соединить обе задачи, выдвигая на первый план то одну, то другую (3). Такое строение семиозиса может быть объяснено наличием порождающих его потребностей культуры и теми возможностями, которые необходимы для их удовлетворения и есть в культуре. Потребности эти обнаруживаются при сопоставлении разных типов информации, способных организовать совместную деятельность людей. Один тип информации — информация об объективном бытии, о законах существования объективного мира и конкретных формах этого существования. Это информация о том, что не зависит от человека — как бытие природы, или не зависит от конкретной личности — как закон (норма, установление, принцип) социальной организации. Это знания, которые должны быть положены в основу практической деятельности в сфере общественного производства, и указания, подлежащие исполнению в сфере общественных отношений. Другой тип информации — информация о том, что затрагивает человека, его ценности, интересы, идеалы, что окрашено личностно и требует от каждого свободного принятия и соучастия в выработке общих позиций, идей, убеждений. Отвечая этим двум потребностям, в истории культуры и складываются два способа информационной связи человека с человеком. В той мере, в какой нужно транслировать объективную информацию, используется монологический тип связи и соответствующий ему тип реакции, в частности — чтения; в той мере, в какой необходима выработка в более или менее широких социальных группах — от пары друзей, членов семьи, до всего человечества — общих воззрений, ценностей, идеалов, начинает функционировать диалогический контакт, выливающийся в соответствующую форму чтения словесных текстов.
2.
Подчиняясь этому общему закону строения семиозиса культуры, чтение письменных словесных текстов имеет и свои особенности, отличающие его не только от «чтения» жестомимических, графических, пластических, звукоинтонационных текстов, но и от звучащих речевых сообщений. Объясняются эти особенности природой письменного словесного знака и условиями его восприятия. Поскольку письменное слово является прежде всего словом, восприятие словесного текста определяется информационной природой вербального способа выражения духовного содержания: главной особенностью вербального языка, в отличие от всех других, является его прямая связь с процессом и продуктами человеческого мышления. Говоря самым общим и потому схематическим образом, можно заключить, что полиглотия культуры обусловлена строением психической активности человека. Поскольку его деятельность выражается в трех элементарных формах (познавательной, преобразовательной, ценностно-осмысляющей) и одной синтетически-синкретической (художественно-образной деятельности), постольку необходимы соответствующие целям каждой психические механизмы, а затем и способы трансляции создаваемых ими психических продуктов: продукты мышления отливаются в формах мысли, продукты воображения — в формах представления, продукты переживания — в формах чувства, а художественного мышления = воображения = переживания — в формах художественного образа (4). Каждая из них столь своеобразна, что требует особого языка, способного ее транслировать. Так, действительно, сложились разные языки: язык чистых звуков — тембро-ритмо-интонацнонно-организованный способ «овнешнения» человеческих переживаний (не зря его нередко называют «стенографией чувств»), язык зримых изображений, закрепляющий представления в их материальной конкретности, язык словесный, адекватно представляющий мысли людей, поскольку каждая его единица (слово) есть выражение единиц абстрактного мышления — понятия, а также художественные языки, которые выражают образное единство представления = чувства = понятия, хотя и в различном их соотношении — с доминантой представления в изобразительных искусствах, с доминантой чувств в музыке и с доминантой мысли в литературе. (Язык танца фиксирует переходную форму от первого ко второму, язык поэзии — переход от второго к третьему и язык актерского искусства — переход от третьего к первому.) Здесь нет места для более детального рассмотрения морфологической проблематики теории искусства (см. об этом 5), как и общей семиотической теории, поэтому остановимся лишь на том, что высшая степень интеллектуальной нагруженное™ слова обязывает включать для его восприятия, как и для оперирования им, приспособленные для этого психические механизмы — способность понимания содержания словесного текста (термин «понимание» употребляться будет в общем, а не в герменевтическом смысле и не как оппозиция «объяснению»). Чтение письменного словесного текста предполагает поэтому, прежде всего, необходимость его понимания, т. е. декодирования заключенной в нем и несомой им интеллектуальной информации. Мера затрачиваемой на это мыслительной энергии зависит от меры владения данным языком — родным на разных этапах онтогенеза и иностранным на разных ступенях его изучения — и от широты ориентации в специальной терминологии, использованной в данном тексте.
Особенности чтения определяются отличиями слова письменного от слова устного. Наиболее очевидное в этих различиях — обращение первого к зрительному восприятию, а второго — к слуховому, но последствия этой переадресовки чувственной перцепции требуют осмысления, ведь работа каждого органа чувств имеет свои существенные особенности. Мы выявим их, если учтем, что утрата звучания означает для слова потерю способности прямого, непосредственного выражения эмоциональных состояний, овнешненной формой которых является звук. Слово может назвать чувство — скажем, «люблю» или «негодую», «ужас» или «восторг» и т. п., но оно не может само по себе выразить его, стать его материальным инобытием. Оно в известной степени было таковым, пока оставалось звучащим, интонируемым, ритмизованным, темброкоррелированным и более или менее громким/тихим, но оно лишается этой способности, как только оказывается беззвучным и переходит из сферы слуха в сферу созерцания, — зрению доступен весь внешний мир, а не внутренний, материальное, а не духовное, природное, а не психологическое.
Так чтение оказывается наиболее интеллектуализированным процессом из всех способов декодирования знаковых систем, которые служат культуре[1], в силу чего воспитание полноценного читателя не сводится к обучению языку, но имеет в своей основе развитие интеллекта, мышления, рациональных механизмов психики. Тут-то мы и сталкиваемся с тем раздвоением функциональных установок письменной словесности, о котором говорилось выше — монологической и диалогической установок автора и разными формами их связи — бытовой, публицистической, художественной. Чтение монологического текста есть чисто рациональный процесс выявления его содержания, и чем точнее, чем более общезначимо и однозначно декодируется данное содержание (научное, дескриптивное, директивное), тем полноценнее чтение и эффективнее его практические результаты. Это зависит и от вырабатываемого опытом автоматизма восприятия, и от легкости удержания в сознании получаемой информации, и от способности ее логического сопряжения с уже имеющейся и закрепленной в хранилищах памяти.
Но вот другой тип текста и другой способ чтения, радикально меняющий всю картину: теоретики искусства говорят о «деавтоматизации восприятия» (В. Шкловский), рациональное понимание текста вступает в сложное взаимодействие с эмоциональным, эмпатическим, обезличенные действия психики вытесняются активизацией личностного начала, однозначность уступает место многозначности. Все это происходит потому, что здесь слово теряет терминологический характер и становится образным, обнажает свою «внутреннюю форму», как называл это А. Потебня вслед за Л. Гумбольдтом, и, начиная играть ею, оживляет в воображении читателя убитый письменностью свой звуковой облик. Внутренний слух читателя позволяет ему услышать, а внутренний взор — увидеть описанное в немой строке. Например:
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Такое изменение соотношения эмоциональной и рациональной сторон содержания существенно меняет характер диалогической связи писателя и читателя по сравнению с контактом собеседников или оратора и его аудитории. Отсюда роль поэзии, которая и в своем письменном инобытии сохраняет в гораздо большей степени, чем проза, присущее ее подлинному — устному — бытию равновесие рационального и эмоционального.
Еще одно важное отличие функционирования письменной словесности от устной состоит в непосредственной диалогичности второй и опосредованности диалога в первой. В самом деле, устное, живое слово есть форма речевого действия, осуществляемого в прямом аудиальном контакте человека с человеком, и потому диалогичность, как показал в свое время еще Л. Якубинский, по своей природе имманентна речи, тогда как письменное слово, ни к кому конкретно не обращенное, не ориентировано на своеобразного собеседника, не корректируется живой реакцией аудитории, т. е. как бы «обречено на монологичность», не случайно его, безусловно, предпочитают наука, юриспруденция, документальные описания реальности.
Но культура хитроумна, ее изобретательность беспредельна, и она нашла способ диалогизации письменного слова. Более того, она нашла способ расширения сферы его действия, поскольку письменность вовлекает в диалог бесконечное множество людей, не связанных в пространстве и во времени с его инициатором, не способных его видеть и слышать и обобщающихся только с сотворенным им текстом, его письменно опредмеченным инобытием. Как же это чудо стало возможным? Во-первых, благодаря тому, что писатель-художник сохранил установку на своего читателя как на полноценного и свободного субъекта, мысленного собеседника, а не как на простой объект, принимающий и покорно усваивающий посылаемое ему сообщение. Художник, писал по этому поводу Д. Дидро, описывает «лишь одно-два свойства изображаемого явления, представляя прочее воображению» (6, т. 6, с. 446). «Когда я пишу, — вторит А. П. Чехов, — я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он добавит сам» (7, с. 254). А. Франс утверждал: настоящий художник исходит из того, что «понимать совершенное произведение искусства — значит в общем заново создавать его в своем внутреннем мире» (8, т. 3, с. 296). Об этом писал и С. Я. Маршак: «Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель» (9, т. 3, с. 87). К. С. Станиславский утверждал, что даже произведение сценического искусства дает восприятию не законченный образ, который остается лишь «воспринять», а «намеки, толчки, точки отправления» для работы воображения зрителя, который должен самостоятельно образ этот достроить (10, т. 2, с. 81). Уже эти свидетельства — а их число можно было бы значительно умножить — равно как и многочисленные суждения психологов, изучавших процессы восприятия художественных произведений, выявляют несостоятельность возражений, которые высказывали некоторые наши литературоведы (М. Б. Храпченко, Б. С. Мейлах и др.), против характеристики чтения как «сотворчества», разумеется, только в том случае, когда читается произведение искусства, а не научные трактаты, учебники или уголовный кодекс.
«Никакое произведение, — совершенно точно утверждает В. Ф. Асмус, — не может быть понято, как бы оно ни было ярко, как бы велика ни была наличная в нем сила внушения или запечатления, если читатель сам, самостоятельно, на свой страх и риск не пройдет в собственном сознании по пути, намеченному в произведении автором. Начиная идти по этому пути, читатель еще не знает, куда его приведет проделанная работа. В конце пути оказывается, что воспринятое, воссозданное, осмысленное у каждого читателя будет в сравнении с воссозданным и осмысленным другими, вообще говоря, несколько иным, своеобразным. Иногда разность результата становится резко ощущаемой, даже поразительной». «Творческий результат чтения, — резюмирует ученый, — зависит от всей духовной биографии меня, читателя» (11, с. 62—63).
Чрезвычайно интересно и показательно, что сами художники моделируют будущий процесс восприятия создаваемых ими творений, раздваиваясь в процессе творчества на создателя произведения и читателя, зрителя, слушателя. Для этого ему, писателю, нужно лишь представить себе в своем воображении будущего читателя как своего единомышленника и «единочувственника» и строить свой письменный текст как диалог с воображаемым партнером. Этот диалог с читателем начинается с внутреннего диалога в сознании писателя как «самообщение», по выражению К. С. Станиславского. Автор этих строк, специально исследовавший данное явление, собрал множество разнообразных фактов, самонаблюдений писателей и художников, материалов творческого процесса, в результате чего родилось заключение, что внутренний диалог в различных своих формах является закономерностью художественного творчества и что одна из форм такого самообщения — диалог писателя со своим будущим читателем и критиком как с воображаемым собеседником (см. 12). Действительно, К. С. Станиславский с изумлением отмечал, что в процессе игры он как бы раздваивался, распадался на две половины: одна из них жила жизнью актера, а другая любовалась как зритель. Чудно! Чудно тем более, что «такое состояние раздвоения не только не мешало, но даже помогало творчеству, поощряя и разжигая его» (10, т. 3, с. 214). Прочитав партитуру только что законченной оперы, П. И. Чайковский записал: «Автор был и единственным слушателем», и слушатель этот «восхищался музыкой и наговорил автору тысячу любезностей» (13, т. 7, с. 285—286). В конечном счете композитор, актер, писатель только потому могут переделывать свое сочинение в ходе творчества, что «второе «Я» художника, зрительско-слушательско-читательское, говорит ему о необходимости найти более точное решение художественной задачи и помогает его найти. К. Паустовский так описывал творческую ситуацию:
«В доме пусто, я один… никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать… как ощущение одиночества пропадает», «всегда думаешь» о ком-то, о каком-то конкретно воображаемом собеседнике. Это может быть образ умозрительно представляемого потомка — вспомним знаменитый пушкинский «Памятник» или стихи Е. Баратынского:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок В моих стихах; как знать? душа моя Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
Но одной установки писателя на читателя как на субъекта, собеседника, участника диалога, сотворца, разумеется, недостаточно, надо еще суметь ее реализовать, т. е. так построить текст, чтобы он действительно вовлек читателя в мысленный воображаемый разговор с отсутствующим собеседником-писателем. Средства для достижения этой цели уже сложились в устном творчестве, они были использованы и обогащены в литературе, дабы компенсировать утрату ею музыкального начала живой речи, сопровождавшего паралингвистическое, как называют это языковеды, воздействие мимики, выражения глаз, жеста, позы, — всего того, что обеспечивает прямой психологический контакт между говорящим и слушающим. Средства эти включают в себя и простую имитацию диалогической речи — скажем, вопрос, задаваемый автором то ли воображаемому читателю, то ли самому себе, или перемежающие повествование прямые обращения к читателю и т. п. Но в первую очередь эта цель достигается литературой, благодаря разнообразным художественно-образным структурам — от двухсловной метафоры типа «солнце смеялось» до сложнейших словесных построений, рассчитанных на активизацию воображения читателя, на возгорание в нем ассоциативных связей, которые индивидуализируют восприятие, превращая его в сотворчество.
По сути дела, ассоциативное обогащение текста есть своеобразная метафоризация, осуществляемая читателем, ибо выражается в отождествлении описанного с собственным опытом, весьма далеким от писательского, вспомним хотя бы, как в фантазии Татьяны Лариной на героев Ричардсона и Руссо накладывались известные ей по жизни образы современных провинциальных россиян, обнаруживая разительные несовпадения, пока в приехавшем из Петербурга молодом аристократе она не узнала контаминацию черт персонажей романов и реального лица. Такой психологический процесс сопряжения вычитываемого и знакомого по жизни или по предыдущему опыту «жизни в искусстве» характеризует художественное восприятие в отличие от нехудожественного, учебно-научного, которое рассчитано на отключение ассоциативных механизмов читателя научного текста, способных лишь помешать адекватному и одинаковому для всех постижению описываемой закономерности или, скажем, в исторической науке — уникального факта. Историк науки справедливо утверждает, что в работе ученого метафора «ставит силки мышлению». Хотя метафоры неизбежно проникают в язык науки, они здесь «гасятся», превращаясь в строго дефинированные однозначные термины, например, «грудная клетка», «магнитное поле», «черная дыра», чтобы никаких ассоциаций с какими-либо «клетками», «полями» и «дырами», известными нам по жизненному опыту, они не вызывали. Наконец, именно в письменной словесности и получили широкое развитие разнообразные повествовательные формы — повесть, роман, биографическое описание, мемуары, письма — отсутствовавшие в устной словесности, диалогическая форма которой имела поэтический, словесномузыкальный характер. Художественная проза и все маргинальные для искусства жанры, родившиеся на границах литературы и публицистики, литературы и документалистики, литературы и науки, открыли недоступные фольклору и бытовому речевому общению возможности обстоятельнейших описаний человеческой жизни, природных явлений, глубинных психологических процессов. Значение такой обстоятельности состоит в том, что она придает изображению жизни высокую степень конкретности, позволяя воспринимать ее по тем же психологическим законам, что и саму реальность, а не по тем, по которым воспринимаются абстракции науки. Один из таких законов — сопряжение новых ощущений с хранящимися в памяти, их ассоциирование, сопоставление, сравнение, взаимное наложение. Вместе с тем, словесные описания лишены той степени конкретности, которая предполагает наглядность и, если можно так выразиться, «наушность», открывая широкий простор для конкретизации этих описаний. Скажем, читая пушкинское «мороз и солнце, день чудесный!», каждый представляет себе эту картину по-своему, конкретизируя ее тем запасом представлений о морозе, солнце, зимнем дне, которые у него есть. Точно так же, читая описание музыки в «Моцарте и Сальери», мы должны воссоздать мысленным слухом звучания, которых реально не слышим. Понятно, что каждый читатель делает это по-своему. Это значит, что литература открывает более широкие возможности, чем живопись, актерское искусство, музыка для сотворческой активности восприятия.
Но диалогический характер чтения требует соответствующих усилий не только со стороны пишущего, но и со стороны читающего, у него должны быть потребность и способность вступать в диалог с отсутствующим собеседником, хотя и представленным предметно его инобытием — литературным произведением. Такая потребность и такая способность, несомненно, имеют личностную детерминацию, будучи обусловленными определенными духовными качествами индивида.
К читателю в полной мере относятся слова К. С. Станиславского, что существуют не только талантливые актеры, но и талантливые зрители. Талантливый читатель — это и есть читатель, активно и целеустремленно входящий в диалог с писателем, охотно и радостно отвечающий на его призыв к общению. Между тем, опыт показывает, что существуют и иные типы читателя, которые относятся к рассказу, повести, роману, либо, так сказать, наивно-мифологически, либо прагматикодидактически: одним кажется, что все, описанное в литературном произведении, действительно имело место в жизни (Вера Панова рассказывала, какое количество писем она получила от фронтовиков, уверенных в том, что в «Спутниках» была изображена жизнь именно их эвакопоезда, и упрекавших ее за искажение ряда частностей), другие убеждены, что смысл существования литературного произведения в нравоучении, или в политическом призыве, или в религиозном наставлении. Обе эти позиции в равной мере противостоят диалогической установке и переносят на искусство свойства других форм деятельности — документального воспроизведения реальности или идеологического ее истолкования.
Понимание того, что художественное произведение, в частности, литературное, какое бы духовное содержание оно ни несло в себе и сколь бы верно ни отражало какие-то реальные явления (скажем, в портрете, художественно-документальном очерке или фильме того же жанра), есть вымысел, осуществляемый для того, чтобы организовать в этом иллюзорном художественном мире встречу двух свободных субъектов, объединяемых сотворческими устремлениями и усилиями, — такое понимание является высоким завоеванием культуры, научившейся формировать интеллигентного, духовно развитого, эстетически воспитанного, художественно образованного Читателя. Следовательно, «проблема читателя» — это не чисто индивидуальная, личностно-психологическая, но прежде всего социокультурная проблема. Поэтому нужно найти ответ на вопрос: каковы условия формирования такого «художественно-воспитанного», по слову К. Маркса, читателя? Условия эти — в наличии или отсутствии у общества потребности в развитой субъектности каждого своего члена. Я уже имел возможность в специальной статье (см. 14) показать, что появление той или иной трактовки философией и эстетикой субъектно-объектных отношений отражает определенные социальные и культурные потребности, ибо понятие «субъекта» обозначает позицию свободной, духовно развитой, сознательной и самосознательной, уникальной личности. Такая личность нужна демократическому обществу и опасна обществу тоталитарному, независимо от того, политический или религиозный смысл имеет этот тоталитаризм. Поэтому ни самодержавный строй, идеологией которого в России была триада «православие — самодержавие — народность», ни мусульманский тоталитаризм современного Ирана, ни итальянский фашизм, ни германский национал-социализм, ни сталинский псевдо-социализм не формируют в людях субъектов и исключают из своего философского идеологического обоснования саму эту категорию. В вышеупомянутой статье показано, что не только в философском «дайджесте» Сталина, но и в официальной советской философской доктрине, сложившейся в 30—50-е годы, и даже у такого образованного мыслителя, как М. А. Лифшиц, понятия «субъект», «субъективное», «субъектное» либо вообще не употреблялись, либо употреблялись в чисто негативном смысле, отождествляемые с «субъективизмом», то есть с извращением объективных истин, и утверждался своего рода культ объекта и объективности, метафизически отторгнутых от реальной диалектической связи с субъектом и субъективностью. Такая позиция могла благоприятствовать пониманию познавательной деятельности человека и ее высшей формы — науки, но она оказывалась губительной для теории ценности, для этики, эстетики, религиоведения, культурологии в целом, ибо приводила к вульгарному выводу, что «ценность есть истина, а истина есть ценность» (чеканно-примитивная формулировка М. А. Лифшица). Это приводило к тому, что искусство сводилось к добыванию объективной истины, уподоблялось науке и, естественно, оказывалось неполноценным знанием (что в свое время должен был признать уже Гегель). О диалогическом характере восприятия искусства тут не могло быть и речи.
Вполне закономерно, что герменевтические идеи родились в эпоху Романтизма, будучи вместе с тем отражением процесса активного формирования субъектных качеств человека в ходе развития буржуазного общества. Потомуто именно в философии Канта, Фихте, романтиков иенской школы вышла на теоретическую авансцену категория субъекта в системе субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений. В дальнейшей истории буржуазного общества практическое, а потому и теоретическое решение этой проблемы неизбежно должно было принять по преимуществу субъективистский характер, отражавший индивидуализм товарной экономики и общественного сознания. Ощущение опасности этого типа социальной практики и продуцируемой ею социальной психологии для самого существования общества как целостной организации жизни и деятельности людей вело и к попыткам обуздания рыночного эгоизма капитализма определенными действиями государства, и к развитию социалистических политических идей во всех капиталистических странах, а также к оживлению религии как этической альтернативы индивидуализму, ибо, как сформулировал это еще Ф. Достоевский, «если бога нет, то все дозволено…».
Не входя сейчас в более обстоятельное обсуждение этого круга проблем — оно вышло бы за пределы и содержания, и размеров настоящей статьи, ограничусь замечанием, что именно и только подлиннодемократическое и последовательно-демократическое устройство общества способно выращивать в каждом человеке духовно развитую личность, самоценность которой не противопоставляется ценности общественного коллектива, но диалектически сопрягается с нею. А это означает, что человеческие отношения строятся в таком обществе на принципе дополнительности субъектно-объектных и субъектносубъектных отношений, дополнительности коммуникации и общения, управления и общения, монологической и диалогической связи человека с человеком, а затем с природой и с творимым им миром вещей как «второй природой». В этом случае формируются и неотрывные от субъективности способность и потребность каждого члена общества быть если и не художником-творцом, то его собеседником-сотворцом, участником духовного с ним диалога. Главная роль принадлежит тут, несомненно, школе, которая должна резко изменить свое отношение к искусству, в частности, к литературе, покончив с подменой ее преподавания преподаванием вульгаризированного литературоведения, т. е. науки о литературе, природа которой, как и всякой науки, существенно отлична от природы искусства слова (см. 15). Так называемое «эстетическое воспитание» в школе (на самом деле обычно имеется в виду «художественное воспитание», ибо эстетическое воспитание — это совсем иная деятельность, осуществляемая и через художественное воспитание, и за его пределами) должно иметь главной своей целью формирование потребности и способности учеников к диалогическому сотворчеству в полноценном художественном восприятии, а у наиболее одаренных — и к непосредственному художественному творчеству в том или ином виде искусства.
3.
Как именно можно достичь этой цели — особый педагогический и методический вопрос, который требует специального обсуждения. Однако один его аспект нельзя не осветить в этой статье, поскольку он затрагивает важнейший диалогический механизм чтения художественных произведений: я имею в виду разные типы этого диалога, охватывающего и прямую, и косвенную, и комбинированную форму собеседования читателя с писателем. Тут с неожиданной, быть может, но очень важной стороны раскрывается проблема родового членения литературы на эпос, лирику и драму. Ее обсуждение в советской науке приводило к расширению этой триады — то за счет сатиры, то за счет романа, то за счет киносценария (см. 16). Однако имеет смысл посмотреть на это явление не только со стороны творчества, но и со стороны восприятия литературных произведений. И тогда окажется, что диалог, в который вступает читатель, завязывается им либо непосредственно с писателем (хотя бы он и скрывался за образом так называемого «лирического героя») — таково чтение лирического произведения, либо с героями пьесы, за спиной которых спрятался писатель, — таково восприятие драмы, либо и с автором, и с его персонажами, — таково восприятие романа, повести, рассказа. Психологический механизм диалога с персонажем литературного произведения — это раздвоение читателя на две «половинки», одна из которых остается созерцающей действия героя извне, осмысляющей и оценивающей их, а другая перевоплощается в самого этого героя, идентифицирует себя с ним (в жизни такая идентификация происходит в общении друзей, в ответ на призывы «Войди в мое положение…», «Стань на мое место…», «А как бы ты поступил на моем месте?..»). В результате между этими ипостасями читательского «Я» возникает внутренний диалог, который представляет его диалог с персонажем. Я должен в какой-то мере слиться с каждым из братьев Карамазовых, даже с их отцом и даже со Смердяковым — иначе я не пойму их действий, сокровенных мотивов их поведения, но одновременно я остаюсь самим собою, в позиции «вненаходимости», по слову М. Бахтина, позволяющей мне не только понимать, но и судить, оценивать, выносить каждому свой нравственный приговор. Именно между этими двумя ипостасями моего «Я» и ведется диалог. Независимо от того, как он разрешится, приведет ли он к принятию или неприятию персонажа (мы полагаем его в таком случае «положительным» или «отрицательным» героем), или же останется противоречиво рассогласованным, когда он вместе с И. Тургеневым может сказать, что он не знает, какие чувства он испытывает к Базарову — симпатию или неприязнь. Это сравнение читательского отношения к образу с писательским, не оговорка и не подмена одной ситуации другой, ибо первое изоморфно второму, повторяет его, строится по той же диалогической логике (диалогике, как удачно называет ее В. С. Библер). Но особенно близка здесь аналогия диалогики художественного восприятия со структурой вторичного творчества актера, режиссера, дирижера, музыканта-исполнителя, книжного иллюстратора. По сути дела, полноценный читатель (как и зритель, и слушатель) повторяет в своем воображении действия художников-исполнителей, творчество которых является реализацией, воплощением художественных «проектов», созданных драматургом, композитором, писателем. В этом структурном подобии — лучшее доказательство творчески диалогической и истинно художественной природы восприятия произведений искусства.
Сфера художественной деятельности человека располагается, таким образом, на нескольких уровнях: первый, так сказать, излучатель художественной энергии — уровень первичного творчества, творчества писателя и композитора, второй уровень — уровень опредмечивающего сотворчества актера, чтеца, музыканта-исполнителя, сценографа и иллюстратора книги (некоторые виды искусства не знают этого различия — сочинение и исполнение слиты в них воедино, таковы живопись и скульптура, прикладные искусства), третий уровень —уровень восприятия, на котором сохраняется сотворчески-диалогическая структура исполнительского искусства, но здесь со-творческий диалог имеет чисто идеальную форму, не материализуясь в том или ином художественном языке. Чтение не только лежит на этом уровне, но и отличается от других форм художественного восприятия своей прямой связью с художественным первотворчеством, так как чтению приходится брать на себя функции, которые в других искусствах выполняют посредники между драматургом и зрителем, композитором и слушателем — функции интерпретации замысла сочинителя и воплощения его образов в своем сознании. Такова диалогика чтения. Ее понимание обязывает нас воспитывать в каждом новом поколении таких читателей, которые были бы полноценными собеседниками писателей, и классиков, и достойных этого современников.
Библиографический список
- 1. Naumann М. Autor — Adressat — Lesor. In Naumann M. Blickpunkt. Leser. Literaturtheoretische. Aufsatze. — Leipzig, 1984.
- 2. Каган M. С. Философия культуры. — СПб., 1996.
- 3. Каган М. С. Жизнь слова в культуре: Опыт системного изучения проблемы // Res Philologica. Филологические исследования. — М., 1990. См. также упомянутую монографию «Философия культуры».
- 4. Каган М. С. Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. — М., 1974.
- 5. Каган М. С. Морфология искусства. — Л., 1972; Его же. Музыка в мире искусства. — СПб., 1996.
- 6. Дидро Д. Собр соч.: В 10 т. — М.-Л., 1935—1947.
- 7. Чехов А. П. О литературе и искусстве. —Л., 1955.
- 8. Франс А. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1957—1960.
- 9. Маршак С. Я. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1968—1972.
- 10. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т., — М., 1954—1961.
- 11. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. — М., 1968.
- 12. Каган М. С. Внутренний диалог как закономерность художественно-творческого процесса // Советское искусствознание. — М., 1985. Вып. 19. А также кн.: Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. —Л., 1991.
- 13. Чайковский П. И. Поли. собр. соч. в 14 т. — М., 1953—1974.
- 14. Социальная практика и философская рефлексия // Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. —Л., 1991.
- 15. Каган М. С. О месте искусства в жизни школы // Искусство в школе. 1992. № 1.
- 16. Каган М. С. Морфология искусства. —Л., 1972.
- [1] Поэтому словесный язык избран наукой как идеальное средство выражения еесодержания. Конкурирует с ним только геометрический язык абстрактно-пространственных форм, но его содержание несравненно более узко, чем содержание словарявербального языка.