Романтическая двуплановость в свете иронии
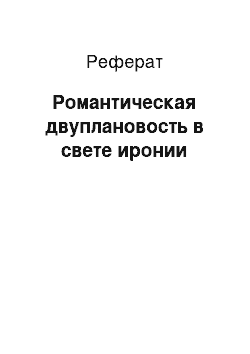
В начале мистерии есть выразительный эпизод, когда повелитель злых духов Бука отчитывает за непослушание Кикимору и Шишимору и распоряжается: «Их порознь на год в кабалу отдать Ижорскому». Привычная ситуация парадоксальным образом выворачивается наизнанку: существом гонимым, изгнанником становится злой дух («Меня, изгнанника, вы, братья, помяните!»). И уже не Ижорский от него, а он от Ижорского… Читать ещё >
Романтическая двуплановость в свете иронии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Какое же значение имеют все эти Кикиморы, Шишиморы, Буки, Русалки, Лешие, Сильфы, Гномы, Ондины, Саламандры и прочие мифологические персонажи? Б. М. Эйхенбаум писал, что в «Ижорском» «злодейства» героя мотивируются их властью: перед нами «мифологические существа, овладевшие героем и заставившие его совершать злодейские поступки…»[1]
Однако это не совсем так. Мы уже знаем, что в романтизме подчинение персонажа высшим силам строится на основе их автономной соотнесенности, в чем, собственно, и заключается смысл романтической двуплановости (нарушаемой «трагедией рока»). «Ижорский» придерживается той же двуплановости, и если он ее нарушает, то не в том направлении, в каком это делает «трагедия рока», подчинявшая человеческий план надреальному, но скорее в направлении противоположном. Свет иронии проник и в область романтической двуплановости.
В начале мистерии есть выразительный эпизод, когда повелитель злых духов Бука отчитывает за непослушание Кикимору и Шишимору и распоряжается: «Их порознь на год в кабалу отдать Ижорскому». Привычная ситуация парадоксальным образом выворачивается наизнанку: существом гонимым, изгнанником становится злой дух («Меня, изгнанника, вы, братья, помяните!»). И уже не Ижорский от него, а он от Ижорского заражается хандрой («Сижу, Ижорского хандрою зараженный», — жалуется Кикимора, на что Саламандр Знич отвечает: «Брат, славная тобой элегия пропета!»). И процедура адской сделки переосмысляется: не душу Ижорского требует Кикимора, а обязательства продержать его, беса, в своем услужении ровно год.
Зависимой стороной здесь выступают сверхъестественные силы: это они выполняют желания Ижорского[2]. Это он им ставит условия, и к любому последующему его поступку ведет импульс из сферы его свободной воли. Герой, совсем в духе времени, называет себя «игралищем страстей, людей и рока», а Кикимора говорит о владычестве судьбы над людским родом иронически:
А не припомню я ни разу, Чтобы из вас кто сотворил проказу И не винил бы неба и судеб:
Нос расшибете? — Божие веленье!
Споткнетесь? — тайна! Глубина!
Хотя автор мистерии не упраздняет романтическую двуплановость полностью, но равновесие явно поколеблено: возрастает удельный вес свободной воли, индивидуальной ответственности за совершенное деяния. В заключение второй части мистерии один из злых духов, Шишимора, уже в более строгой, неиронической тональности, подводит итог вины Ижорского:
Терзайся, рвися и внемли!
Ты призван был в светило миру, Был создан солью быть земли, Но сам раздрал свою порфиру, С главы венец свой сорвал сам…[3]
Подобным же образом и в заключительной фазе конфликта — возрождении Ижорского — при сохранении высшего плана усилена роль момента субъективного раскаяния: «Я осудил себя, и строже, чем ты можешь…» В этом, очевидно, и состоит ироническая подоснова мифологических образов, на что намекнул сам Кюхельбекер в предисловии к первым двум частям:
«В драме, которой действие происходит в XIX столетии, мы употребили их не без иронического намерения. Какое это намерение, надеемся, легко увидит всякий, наблюдавший с некоторым вниманием век наш»[4].
Наибольшие упреки критики вызвало смешение Кюхельбекером (заметим: нарочитое) различных типов мифологии — западноевропейской и русской:
«Всего страннее в этой мистерии участие персонажей небывалой русской мифологии. За неимением на Руси духов, автор наделал своих, но, к несчастью, его Бука, Кикимора, Шишимора, Знич, его русалки, лешие, совы и пр. очень плохо вяжутся с гномами, сильфами, ундинами, саламандрами, Титаниею, Ариэлем и пр.»[5].
В этом подчеркнутом смешении мифологий обращает на себя внимание пародийное использование имен гак называемого древнего славянского баснословия. Таков Знич, которому М. И. Попов, систематик славянской мифологии, давал следующее описание:
«Священный неугасимый огонь. По многим городам имели славяне его храмы; жертвовали ему частию из полученных у неприятеля корыстей и плененными христианами… В болезнях тяжких имели к нему прибежище…»[6]
У Кюхельбекера саламандр Знич выступает подручным Кикиморы, кстати, тоже включаемым в число древнеславянских божеств (его характеристику дает в своем труде Попов). Знич снабжает Кикимору огненным порошком, чтобы тот разжег любовное чувство Ижорского; потом устраивает пожар на почте. Кюхельбекер не очень почтителен к мифологической традиции, завоевавшей себе в предромантическую и романтическую пору немало жарких сторонников. Напомним об участии Знича («Знич светлый, жаркий, жизнодатель…») в произведении А. Н. Радищева «Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1801 — 1802; опубл. 1807).
Смешение мифологических планов должно быть рассмотрено вместе с другим «прегрешением» Кюхельбекера — против сценической иллюзии. Автор «Ижорского» нарушает ее с невиданной для русской литературы тех лет дерзостью и последовательностью. Персонаж у него обращается к зрителям, защищая или комментируя (как правило, иронически) те или другие моменты сюжета. Например, Кикимора говорит:
Итак, любезный друг, читатель или зритель, С тобою глаз на глаз Мы видимся в последний раз…
В другом месте автор мистерии, став ее персонажем, встречается с Кикиморой, и они обсуждают продолжение действия. Кикимора говорит:
…ходят слухи, Что сладить с драмою своей Вам трудновато без чертей…
Иногда персонаж признается, что поступает именно так, а не иначе в интересах развития пьесы: «Без того не быть бы сказке», — мотивирует Бука свое решение послать провинившихся духов в услужение к Ижорскому.
Во всех случаях суверенность идущего своим объективным ходом сценического действия, словно бы не зависящего от автора и ничего не знающего о внимании к себе зрителей, упраздняется. Нарушается принцип «четвертой стены», столь важный для театра классической поры (с указанным принципом не считался водевиль, но это разрешалось поэтикой жанра). В упомянутом предисловии Кюхельбекер программно обосновал свой шаг, ссылаясь на античную традицию:
«В Аристофановых хорах и даже в монологах и диалогах действующих лиц его комедий много выходок, в которых он прямо говорит публике, в которых найдутся насмешки и над современными ему писателями и героев над самими собою и даже над искусством драматическим. За оные выходки его весьма справедливо осуждал некто профессор элоквенции при афинском университете. „Они-де, — говорил сей преострый муж, достойный многих хвал, — оии-де разрушают сценическое очарование и напоминают почтенным афинским гражданам, присутствующим при лицедействиях, что перед ними не Бакхус, не Демос, не облака и не лягушки, а Кари, Сидор, крашеный холст и статисты. В противном же случае его превосходительство г. Архонт, их высокородия господа Пританы и прочие точно были бы уверены, что видят самого Бакхуса, самого Демоса и проч. probandum erat> и в чем уповательно никто не сомневается“. Мы не из числа неверующих. Но как уж нам, верно, суждено было судьбою собрать вкупе и соединить все ошибки и промахи наших предшественников, мы обрадовались сей погрешности невежи Аристофана и ею воспользовались»[7][8].
Отметим тот документ, который повлиял на Кюхельбекера или к которому он, по крайней мере, близок. Это статья Фридриха Шлегеля «Об эстетических достоинствах греческой комедии…» (1794). Оскар Вальцель показывает место этого документа в развитии общей теории романтической иронии:
«Самая очевидная, ближайшая и излюбленнейшая форма романтической иронии — разрушение драматической иллюзии. Ф. Шлегель, определяя романтическую иронию, не мог миновать этой черты, когда ссылался на „мимическую манеру обычного хорошего итальянского буффа“ (42-й фрагмент из „Лицея“). Уже в 1794 г. статья Ф. Шлегеля „Об эстетических достоинствах греческой комедии…“ защищала Аристофана от упрека, что он „часто прерывает обман“ (ср. упрек „профессора элоквенции“ у Кюхельбекера: „разрушают сценическое очарование“. — /О. М.). 11о это заключено, по Ф. Шлегелю, „в природе комического воодушевления“. „Подобное нарушение — не неловкость, но обдуманное озорство, льющаяся через край полнота жизни… Высочайшая активность жизни должна действовать; и если она ничего не находит вне себя, то обращается вспять на свой любимый предмет, на себя саму; и в таком случае она ранит, чтобы дразнить, не разрушая…“ Уже здесь фактор упразднения сценической иллюзии соединен с теми нитями, из которых позднее было выткано понятие романтической иронии, и служит существенным признаком являвшегося перед романтиками идеала комедии»[9].
Хорошо осведомленный в развитии европейского романтизма, особенно немецкого, и его различных тенденций, Кюхельбекер воспользовался опытом «разрушения иллюзии» (теоретически обоснованного Ф. Шлегелем, Л. Тиком и практически осуществленного тем же Тиком, К. Брентано и др.) для художественных целей своей мистерии[10]. Для каких конкретно? Па этот вопрос проливает свет другое рассуждение Кюхельбекера о юморе:
«Юморист вовсе не пугается мгновенного порыва, напротив, он охотно за ним следует, только не теряет из глаз своей над ним власти, своей самобытности, личной свободы. Humour может входить во все роды поэзии: самая трагедия не исключает его; он даже может служить началом, стихиен) трагической басни: в доказательство приведу Гётева „Фауста“ и столь худо понятого нашими критиками „Ижорского“; „Ижорский“ весь основан на юморе: автор смотрит и на героя своего, и на событие, которое изображает, и на самые средства, которыми опое изображается (чего никак не вобьешь в премудрые головы наших аристархов), как на игру, — и только смысл игры сей для него истинно важен; вот отчего во всей этой мистерии, от первого стиха до последнего, господствует равнодушие к самому искусству и условным законам его: поэт не боится разочаровать читателя, потому что не хотел и не думал его очаровывать; анахронизм его… в котором упрекнул его какой-то критик… основан именно на том же юморе, на косм основаны и весь план поэмы — и каждая сцена в особенности»[11].
Итак, «анахронизм» чудесного принадлежит к той же стихии, что и обращения персонажей к публике, что и беседа автора с персонажем. Иными словами, нарушение сценической иллюзии принадлежит к стихии юмора, а юмор рождает особую форму авторского безразличия-участия: безразличия — к выдержанности средств искусства и повышенного участия — к некоему итоговому его смыслу. Это соответствует мысли Шлегеля о том, что романтическая ирония обращается на свой собственный предмет и ранит, но не уничтожает. Автор мистерии постоянно дает почувствовать свою власть над персонажами (он «как добрый старик, забавляется детьми», — сказано в том же рассуждении о юморе), постоянно растворяет серьезность происходящего в романтической невыдержанности стиля. Но все это делается для того, чтобы подвести к некоей нерастворяемой и неотменяемой высшей идее, каковой, очевидно, была для Кюхельбекера идея морального возрождения человека.
Романтическая ирония — явление, как это самоочевидно, сугубо романтическое; однако сложность состоит в том, что под ее власть постепенно подпадала сама поэтика романтического конфликта. Кроме того, как отмечалось выше, Кюхельбекер в критике романтизма обращался за поддержкой и к архаичным источникам. Это вообще типично для Кюхельбекера, который еще в 1824 г. в знаменитой статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», ниспровергая мечтательность и унылый элегизм, пытался опереться на риторическую и одическую традицию.
В «Ижорском» обращает на себя внимание множество персонажей с говорящими фамилиями, в стиле моральной сатиры русского XVIII в. Рядом с Ижорским выступает Жеманский, своего рода его сниженный двойник, чье разочарование — одно напускное жеманство и притворство. Ему дает характеристику Ижорский:
Вот молод и румян и глуп и тучен, А и в него вселилась блажь, И лезет он туда ж, И страстию байронстпвоватъ размучен!
Еще один представитель молодого поколения — Ветренее, бездумно увлеченный Ижорским (ср. реплику Лидии: «Ветренева с ума свесть — нет великой тайны»). Третий персонаж — Веснов, юный романтик, горячий и искренний (ср. реплику Ижорского: «Как молод он, как пламенен, как свеж! / Да, были и во мне когда-то чувства те ж…»)[12].
Далее в пьесе упоминаются: «прокурор Хватайко», явно перекочевавший сюда из «Ябеды» В. В. Капниста; «Воров, квартальный надзиратель», возможно, ведущий свое происхождение из романа А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества»; чета Ханжеевских (ср.: Ханжахина в комедии Екатерины II «О время!»), Фалалей Кузмич Подлипало и др.[13] Управитель в имении Ижорского, горько укоряющий своего барина в распутстве, носит фамилию Честное.
Говорящие фамилии помогают сохранить устойчивый моральный фон этой переливающейся и постоянно отрицающей самое себя стихии юмора. Создается интересное переплетение классических и просветительских традиций с романтическими формами, усложненное еще и тем, что весь этот художественный поток, повинуясь новым веяниям, стремится уже выйти из русла романтизма вообще!
В мистерии Кюхельбекера предметом романтической художественной самокритики стали собственно романтическое мироощущение и романтическая поэтика.
- [1] Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. С. 207, 202.
- [2] Выразительна реминисценция из «Горя от ума»: «По мере данных мне способностейи сил / Я, было, вздумал оказать услугу: / На почте я пожарен разложил…» Шишимораобслуживает порочные страсти Ижорского с услужливостью Молчалива.
- [3] Шишимора, между прочим, трижды подкрепляет свои слова клятвой субстанциального характера: «Клянусь твоею слепотою, / Клянусь бездонной, вечной тьмою, / Грядущимжребием твоим, / Клянусь презрением моим / И яростной к тебе враждою, / Клянусь, клянусь, клянуся Им, / Кого назвать я не дерзаю, / Клянуся: истину вещаю». Это, конечно, предвосхищает знаменитую клятву Демона: «Клянусь я первым днем творенья, / Клянусь егопоследним днем». Вспомним также клятву Дмитрия Калинина. Субстанциальные клятвысвязаны с явлением романтической двуплановости.
- [4] Кюхельбекер В. К. Ижорский. Мистерия. С. X.
- [5] Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 232. Титания и Ариэль заимствованы Кюхельбекером у Шекспира. Образ демона Кикиморы в сцене первого его появления также «имеетопределенную близость к Пуку из „Сна в летнюю ночь“» (см.: Шекспир и русская культура.М.; Л., 1965. С. 157).
- [6] Попов М. И. Описание древнего славенского языческого баснословия. СПб., 1768. С. 14.
- [7] Что и требовалось доказать (лат.).
- [8] Кюхельбекер В. К. Ижорский. Мистерия. С. VI—VII.
- [9] Walzel О. Op. cit. S. 57.
- [10] О том, что почин Кюхельбекера еще не оценен и, так сказать, не вписан в историю русской литературы, говорит следующий факт. А. В. Федоров, автор интересной книги «ТеатрА. Блока и драматургия его времени» (Л., 1972) ставит вопрос: «Есть ли у „Балаганчика“ какпьесы, где совершается разоблачение театральной иллюзии, прецеденты в русской и западноевропейской драматургии?» — «В русской драматургии может быть названа, пожалуй,"Фантазия» Козьмы Пруткова" (С. 50). Но с не меньшим правом может быть названа написанная много раньше мистерия «Ижорский».
- [11] Цитированный отрывок приведен в примечаниях Н. В. Королевой в изд.: Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: в 2 т. М.; Л., 1967. Т. 2. С. 751. Ср. также: Кюхельбекер В. К. Дневник. С. 41.
- [12] Отношения Ижорского с Весновым напоминают отношения Онегина с Ленским (об этом см.: Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. С. 202).
- [13] Упоминаемый в пьесе Трофим Михайлович Фирюлин, «Зоил», издатель «ВестникаЛуны», — очевидно, пародийный образ Михаила Трофимовича Качеповского, историка, писателя, издателя журнала «Вестник Европы».