Политическая модернизация и постмодернизация
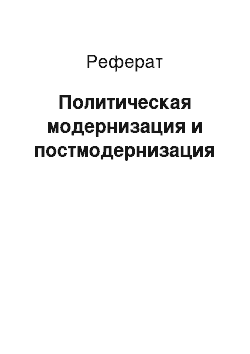
Можно согласиться с тем, что при переходе от традиционного общества к современному происходит замена «традиционного типа социального действия», основанного «на следовании однажды принятой привычной установке», рациональными действиями, закрытой социальной структуры на открытую, с вертикальной и горизонтальной социальной мобильностью. «Ролевые функции в современном обществе дифференцированы… Читать ещё >
Политическая модернизация и постмодернизация (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Политическая модернизация
Модернизация, т. е. осовременивание общества, — одно из самых модных и дискуссионных понятий в науке. Разнообразие его толкований приводит в замешательство. Согласно Теннису «модернизация — это переход от сообщества к обществу; по Дюркгейму, это переход от механического к органическому состоянию общества, по Веберу — от ценностной рациональности к цели — рациональности, по Зиммелю — от вечного прошлого к вечному настоящему, по Кракауэру — переход к нахождению единичных экземпляров общего принципа рациональности. Согласно Леви сутыо модернизации является рационализация. Смелзер подчеркивает технологические сдвиги, переход от семейнообщинных отношений к экономическим, разрушающий прежнее общество характер модернизации. Парсонс считает модернизацию универсальным процессом, в основе которого лежит адаптация. Согласно Луману модернизация связана с дифференциацией»[1]. Еще один теоретик модернизации — С. Блэк — «предлагал рассматривать этот процесс как приспособление традиционных институтов к новым функциям, которые отражают беспрецедентное возрастание человеческого знания, позволяющее установить контроль над окружающей средой»[2].
Первоначально термин «модернизация» применялся к освободившимся от колониальной зависимости в 1960;е гг. странам Африки. Западные социологи и политологи полагали, что эти страны в ближайшие годы должны повторить путь Запада. Однако время показало утопичность и даже некоторую опасность подобных преобразований для этих молодых государств. Болес того, в последние 10—20 лет термин «модернизация» понимается расширенно и многие специалисты говорят о нескольких волнах модернизации.
Можно согласиться с тем, что при переходе от традиционного общества к современному происходит замена «традиционного типа социального действия», основанного «на следовании однажды принятой привычной установке», рациональными действиями, закрытой социальной структуры на открытую, с вертикальной и горизонтальной социальной мобильностью. «Ролевые функции в современном обществе дифференцированы, а основные сферы жизнедеятельности секуляризованы, т.с. освобождены от религиозного влияния. Власть и управление в современном обществе рационализированы. В целом это общество обладает мощным потенциалом саморазвития». Если же говорить об экономической модернизации, то она «означает развитие и применение технологии, основанной на научном знании, высокоэффективных источников энергии, углубление общественного и технического разделения труда»[3].
Однако в приведенном реестре модернизационных достижений отсутствуют какие-либо причинно-следственные связи, не указаны хронологические рамки. Между тем время начала модернизации вызывает немало споров. В западной науке возникла тенденция датировать его поздним (XVI в.) и даже зрелым Средневековьем (XIV—XV вв.). Кто-то относит начальный рубеж модернизации к эпохе Великих географических открытий и Реформации. Кто-то связывает ее с беспрецедентной эпидемией чумы в середине XIV в., которая подорвала силы феодальной экономики, создав дефицит рабочей силы и окончательно коммерциализировав средневековое сельское хозяйство. Исследователь средневекового права Дж. Берман, усматривающий модернизацию в «папской революции» Григория VII, приводит самую раннюю дату — вторую половину XI в. Некоторые связывают начало модернизации с «мануфактурной модернизацией» XVII—XVIII вв., когда совершился переход к примитивной кооперации на основе разделения функций в процессе ручного труда.
Сторонники ранней датировки начала модернизации — непосредственно после «сумерек Средневековья» — указывают на такие явления, как секуляризация (связанная с Реформацией XVI в.) и рационализация — «замещение всемогущего Всевышнего столь же универсальным и всесильным Разумом». «Секуляризация, обратившаяся рационализацией, дала, таким образом, импульс демистификации (расколдованию) мироустройства, а с ним и политического порядка». По мнению сторонников указанного подхода, еще одной особенностью социально-политической жизни до конца XVIII в. стала конституционализация — «разрешение конфликтов между структурами абсолютного государства и своевольного гражданского общества». «Болезненный конфликт между двумя противоположными по своей сущности образованиями — абсолютским государством и гражданским обществом — несколько раз вылился в так называемые ранние буржуазные революции. Фактически это были революции ранней политической модернизации»[4]. Заметим, однако, что Нидерландская революция второй половины XVI в. и Английская революция середины XVII в. имели все же локальный характер: за ними в обозримом периоде времени не последовали общеевропейские социальнополитические катаклизмы. Первое событие, скорее, было даже национальной религиозно-освободительной войной, а второе — гражданской войной с мощной религиозной составляющей. Смертельный удар по абсолютизму в общеевропейском масштабе они нс нанесли, а распространившийся в Европе столетие спустя просвещенный абсолютизм также не привел к кардинальной социально-политической трансформации.
Скорее, мы можем говорить о том, что в XVI—XVIII вв. (но никак не раньше!) возникают предпосылки модернизации — преимущественно духовно-идеологического характера. Сама же модернизация — это продукт начинающейся эпохи промышленной революции ши промышленного переворота, с которой совпадает целая серия классических буржуазных революций конца XVIII—XIX вв. Именно в это время экономический фундамент модернизации и проявления политической модернизации не только оказывают взаимное влияние друг на друга, но и находятся в зоне воздействия ее социальных последствий (рис. 10.1).
Если говорить об экономическом фундаменте модернизации, то он в XIX в. не сводится к какому-либо одному фактору, хотя и важному (например, механизации производства, что приводит к созданию фабрик). Параллельно с этим или с небольшим временным шагом происходит также «революция коммуникаций» (она выражается в развитии парового транспорта на суше и на море), в результате чего интенсифицируются не только грузовые перевозки, по и развитие человеческих контактов между людьми. Возникают крупные акционерные банки, без чего финансовое обслуживание новой индустриальной экономики было бы невозможным. Резко повышается техническая оснащенность сельского хозяйства, его специализация и товарность.
Социальные последствия модернизации в результате промышленного переворота (с конца XVIII в. до середины XIX в.) и индустриализации (последняя треть XIX в.) затрагивают социальную структуру общества: она окончательно утрачивает остатки сословного корпоративизма и становится индустриально поляризированной, т. е. основой являются наемные рабочие и работодатели-капиталисты; возрастает социальная и географическая мобильность составляющих ее классов и слоев. Изменения происходят и в среде обита;
Уже в ходе великих революций конца XVIII в. — американской и французской — имели место попытки установления механизма разделения властей в том или ином виде, а значит, и отказ от политически безответственного государства. Ясно, что распределение зон ответственности внутри государственного механизма не могло не повысить его эффективность.
Из создания более специализированной по своим функциям государственной конструкции логично вытекало утверждение принципа выборности если не всех, то некото.
рых ветвей власти. Разумеется, расширение избирательного права вплоть до всеобщего носило не одновременный и далеко не последовательный характер (т.е. были и временные отступления от этого принципа, и его ограничения). Тем не менее эта новация укрепляла легитимацию власти и в то же время вела к ее десакрализации.
Институционализация выборов естественным образом способствовала возникновению массовых политических партий. Предшествовавшие последним полисные, средневеково-сословные, клановые группировки и парламентские фракции, конечно, использовали выборные начала, но только развитый выборный механизм и массовая электоральная база способствуют развитию массовых партийных структур, а те в свою очередь вносят здоровое конкурентное начало в политический процесс и содействуют управлению государством.
Наконец, вполне самостоятельное значение имеет появление такого важного социального института, как печать. Массовые газеты и журналы в отличие от своих малотиражных предшественников представляют значительный интерес для политиков и партий, поскольку через них последние свободно выражают свои позиции, а общественность приобретает некие возможности для контроля над властью.
Итак, первая модернизационная волна, охватившая наиболее развитые страны Запада, относится большей частью к XIX в. В то же время ряд стран (среди них и царская Россия) приступили к модернизационным преобразованиям несколько позднее. Для них принято использовать термин «догоняющая модернизация», хотя он является не вполне удачным, поскольку модернизация — это преимущественно объективный процесс с субъективной составляющей, с которым неуместно ассоциировать какие-либо гонки.
Так или иначе, для стран с запаздывающей модернизацией (Россия, Япония, Турция, Китай и др.) многие преобразования, протекавшие для наиболее развитых стран поэтапно, спрессовались во времени (например, незавершенный промышленный переворот наложился на индустриализацию) и это наталкивает нас на мысль, что следует говорить не о едином модернизационном процессе, а о национальногосударственных модернизационных моделях в рамках единого вектора развития. Существовали американская, британская, французская, российская и прочие модели, и говорить о том, какая из них правильная или ненравильная, — бессмысленно. Еще более вредным представляется ставить в пример какую-либо модель (скажем, американскую).
Говоря о российской модернизационной модели, в корне неверно датировать ее начало реформами Петра I. В ходе них осуществлялась милитаризация и секуляризация российского общества, формировался абсолютизм и усилилось дворянство, но сама петровская европеизация в конечном счете носила верхушечный характер и исчерпала свой ресурс, видимо, к концу XVIII в. Для перехода к промышленному перевороту, который в развитых странах Запада составлял экономический фундамент первой модернизационной волны, требовалась отмена крепостного права. Но этой меры правительственные круги боялись больше всего, хотя и понимали ее неизбежность. Итогом этой почти тупиковой ситуации стала общественно-политическая и хозяйственная стагнация, а также усиливающаяся бюрократизация и управленческая косность.
Модернизационные импульсы, разумеется, возникали время от времени в российском государстве, но получили развитие лишь после крестьянской реформы 1861 г. В 1880-е гг. в России, пусть и с опозданием на 20—30 лет по сравнению с Западом, завершается промышленный переворот, а в 1890-е гг. начинается индустриализация. И все же с учетом определенных достижений начала XX в. экономический потенциал страны «концентрировался в аграрном секторе… К 1913 г. относительное положение России по производству основных промышленных товаров улучшилось, однако она все же отставала от ведущих индустриальных держав мира. Только по производству текстиля Россия занимала положение, примерно равное Германии, крупнейшему промышленному производителю на континенте»[5].
Огромные территориальные пространства, располагавшиеся в основном в зоне рискованного земледелия, сложный этноконфессиональный состав населения, его преимущественно крестьянский характер — все это затрудняло осуществление модернизационных преобразований. Но главное — экономическая модернизация длительное время не подкреплялась модернизацией политической. Несмотря на либеральные поползновения отдельных представителей правящей элиты, монархический режим практически не соглашался с идеей разделения властей. Трудно шел процесс наделения избирательными правами российских граждан. Первоначально лишь земское движение олицетворяло развитие достаточно влиятельных общественных организаций, подготавливая становление политических партий. Но в целом в первые десятилетия после крестьянской реформы трудно было говорить о кристаллизации основ гражданского общества. Как сетовал в дневнике известный либерал, министр внутренних дел П. А. Валуев, «страшно, что наше правительство не опирается ни на одном правительственном начале и не действует ни одною правительственною силою. Уважение к свободе совести, к личной свободе, к праву собственности, к чувству приличий нам совершенно чуждо. Мы… душим, вместо того чтобы управлять, и рядом с этим создаем магистратуру, гласный суд и свободу или полусвободу печати… Мы — смесь Тохгамышей с герцогами Альба, Иеремией Бентамом»[6].
В какой-то степени можно согласиться и с тем, что модернизации в условиях самодержавия противодействовали и антибуржуазность сознания самой продвинутой в социальном и в культурном отношении части интеллигенции, и слабая секуляризация массового сознания[7]. Так или иначе, утвердившаяся после революции 1905—1907 гг. дуалистическая монархия оказалась не способной противостоять дальнейшему обострению социально-экономических и политических противоречий, порожденному Первой мировой войной, и в 1917 г. страна вступила на путь революционных потрясений.
- [1] Федотова, В. Г. Модернизация «другой» Европы / В. Г. Федотова. —М" 1997. — С. 48, 49.
- [2] Политология: учебник / иод ред. С. Г. Киселева. — С. 168.
- [3] Политология: учебник / под. ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. —С. 469, 470.
- [4] Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.]. — С. 354—356.
- [5] Грегори, П. Экономическая история России: что мы о ней знаеми чего не знаем? Оценка экономиста / П. Грегори // Экономическая история: ежегодник. 2000. — М., 2001. — С. 14.
- [6] Цит. по: Соловьев, Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. /Ю. Б. Соловьев. — Л., 1973. — С. 20.
- [7] Миронов, Б. Н. Социальная история периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 2 / Б. Н. Миронов. — СПб., 1999. — С. 305.